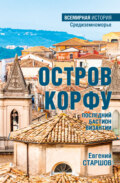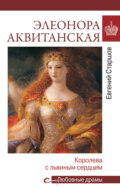Евгений Старшов
Индия и греческий мир
Интересна космотеогония орфиков, в которой, при желании, можно обнаружить если не чисто индийские элементы, то, по крайней мере, общие с индийскими. Изначально была первовода: сразу приводим параллель из «Брихадараньяка-упанишады» (V, 5), где говорится о воде как первооснове всего сущего: «Вначале это (т. е. все сущее. – Е.С.) было водами. Эти воды создали истину, истина – это Брахман. Брахман [создал] Праджапати, Праджапати – богов. Поистине эти боги почитали истину». Потом мы эту идею встретим у «отца греческой философии» Фалеса Милетского.
Возвращаемся к орфикам. Из первоводы порождается дракон времени по имени Геракл (или Хронос) – он двупол, крылат и трехголов, имея головы быка, бога и льва. Его появление сопровождает Адрастия – Неотвратимая, вступающая с ним в союз. Они порождают Эфир, Эреб и Хаос. В Хаосе из вращающегося в нем Эфира возникает яйцо – вновь параллель, и не только с Индией: в «Шатапатха-брахмане» (VI, 1.1.) сказано: «Праджапати… создал воды… Он пожелал: “Я хочу родиться из этих вод!” С этим трояким знанием он вступил в воды. Из этого возникло яйцо. Он коснулся его, сказав: “Да будет! Да будет, да будет больше!” Поистине так сказал он. Поистине из этого первым был создан Брахман, это поистине троякое знание. Поэтому говорят: “Брахман – перворожденное этой вселенной!”» Несколько иначе то же изложено в XI, 1, 6, где из золотого яйца появляется Праджпати, приведем этот фрагмент в рассказе о Фалесе; о космическом яйце также сказано в «Чхандогья-упанишаде» (III, 19). О яйце как прародителе всей жизни гласят и китайский миф – из яйца, так же, как у орфиков, зародившегося в хаосе, появился первый сверхчеловек Пань-гу, и «Анналы Японии» («Нихон секи», свиток 1) – «В древности, когда Небо – Земля были не разрезаны и Инь – Ян не были разделены, мешанина [эта] была подобна куриному яйцу, темна и содержала почку». Далее из «орфического» яйца вылупляется прекрасный златокрылый двуполый бог Фанес (иначе – Эрот и Метис), самооплодотворяющийся от нужды и порождающий Нюкту-ночь, от которой уже порождает череду богов и чудовищ.
Не менее интересен другой аспект учения орфиков, параллельный с индийским: метемпсихоз, то есть переселение душ. Душа человека, в отличие от тела, неуничтожима и потому перевоплощается, причем не обязательно именно в человека. Налицо та же индийская сансара – тягостный круг перевоплощений сообразно «заслугам», вырваться из которого можно только специальными обрядами и образом жизни: вот и орфики не убивали живых существ, не ели мяса и всего того, что посвящено подземным богам, – яиц, бобов. Согласитесь, все это нам более чем знакомо по Индии (джайнизм, позднее – буддизм, провозгласивший целью не просто освобождение от перерождений, а исчезновение из существования вообще), и все это мы еще встретим у Пифагора. Согласно Ф.Ф. Зелинскому, стремящиеся к освобождению от перерождений должны были трижды безупречно прожить свою человеческую жизнь и столь же безукоризненно пробыть в царстве Персефоны – своеобразном чистилище. Потом «освобожденных» ждали пиры в обществе богов или жизнь в каких-то иных блаженных мирах. В принципе Зевс орфиков – все тот же Брахман Упанишад; как пишет Эсхил (525–456 гг. до н. э.) в «Гелиадах»: «Зевс есть эфир, и небо – Зевс, и Зевс – земля. Зевс – все на свете» – вообще принято считать, что этот великий трагик был посвящен в Элевсинские мистерии, поэтому тщательный анализ как полностью сохранившихся его творений, так и фрагментов утраченных, может дать весьма много интересного по теме тайных учений, посвящений, мистерий и т. д., подлинного материала по которой микроскопически мало.
Так мы подходим к вопросу религиозно-философского единобожия, общего у древних греков и индийцев, несмотря на всем известных олимпийских богов, этаких античных «бонвиванов», и бесчисленнейших богов индуизма, для размещения изображений которых порой не хватает храмовых стен. Простой народ, возможно, и считал, что все населено разного рода богами, духами, демонами и т. д. (и то это только предположение), что же до мыслителей, то они, пожалуй, были единодушны и постигали за многообразием форм и имен идею единого бога, так что имена для них были вещью чисто условной. Вот что пишет тот же Эсхил, «отец драмы» и «элевсинский пророк» в своем «Агамемноне»: «Кто бы ни был ты, великий бог, // Если по сердцу тебе // Имя Зевса, Зевс зовись».
Для Ксенофана Колофонского (ок. 570 – ок. 478 гг. до н. э.) бог – это то единое, которое он познал, воззрев на мир в его целости, как свидетельствует Аристотель. Ксенофан пишет: «Единый бог, величайший между богами и людьми, не подобный смертным ни внешним видом, ни мыслью… Всегда пребывает он в одном и том же месте, никуда не двигаясь; переходить с места на место ему не подобает… Но без усилия, силой ума он все потрясает… Всем существом он видит, мыслит и слышит… Богом наполнено все, повсюду уши у бога: слышит (или слышен) он через скалы, сквозь землю, равно как и прямо чрез человека, зане в груди он таит разуменье». Бог Ксенофана тождествен космосу; этот бог – тоже есть все, но не в разнообразии, а в высшем единстве… и это тоже – Брахман, источник многообразия мира по «Шветашватара-упанишаде (IV)»: «Он – единственный, не имеющий цвета, многоразлично прилагающий свою силу, создающий много цветов для скрытой цели, в нем в конце и в начале растворена вселенная, он бог; пусть одарит он нас чистым восприятием. Он поистине Агни, он – Адитья, он – Ваю, он – луна. Он поистине чистое. Он – Брахман. Он – воды. Он – Праджапати. Ты – женщина. Ты – мужчина. Ты – юноша или девушка. Ты, как старик, ковыляешь, опираясь на палку. Рожденный, ты смотришь во все стороны. Ты – темно-синяя птица, ты – зеленая птица с красными глазами. Ты – [туча] с молнией в [его] лоне. Ты – времена года и моря. Не имеющий начала, ты вездесущ, тобою рождены все миры. Единственная нерожденная, красно-бело-черная, рождает многочисленное потомство, подобное ей. Один нерожденный поистине лежит рядом, наслаждаясь. Другой нерожденный оставляет ту, которой насладился». Как человек весьма язвительный, греческий философ высмеивает «богов толпы»: «Ведь люди воображают, будто боги рождаются, имеют одежду, голос и телесный облик, как и они… Эфиопы [утверждают, что их боги] курносы и черны, фракийцы – [что они] голубоглазы и рыжеволосы… Но если бы быки, [лошади] и львы имели руки и могли ими рисовать и создавать произведения искусства, подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей, быки – на быков и придавали бы им тела такого рода, каков телесный облик у них самих».
Единый, высший бог Платона – бог-демиург, бог-ремесленник, создатель мира, «отец всех вещей», из мысли и разума которого возникло время. Как и Брахман, согласно «Мундака-упанишаде» (I,1): «Брахма возник первым среди богов как творец всего и охранитель мира». Что же до прочих, низших богов, то они – тоже его творение, из огня; это – планеты! А в богов народного политеизма надо просто «верить, чтоб не ослушаться закона», – естественно, Платону была памятна казнь его незабвенного учителя, Сократа. Бог Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) – движущая причина, «перводвигатель» Вселенной, хоть сам и неподвижен, ибо он – «некоторая сущность, вечная, неподвижная и отделенная от чувственных вещей». И это – Брахман как первопричина, согласно «Шветашватара-упанишаде» (VI): «Одни мудрецы говорят о естестве, другие – о времени [как о первой причине]; они заблуждаются. Именно величие бога в мире движет колесо Брахмана. Он – постоянно объемлющий весь этот мир, знающий, творец времени, носитель свойств, всеведущий. То, что знают как землю, воду, жар, ветер и пространство, есть движимое им, свершаемое действие». При этом Аристотель отделяет бога от мира, это мыслящий сам себя разум, некий духовный Абсолют – тоже как и Брахман, который «вне трех времен… Он – выше древа [жизни], времени и сотворенного и отличен от них. От него – круговорот видимого мира, он – приносящий добро и отвращающий зло, владыка счастья; познав его, пребывающего в атмане, бессмертного, как опору всего [достигают Брахмана]» (там же, VI).
Так мы практически поверхностно «скользнули» по теме эллинского единобожия, приведя заодно древнеиндийские аналогии. А вот еще одно сильное индийское свидетельство той же мысли, с одной стороны, развенчивающее «божественность» богов и, с другой, сводящее все это кажущееся множество богов к единому Брахману, который, как было показано выше, сам и есть все («Брихадараньяка-упанишада», III («Поучения Яджнявалкья»): «Затем стал спрашивать Видагдха, потомок Шакалы. “Сколько существует богов, Яджнявалкья?” – спросил он. Тот ответил согласно тому, что [упомянуто] в нивиде: “Столько, сколько упомянуто в нивиде песней, восхваляющих Вишвадеву: три и триста, три и три тысячи”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Тридцать три”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Шесть”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Три”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Два”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Полтора”. – “Так, – сказал он, – поистине сколько же богов, Яджнявалкья?” – “Один”. – “Так, – сказал он, – которые эти три и триста, три и три тысячи?” Он ответил: “Это лишь их проявления, богов же – тридцать три”. – “Кто эти тридцать три?” – “Восемь Васу, одиннадцать Рудр, двенадцать Адитий – это тридцать один, а также Индра и Праджапати – [всего] тридцать три”. “Кто же Васу?” – “Огонь и земля, ветер и воздушное пространство, солнце и небо, луна и звезды – они Васу, ведь в них обитает все это. Поэтому называются они Васу”. – “Кто же Рудры?” – “Десять пран в человеке, одиннадцатый – атман. Когда они покидают это умирающее тело, они заставляют рыдать [близких]. Они заставляют рыдать, потому они Рудры”. – “Кто же Адитьи?” – “Поистине двенадцать месяцев года суть Адитьи. Ведь они движутся, увлекая за собой все это. Они движутся, увлекая за собой все это, потому они Адитьи”. – “Кто же Индра, кто Праджапати?” – “Гром – это Индра, приносимое в жертву – это Праджапати”. – “Кто же гром?” – “Молния”. – “Кто же приносимое в жертву?” – “Скот”. – “Кто эти шесть?” – “Эти шесть: огонь и земля, ветер и воздушное пространство, солнце и небо, ведь эти шесть – все это”. – “Кто эти три бога?” – “Поистине эти три мира, ибо в них все эти боги”. – “Кто же эти два бога?” – “Поистине пища и дыхание”. – “Кто же полтора?” – “Тот, кто, очищая, веет там”. – “Говорят: если тот, кто, очищая, веет, как бы един, почему же он полтора?” – “Потому что в нем возросло все это, потому он полтора”. – “Кто один бог?” – “Дыхание. Он – Брахман. Его называют тьят”».
Да и в древнейшей части ведических гимнов, Ригведе, сказано (I. 164. 6, 46): «Незнающий, я спрашиваю мудрецов, которые знают, – как неразумный для получения знания: чем было то Единое, которое в нерожденном воображении создало и утвердило прочно шесть направлений мира?.. Его называют Индрой, Митрой, Варуной, Агни, а также небесной птицей Гарутман. Бытие едино, мудрецы же называют его различно: Агни, Яма, Матаришван».
Так, сделав краткий экскурс в мифологию и религию Древней Греции и Индии и наглядно показав параллелизм двух отраслей единого корня (в этом отношении также весьма интересна оставшаяся незавершенной работа В.Н. Топорова «Пиндар и Ригведа», в которой он представил сравнение эллинских и индийских гимнических традиций, подчеркивая историческое единство их мифов, религии и обрядов), приступим теперь к поиску «индийских отражений» в философии досократиков.
Глава 2
«Индийские отражения» в философии досократиков
К «досокрактикам» относятся ряд как предшественников, так и современников Сократа (ок. 469–399 гг. до н. э.), и даже порой их ученики, не принадлежащие к так называемым сократическим школам (представители последних опирались на учительский авторитет Сократа – это киники, киренаики, мегарцы и элидо-эритрейцы). Фигура этого величайшего титана мысли и этики по праву стала неким водоразделом в истории античной философии: если до него философы обращались к исследованию природы, занимаясь проблемой первоначала мира и т. д., то именно Сократ как бы «повернул» философию вовнутрь, обратив ее к человеку, к обществу. После его учения, фактически оставшегося неписаным, ибо мы его знаем только в изложении его учеников, Платона и Ксенофонта (ок. 430 – ок. 356 гг. до н. э.), которых (особенно первого) вполне можно заподозрить в приписывании покойному учителю собственных идей, воззрений и т. д. (по античному свидетельству Тимона, Платон «в такой мере разукрасил Сократа множеством наук, не желая оставить его “лишь исследователем нравов”) и поистине героической смерти, которой он его запечатлел, философия уже не могла быть прежней. Но мы обращаемся пока к первоистокам, к своеобразному «младенчеству» древнегреческой науки и философии, которая стремится познать и объяснить окружающий удивительный мир. При этом нельзя не отметить, что все труды досократиков погибли, остались лишь фрагменты, по большей части сохраненные более поздними авторами, и толкования этих фрагментов как древними, так и современными учеными тоже различны, поэтому, конечно, учение того или иного философа порой восстанавливается с определенным трудом и относительно гипотетически.
«Отец» как раз и древнегреческой науки, и философии – Фалес из города Милет в Ионии (государство в Малой Азии, ныне входит в состав Турции), один из знаменитых «Семи мудрецов». Чтобы охарактеризовать его кратко и емко, достаточно сравнить с человеком эпохи Возрождения – например с Леонардо. Фалес – мало того что философ; он и астроном, и геометр, и талантливый военный инженер, и политик. Его многоразличные таланты столь изумляли потомков, что они приписали ему финикийское происхождение: мы уже отмечали, что греки не «стеснялись» заимствований знаний у цивилизаций и народов, казавшихся им более продвинутыми в этом отношении, – да отчасти так и было, коль скоро основой греческого алфавита послужил финикийский. Считалось, что геометрии он научился у египтян и был первым, кто вписал прямоугольный треугольник в круг; как сообщает о нем древний историк философии Диоген Лаэртский (Лаэрций, ок. 180 – ок. 240 гг.) в своем труде «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (I, 27): «Учителей он не имел, если не считать того, что он ездил в Египет и жил там у жрецов. Иероним говорит, будто он измерил высоту пирамид по их тени, дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами». По мнению Э.Н. Михайловой и А.Н. Чанышева, в Вавилонии Фалесу побывать не довелось, однако с достижениями тамошней астрономии, равно как и с религиозно-мифологическими познаниями, добавим мы, он вполне мог ознакомиться через приграничную с Ионией Лидию – бывшую «аванпостом вавилонской культуры на западе». Как философ, «началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств» – таково свидетельство Лаэрция (I, 27); впрочем, тот же автор приводит некоторые его изречения, свидетельствующие о его вере в единого бога-творца (I, 35): «Древнее всего сущего – бог, ибо он не рожден. Прекраснее всего – мир, ибо он творение бога».
Вернуться к вопросу о боге, довольно подробно рассмотренному нами ранее, заставляет сравнение воззрений Фалеса с индийским аналогом. В советское время Фалеса обычно было принято записывать в материалисты и атеисты (даже еще раньше А.И. Герцен высказался: «Судьба Олимпа была решена в ту минуту, как Фалес обратился к природе»), отмечая, что он имел в виду воду как основу сущего, потому что ничто не может существовать и развиваться без влаги (такое толкование, кстати, предложил еще Аристотель – см.: Мет., I, 3, 983 b). Однако и тогда не все были едины в этом мнении: А.Н. Чанышев справедливо подчеркивает на основании цитаты из Диогена, что «вода» Фалеса – не только всем нам известная субстанция, но некая «божественная, разумная вода»; А.С. Богомолов говорит о «гилозоизме» – то есть одушевлении природы, пантеистическом «растворении» бога во всем сущем. Учитывая это, контраст с индийским текстом не будет уже таким резким: в «Шатапатха-Брахмане» сказано (XI, 1, 6): «Водами поистине было это вначале, лишь морем. Эти [воды] размышляли: “Как могли бы мы размножиться?” Они прилагали усилия, они предавались тапасу. После того как они предались тапасу, возникло золотое яйцо. Нерожденным был тогда год. Это золотое яйцо плавало столько времени, сколько длится год. Из него возник через год человек. Это был Праджапати. Поэтому именно через год рождает женщина, или корова, или лошадь; ибо через год родился Праджапати. Он пробил это золотое яйцо. Не было тогда никакой опоры. И плавало это золотое яйцо, пока длилось время одного года, пока оно несло его. Через год он пожелал говорить. Он сказал: “Бхух” – и возникла эта земля. Он сказал: “Бхувах” – и возникло это воздушное пространство. Он сказал: “Свар” – и возникло это небо». А.С. Богомолов и А.Н. Чанышев видят в «креационной» воде Фалеса отголоски преданий Египта (о Нун) и Вавилонии (об Апсу), равно как и сведения греческих поэтов о персонифицированных Океане и Тефиде как прародителях всего сущего: Гомер (VIII в. до н. э.) пишет в «Илиаде» (XIV, 200–202, 245–246): (Гера говорит Афродите:) «Я отхожу далеко, к пределам земли многодарной, // Видеть бессмертных отца Океана и матерь Тефиду, // Кои питали меня и лелеяли в собственном доме…». (Сон говорит Гере:) «…усыплю я и самые волны // Древней реки Океана, от коего все родилося». По этому поводу Плутарх (46—127 гг.) сообщает в трактате «Об Исиде и Осирисе» (гл. 34): «Думают, что и Гомер, подобно Фалесу, научившись у египтян, считал воду началом и источником всего».
С.Я. Шейнман-Топштейн, автор фундаментальной и весьма интересной работы «Платон и ведийская философия», говоря об учении Фалеса о воде как первооснове всего сущего, прямо отмечает, что Фалес мог заимствовать свое учение у древнеиндийских мудрецов как раз через Египет, так что наша «привязка» Фалеса к «Упанишадам» вовсе не является какой-то натяжкой. Более того, согласно мнению вышеупомянутой исследовательницы, именно «обучение» первых греческих философов у восточных народов объясняет феномен «внезапного» возникновения древнегреческой философии. С этим можно согласиться, но условно, принимая во внимание уникальный творческий гений греческого народа, развивший полученные знания до небывалых высот, ибо в противном случае выходит, что народы Египта, Вавилонии и Индии, которым ученые почти единодушно отказывают в создании «истинной» философии, передали то, чем не владели сами (подобный феномен наблюдался разве что в эпоху викингов, когда те, фактически не имея собственных развитых государств, успешно образовывали их за пределами Скандинавии – Данелаг в Англии, герцогство Нормандию во Франции, да ту же нашу Новгородско-Киевскую Русь). Итак, принимая во внимание сложный характер понятия «воды» у Фалеса, С.Я. Шейнман-Топштейн делает правильный вывод о том, что и греческий философ, и его индийские собратья толковали воду-первоначало как недифференцированную самодвижущуюся материально-духовную первостихию.
Таким же предстает «апейрон» – беспредельное, ибо как порождающее первоначало он не может иссякнуть, – ученика Фалеса, Анаксимандра (611–546 гг. до н. э.), не являющееся ни одной из стихий; части изменяются, учил он, но целое остается неизменным. Апейрон бескачественное, но правит всем и все объемлет. Вряд ли верно, исходя только из бескачественности и игнорируя все остальное, видеть в апейроне философское развитие гесиодовского Хаоса, да притом начало сугубо материально-вещественное, как это делают Э.Н. Михайлова и А.Н. Чанышев в совместной работе «Ионийская философия». Здесь вновь – аналогия с Брахманом «Упанишад»: бесформенным, бескачественным, беспредельным первоначалом – см., например, «Шветашватара-упанишаду» (IV): «Он (Брахман. – Е.С.) – единственный, не имеющий цвета, многоразлично прилагающий свою силу… в нем в конце и в начале растворена вселенная, он бог… Не имеющий начала, ты – вездесущ, тобою рождены все миры». Анаксимандр продолжает: «Из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время». С.Я. Шейнман-Топштейн ассоциирует этот мистический уклон греческого философа с поздневедийским учением о «нечестивости» существ, должных путем аскезы и очищения достичь идеального бытия – Брахмана – и раствориться в нем.
Третий представитель милетской школы, ученик Анаксимандра Анаксимен (ок. 570 – ок. 510 гг. до н. э., предположил, что светила обращаются вокруг Земли), материально-духовной первостихией избрал воздух, придав ему «беспредельность». По свидетельству Блаженного Августина (354–430 гг.), Анаксимен считал, что «не богами создан воздух, а что они сами из воздуха». В индийских писаниях содержится концепция «праны» – дыхания как «опоры» человека, основы его существования, без которой он жить не может, в отличие от потери, например, слуха, зрения и т. д.: в «Чхандогья-упанишаде» (VII, 15) сказано: «Поистине подобно тому как на ступице колеса укреплены спицы, так и на этом дыхании укреплено все это. Дыхание движимо дыханием. Дыхание дает дыхание. Дыхание – это отец, дыхание – мать, дыхание – брат, дыхание – сестра, дыхание – учитель, дыхание – брахман». В данной цитате речь идет о брахмане как человеке, принадлежащем к варне жрецов-брахманов, однако по индийскому универсализму легко предположить, что дело дойдет до того Брахмана, о котором мы все время говорили. И действительно: «Кто один бог?» – «Дыхание. Он – Брахман. Его называют тьят» («Брихадараньяка-упанишада», III – «Поучения Яджнявалкья»). Правда, там же (I, 5) можно встретить и иное утверждение: «(Небо и солнце) сочетались. От них родилось дыхание. Оно – Индра». Но это не столь важно. Свидетельство Аэция о том, что «по Анаксимену, воздух [есть бог]. Следует же под этим разуметь общие силы, пронизывающие стихии и тела», вновь отсылают нас к аналогии с Брахманом.
Все формы природы Анаксимен сводит к воздуху: разрежаясь, он становится огнем, потом – эфиром; сгущение воздуха последовательно образует ветер, облака, воду, землю и камень. В «Упанишадах» есть отдельные упоминания о взаимопревращении стихий и элементов (например, огонь обращается в ветер, и наоборот), но четкой системы они, к сожалению, не представляют.
Уничтожение Милета персами в ходе Ионийского восстания (499–493 гг. до н. э.) прервало дальнейшее развитие милетской школы натурфилософии, но, продолжая разговор об Ионии, следует сказать о Гераклите Эфесском. Он был человек мрачный и необщительный, царского рода, однако предпочел власти философию и поистине йогическое бытие отшельника. Лаэрций передает характерные рассказы об этом (IX, 2–3): «Просьбою эфесцев дать им законы он пренебрег, ибо город был уже во власти дурного правления. Удалившись в храм Артемиды, он играл с мальчишками в бабки, а обступившим его эфесцам сказал: “Чему дивитесь, негодяи? Разве не лучше так играть, чем управлять в вашем государстве?” Возненавидев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и травами». Считается, что он так и не создал своей школы (хотя Лаэрций пишет, что у него были последователи, стяжавшие себе прозвище гераклитовцев), однако примыкает к милетцам общим с ними положением о наличии материально-духовной первостихии, которой Гераклит полагал огонь как нечто наиболее изменчивое и подвижное; он порождает весь мир согласно необходимости – «логосу», закону бытия, создающему каждую вещь, – короче, Брахманом; он же и поглощает его в урочное время – по истечении «великого года», когда Мировой Пожар превращается вместе с тем и в Мировой (в смысле, конечно, Всемирный) Суд – «огонь все обоймет и всех рассудит», и так – постоянно (IX, 8): «Вселенная конечна, и мир один. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в течение всей вечности; совершается это по Судьбе». При этом огонь Гераклита вечно живой, просто в меру загорающийся и в меру потухающий. Чтобы не повторять аналогии с Брахманом, который тоже уподобляется огню – например, в «Шатапатха-брахмане» (VI, 1, 1, 10), отметим вскользь, что еще древняя Ригведа (VIII, 58, 2) сообщает о едином, многоразлично возгорающемся огне. Согласно Гераклиту (по Лаэрцию, IX, 8–9): «Начало есть огонь; все есть размен (amoibē) огня и возникает путем разрежения и сгущения… Изменение есть путь вверх и вниз, и по нему возникает мир. Именно, сгущающийся огонь исходит во влагу, уплотняется в воду, а вода крепнет и оборачивается землей – это путь вниз. И с другой стороны, земля рассыпается, из нее рождается вода, а из воды – все остальное (при этом почти все он сводит к морским испарениям) – это путь вверх. Испарения рождаются от земли и от моря, одни – светлые и чистые, другие – темные: от светлых умножается огонь, от иных – влага».
В «Чхандогья-упанишаде» (V, 4–9) есть весьма интересное место, довольно мифологизированное, но весьма соответствующее вышеизложенному аспекту учения Гераклита: «Поистине, Гаутама, тот мир есть [жертвенный] огонь. Солнце – его топливо, лучи – дым, день – пламя, луна – угли, звезды – искры. На этом огне боги совершают жертвоприношения веры. Из этого жертвоприношения возникает владыка Сома. Поистине, Гаутама, Парджанья есть [жертвенный] огонь. Ветер – его топливо, тучи – дым, молния – пламя, гром – угли, град – искры. На этом огне боги совершают жертвоприношения владыки Сома. Из этого жертвоприношения возникает дождь. Поистине, Гаутама, земля есть [жертвенный] огонь, год – его топливо, пространство – дым, ночь – пламя, страны света – угли, промежуточные страны света – искры. На этом огне боги совершают жертвоприношения дождя. Из этого жертвоприношения возникает пища. Поистине, Гаутама, пуруша есть [жертвенный] огонь, речь – его топливо, дыхание – дым, язык – пламя, глаза – угли, уши – искры. На этом огне боги совершают жертвоприношения пищи. Из этого жертвоприношения возникает семя. Поистине, Гаутама, молодая женщина есть [жертвенный] огонь, ее бедра – топливо, вожделение – дым, ее лоно – пламя, совокупление – угли, услада – искры. На этом огне боги совершают жертвоприношение семени. Из этого жертвоприношения возникает зародыш. Так во время пятого жертвоприношения воды начинают говорить по-человечьи. Зародыш в оболочке, после того как пролежал в лоне десять или девять месяцев или около этого времени, рождается. Родившись, он живет столько времени, сколько [длится] его жизнь. После того как он умирает, его относят в предустановленное [место] – к огню, из которого он пришел, из которого он возник».
Теперь мы подробнее остановимся на эсхатологическом аспекте учения Гераклита, т. е. учении о конце света. Логично предположить, что такая мысль – раз мир имеет начало, непременно быть у него и концу – не сугубо греческая и даже не сугубо индийская, скорее, общечеловеческая, однако именно в индийской философии цикличность бытия миров изложена предельно четко, плюс налицо – совпадение с Гераклитовым учением (цикличности существования миров нет, например, в христианстве, хотя Страшный суд имеется). «Великий год» Гераклита – это срок жизни 360 поколений людей, примерно 10 800 лет. «Индийская» Вселенная существует в «день Брахмы» (Брахма – то же, что и Брахман), уничтожается – в «ночь Брахмы». Вопрос, сколько длится «день Брахмы»? Он состоит из 12 000 «божественных лет», каждый день из которых равен году человеческой жизни, итого получаем 4 320 000 наших лет. Но это – только начало индийской эсхатологической арифметики: из «дней Брахмы» составляется «год Брахмы», а «сто лет Брахмы» составляют, соответственно, «век Брахмы». Так вот, когда он исполняется, наступает «великое уничтожение мира», вместе с которым гибнет и сам Брахма – после чего, правда, возрождается, и все идет сначала. Оговоримся: это только один из вариантов этого исчисления, но приводить прочие нет особого смысла – например, исчисленный выше «день Брахмы» составляет лишь одну тысячную его же дня по другому счету. К смерти же богов индусы относятся довольно философски, как гласит «Каушитаки-упанишада» (II): «Теперь о том, как боги умирают везде и всюду. Поистине сияет этот Брахман, когда пылает огонь. Поэтому он умирает, когда [огонь] не пылает. Жар его уходит в солнце, в ветер – дыхание. Поистине сияет этот Брахман, когда видно солнце. Когда не видно его, он умирает. Жар его уходит в луну, в ветер – дыхание. Поистине сияет этот Брахман, когда видна луна. Когда не видно ее, он умирает. Жар его уходит в молнию, в ветер – дыхание. Поистине сияет этот Брахман, когда сверкает молния. Когда она не сверкает, он умирает. Жар его уходит в страны света, в ветер – дыхание. Поистине все эти божества уходят в ветер. Умерев в ветре, они не умирают. Они возникают из него вновь».
Среди всех ранних философов Гераклит выделяется тем, что он первым (в западной философии, оговоримся сразу) ввел в употребление диалектический метод. Действительно, одни из его известнейших аксиом – что все течет, все изменяется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Он отмечает, что морская вода для рыб – питье и спасение, а для людей – гибель и отрава; прекраснейшая обезьяна безобразна, если сравнить ее с человеком. «Ослы золоту предпочли бы солому». Лаэрций сохранил его высказывание (IX, 8): «В противоположностях то, что ведет к рождению, зовется войной и раздором, а что к обогневению, – согласием и миром». Борьба и распря – основа мироздания: «Борьба – отец всего и царь над всем», а отсюда уже проистекает гармония, сводящая противоположности в тождество. Он обратил внимание на то, что существенное изменение чего-либо производит нечто противоположное: холодное нагревается, горячее остывает – и, пусть формально не сделав всем известный вывод о тождественности противоположностей, тем не менее, отмечает: «противоречивость сближает», приводя пример, что врачи лечат боль, боль же причиняя. Еще диалектические фрагменты: «Связи: целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, согласное и разногласное, и из всего одно, и из одного все». «В нас одно и то же живое и мертвое, бодрствующее и спящее, юное и старое. Ибо это, изменившись, есть то, и обратно, то, изменившись, есть это». Вот вкратце – но вовсе не для того, чтобы просто проиллюстрировать мысль о том, что Гераклит был диалектиком. Ведь и в Индии примерно в то же самое время, даже на полвека пораньше, выступает со своим учением диалектик Будда. Как пишет М. Рой: «Не будучи знакомы с индийской буддистской философией, западноевропейские философы, в особенности Гегель и Энгельс, считают, что диалектику открыл Гераклит. За 50–60 лет до Гераклита эту истину открыл Буддхадэва…» Ранний буддизм так и учит: все сущее универсально изменяется; кажущееся вечным исчезнет, высокое снизится, рожденное умрет. На вопрос, адресованный Будде, видел ли он, какие у проходившей девушки глаза, стать, груди и бедра, суровый диалектик ответил примерно так, как позже выразился о человеческом естестве Шекспир, – что видел «мешок кровавой слизи и костей», а вот девушки не заметил.