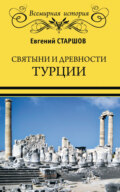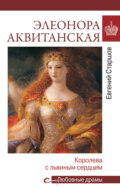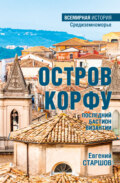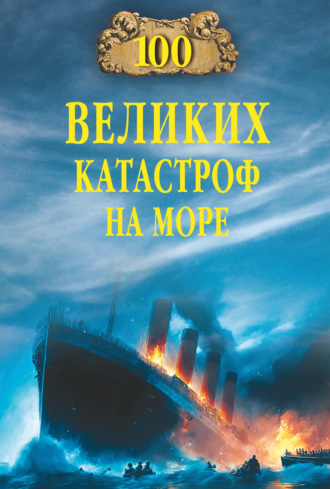
Евгений Старшов
100 великих катастроф на море
Катастрофа у мыса Улу-Бурун (XIV в. до н. э.)
Обнаружение древнего торгового судна неподалеку от мыса Улу-Бурун (юго-запад Турции, побережье древней Ликии) порой сравнивают по своей значимости с находкой гробницы фараона Тутанхамона. Останки этого корабля официально признаны старейшим «рэком» в мире (этим английским словом – wrack – принято именовать подобные объекты на дне морском), хотя его оспаривает кораблекрушение из Шайтан-Дереси (XVI в. до н. э., о нем – позже). В 1982 г. его случайно обнаружил ныряльщик за губками Мехмет Чакыр, и уже 23 октября на него совершила погружение первая научная экспедиция под руководством Огуза Ольпена – директора Бодрумского музея подводной археологии (основан Ольпеном в 1962 г.).
15-метровый корабль лежал на донном склоне, так что его нос находился на глубине 61 метр, а корма – 44 метра. С 1984 г. начались подъемные работы останков судна и груза, которыми руководил профессор Джордж Басс, а затем доктор Кемаль Пулак. За 11 сезонов было совершено более чем 22 400 погружений. Исследования показали, что корабль был изготовлен из кедрового дерева около 1400 г. до н. э., имел грузоподъемность 20 тонн и затонул в промежутке между 1316 и 1305 гг. до н. э. Рядом с ним обнаружены обломки весел и 24 каменных якоря. Определить, какому народу или государству он принадлежал, затруднительно, а то и невозможно. Дело в том, что груз был «интернационален» – обнаружено много египетских золотых украшений, греческой микенской керамики, кипрской меди и т. п. (обо всем этом – чуть ниже), поэтому это мог быть равным образом корабль греческий (микенская керамика носит следы ее употребления, но она была широко распространена в Древнем мире), финикийский (корабль изготовлен из знаменитого библейского «кедра Ливанского», но его могли построить и на экспорт), египетский, кипрский (что тоже не исключено, принимая во внимание характер груза), или даже одного из государств Малой Азии – Хеттской империи, Арцавы, Аххийявы или Лукки.
Основным грузом судна была кипрская медь в плоских четвероугольных слитках – одни имели форму подушки, другие, для удобства переноски, – по 4 рукояти. Кипр был весьма славен своими медными рудниками (считается, что он и дал меди ее латинское название – Cuprum) и был видным экспортером этого металла. Явно медь была загружена на Кипре. Ее груз на улу-бурунском корабле составлял 10 тонн, также была погружена тонна олова. Такое соотношение было отнюдь не случайным, ибо для изготовления бронзового оружия и доспехов как раз требовались медь и олово в соотношении десять к одному. Стало быть, это был стратегический груз, объем которого представлял возможность изготовить оружие для приличной по тем временам армии. Заодно такой груз служил прекрасным балластом.

Улу-бурунский корабль
В 149 амфорах перевозили смолу; также обнаружены слитки синего кобальтового стекла в форме блинов – старейшие известные экземпляры. Это был сырец для производства микенских бус. Не менее интересны находки слоновой кости и зубов бегемотов, перевозимых в корзинах, страусовых яиц (в качестве сырца для бус и светильников), нескольких мечей и кинжалов, наконечников копий и, конечно, ювелирных изделий, преимущественно египетских. Среди них выделяется статуэтка богини Исиды (но, возможно, и Астарты) с золотыми головой, руками и ногами, золотая печать царицы Нефертити в виде скарабея (единственный сохранившийся экземпляр в мире), золотая подвеска с голой богиней в египетском головном уборе, золотая нагрудная бляха в виде сокола, золотой кубок, подвески, бусы и пр., а также золотой и серебряный лом.
Обнаруженные на судне рыболовные крючки и свинцовые грузила для сетей свидетельствовали о том, что команда промышляла для себя рыбу во время путешествия; также в рационе древних моряков или в виде товара на продажу на судне присутствовали миндаль, фиги, оливки и виноград.
Турки поступили очень интересно: оригиналы находок размещены в экспозиции, посвященной эпохе бронзового века, а в одном из помещений музея (который расположен в замке Святого Петра XV в., некогда принадлежавшем родосским рыцарям-иоаннитам, поэтому экспозиции «рассеяны» по разным помещениям и башням) представили корабль «в разрезе», в масштабе 1: 1, где показаны размещение грузов и даже представлены будни команды (моряки трудятся, подирают паруса, а микенский купец угощает финикийского вином). Под кораблем показано, как все эти предметы лежали на дне морском – горы амфор, слитки и т. п. (это тоже копии). В общем, весьма наглядно.
Улу-бурунский корабль – самый знаменитый, но далеко не единственный экспонат Бодрумского музея подводной археологии. В залах эпохи бронзового века есть экспонаты, поднятые с места кораблекрушения у мыса Гелидония – первого подобного археологического объекта, собственно, и давшего начало музею. Гелидонский корабль также был найден у берегов древней Ликии, на глубине 26–28 метров, все найденное было понято за одно лето 1960 г. Корабль был 9—10 метров длиной и затонул в XII в. до н. э. Его основной груз также составляли слитки кипрской меди – 34 штуки по 25 килограммов. Были найдены многие бронзовые предметы кипрского производства – топоры, резаки, ножи, иглы, а также египетская бритва и финикийская лампа и печати (одна из них, принадлежавшая, по-видимому, капитану, была на 500 лет древнее самого корабля). Это был финикийский корабль, загрузившийся на Кипре; рядом с ним был найден массивный каменный якорь.
При Шайтан-Дереси в XVI в. до н. э. случилась если не катастрофа, то авария точно: корабль вез большой груз амфор и иных керамических сосудов, которые и были найдены на глубине 33 метров в 1975 г. Однако полнейшее отсутствие останков корабля не дает право этому событию считаться древнейшим кораблекрушением. Полагают, что корабль просто перевернулся в шторм; груз выпал и рассеялся по дну, а сам он остался на плаву в перевернутом состоянии.
В здании бывшей часовни замка хранятся образцы груза и предметы с византийского корабля VII в. (пластина свинца, молотки, кувшины, лампы, кадильница с крестом, замечательные весы с гирей в виде торса и головы богини Афины, цепями и крюками для взвешивания), а также воссозданная в масштабе 1: 1 носовая часть судна с грузом кувшинов и модель всего корабля в разрезе.
Есть в отдельной экспозиции и останки довольно большого корабля, потерпевшего крушение в 1025 г. У турок оно известно как «стеклянное кораблекрушение», так как основную массу груза составили изделия из стекла, произведенные в Фатимидском халифате (потрясает разнообразие форм – порядка 200 видов!). Несмотря на это, корабль, видимо, принадлежал христианину (на борту был еще груз вина, свинцовые гирьки с крестами, византийские печати и, самое главное, свиные кости; мусульмане ж свинину не едят!) и направлялся в Византию. Последняя в те века чуть ли не по расписанию воевала с арабами, что совершенно не мешало обоим государствам торговать. Вообще, при Василии II Болгаробойце (958—1025; правил реально с 976 г.), к правлению которого и относится «стеклянное кораблекрушение», война византийцев с арабами, как пишет О. Г. Большаков в его работе «Византия и халифат в VII–X вв.», была «…таким же обычным сезонным занятием, как сев или жатва. Почти ежегодно, если не было внутренних осложнений (крупных восстаний или жестоких эпидемий), весной, когда верховые животные отъелись на весенних пастбищах, а в Малой Азии еще можно было найти подножный корм, в пограничных округах Сирии собиралось войско для очередного набега. Автор начала Х века Кудама ибн Джа’фар указывает даже точные даты: выступление в поход не позже 11 мая и возвращение в начале июля с расчетом, что поход займет 60 дней. Конечно, такую календарную точность походов в действительности трудно было соблюдать, так как византийская сторона могла внести серьезные коррективы… За три столетия противостояния Византии и Халифата наберется не более сотни спокойных лет». При этом характерен тон послания, с которым халиф ар-Рашид обращается к императору Никифору: «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. От Харуна, амира верующих, Никифору, румскому псу. Я получил твое письмо, сын безбожницы…» С другой стороны, продолжается бойкая торговля! Из империи, в частности, вывозится следующее, согласно трактату «Рассмотрение товаров» ал-Джахиза: «Из Рума привозят золотую и серебряную посуду, кайсаровские («царские») динары из чистого золота, лекарственные травы, шелковые ткани, парчу, горячих коней, рабынь, редкостные изделия из латуни, невскрываемые замки, лиры, специалистов по водоснабжению, агрономов, мраморщиков и евнухов… /и/ «абу каламун» – это византийская царская переливающаяся ткань с карминно-красным фоном и различными фиолетовыми переливами по красному и зеленому. Утверждают, что ее цвет меняется в зависимости от времени дня и яркости солнца. Ее цена очень высока». Часто по окончании очередного «сезона» войны устраивался обмен пленными: их подводили с обеих сторон к какой-нибудь пограничной реке в Малой Азии и по одному отпускали переходить по мосту, меняя таким образом равное количество; остаток уводили или ждали, когда привезут еще пленных для дальнейшего обмена. Как-то раз халифу ввиду недостачи пленных византийцев пришлось отдать на размен всех гречанок из своего гарема.
Вот в таких исторических условиях плыл наш корабль навстречу гибели. Он был двухмачтовым, длиной 16 метров, шириной – 5 метров, грузоподъемностью 35 тонн, нес косой «латинский» парус. На корме располагалась каюта капитана, в которой также находились некий высокопоставленный чин, носивший индийский меч с изображением птицы, и купец. Команда ютилась в каюте на носу. Кроме, собственно, восточных стеклянных сосудов корабль вез трехтонный груз битого стекла в мешках, предназначенного к переработке, вино, о чем мы уже упоминали (очевидно, принятое где-то по пути), чечевицу. Моряки коротали время за рыбной ловлей (найдены крючки и грузила) и игрой в шахматы и нарды, питались пойманной рыбой, свининой. Для защиты от пиратов на борту имелось достаточно оружия.
В начале сентября 1025 г. в сумерках корабль встал на якорь около города Лорима (ныне Бозуккале, 24 километра от Мармариса). Ночью что-то случилось с якорем – возможно, начавшийся шторм оборвал якорный канат, судно ударилось о камни и затонуло; команда спаслась. В наше время он был обнаружен на глубине 32 метра, и в 1977–1979 гг. были предприняты работы по подъему его останков и груза. Выяснилось, что его киль изготовлен из вяза, шпангоуты, детали набора и обшивка – еловые. Всего сохранилось порядка 25 % материала корабля (корма утрачена полностью), они были подвергнуты специальной обработке (была извлечена въевшаяся за века соль путем помещения останков в пресную воду на два года, потом их еще 2,5 года пропитывали этиленгликолем) и в период с 1984 по 1990 г. реконструированы.
Что еще интересного нашли на нем? Многочисленные амфоры (в них найдены виноградные и персиковые зерна, бобы и т. п.) с греческими надписями, горшки для приготовления пищи, металлическая египетская бадья, контрафактные исламские копии китайских тарелок эпохи династии Тан (618–907 гг.), медные монеты императора Василия II и золотые – халифа Эль-Хакима, металлический безмен, украшенный изображениями свиней, и свинцовые гири со знаком креста, также стеклянные гирьки для взвешивания драгоценных камней и специй, 4 византийские печати (буллы) с изображениями Христа и Богоматери, Y-образный якорь, балласт. Поднятые арабские сосуды хранятся в отдельной экспозиции, в полном мраке с подсветкой; там же представлен своего рода аквариум, в котором посредством макетов показано, как поднимали этот бесценный груз.
Не исключено, что именно на судне подобного типа погиб бывший константинопольский патриарх Михаил Кируларий (1000–1059) – инициатор раскола 1054 г., «благодаря» которому Восточная православная церковь доныне отделена от Западной католической. Будучи человеком агрессивным и амбициозным, привыкшим указывать византийским василевсам, он в итоге «довыступался». Против него официально готовился грандиозный судебный процесс, однако гибель Кирулария в кораблекрушении 21 января 1059 г. по пути к месту ссылки на остров Имврос сделала этот вопрос неактуальным.
По самой территории замка расставлено множество стеллажей с различными амфорами (также они представлены в так называемой «Змеиной башне»), кругом лежат якоря, древние каменные жернова, алтари, саркофаги и т. п. Кроме еще некоторых любопытных экспозиций, к морскому делу не относящихся (например, выставка оружия в Львиной башне, пыточная камера в донжоне или захоронение правительницы Ады (IV в. до н. э.) – названной матери Александра Македонского и сестры знаменитого карийского царя Мавсола (в древности Бодрум назывался Галикарнас, и там и стояло оно из 7 чудес Древнего мира – Галикарнасский мавзолей, усыпальница Мавсола и Артемисии II), есть одна, поистине не для слабонервных. Недаром она почти всегда закрыта, и что-то разглядеть можно лишь через оконце. Это массовое захоронение казненных крестоносцами галерных рабов.
Оно было обнаружено на глубине 3,5 метра во время раскопок у подножия Львиной (Английской) башни в 1993 г. Ноги всех 14 скелетов были закованы. Из найденных вместе с ними 4 монет три датированы правлением Великого магистра Эмери д’Амбуаза (1503–1512), на основании чего и датируется это злодеяние. Пласт земли со скелетами был целиком перенесен в верхнюю часть замка, где и выставлен в сопровождении соответствующей информации и фотографий.
Катастрофа виновоза у кипрской Кирении (IV в. до н. э.)
С 1974 г. треть острова Кипр оккупирована турками, вторгшимися туда для защиты турецкого населения острова во время попытки присоединения Кипра к Греции хунтой «черных полковников». Там была создана Турецкая республика Северного Кипра, не признанная ни одним государством, кроме Турции, но, несмотря на это, прекрасно развивающаяся. И вот на ее территории в городе Кирения стоит величественный замок, заложенный еще в Античности, но обретший нынешнюю форму во время венецианского владычества (1489–1571 гг.). Он теперь тоже известен как Музей кораблекрушений, хотя, честно говоря, его можно было бы точнее назвать музеем одного кораблекрушения. Экспозиций там много, включая и серьезные (с инвентарем захоронений разных эпох), и познавательно-этнографические (пытки кипрских тамплиеров, королевской любовницы Жанны ль’Алеманы, будни венецианских пушкарей и т. п.). Но «жемчужина» собрания – античное судно и его груз.
Небольшой торговый корабль затонул в полутора километрах от Кирении на глубине 18 метров около 300 г. до н. э., был обнаружен ловцом губок в 1965 г. и поднят вместе с грузом в 1967–1969 гг. Исследования корпуса, груза и оборудования показали следующее: к моменту кораблекрушения судно было уже чрезвычайно старо, так как было построено в 389 г. до н. э. из алеппской сосны и, таким образом, чуть-чуть не дотянуло до своего 90-летнего юбилея. Против морского червя-древоточца корабль был предохранен толстым слоем лака и свинцового покрытия. Набор кухонной утвари, в том числе чаш, деревянных ложек, бутылочек для оливкового масла и солонок, показывает, что команда корабля состояла всего из 4 человек, что, впрочем, было достаточно при длине корабля всего 15 метров. Отсутствие на корабле и рядом с ним скелетов приводит ученых к выводу, что команда спаслась при катастрофе. Обнаруженные 300 свинцовых грузил доказали, что моряки торгового судна заодно промышляли и рыбалкой. О том же, что судно было торговым, свидетельствует его груз: 400 амфор, 29 базальтовых жерновов и 9000 миндальных орехов в маленьких кувшинчиках, признаваемых основной пищей команды. Единственный парус, вероятно, был снят при шторме, поскольку сохранились 100 свинцовых колец, на которых он крепился к снастям, и все в одном месте.

Киренийский корабль
Анализ груза позволил определить последний маршрут старого корабля: свой путь в Кирению он начал с острова Кос, где взял на борт базальтовые жернова (их принадлежность определена благодаря высеченным надписям; они также могли служить дополнительным балластом); затем – предположительно – поплыл на север и приплыл на остров Самос, где мог взять всего 10 амфор чисто самосского типа, а затем пошел на юг и очутился на Родосе, где либо взял остальные 390 амфор, либо все 400, что более допустимо, включая 10 самосского типа (тогда не нужен крюк с Коса обратно на Самос). Далее корабль, скорее всего, шел вдоль побережья Памфилийского (Анталийского) залива, свернул к Кипру после Анамура и, как уже было отмечено, был застигнут бурей уже в виду Кирении и затонул со всем своим винным грузом.
Вообще, стоит отметить Родос как знаменитый винодельческий центр Античности и заодно как виноторговый. Он и обрел свое благосостояние, став процветающим торговым центром благодаря своему расположению на «перекрестке» торговых путей трех континентов – Европы, Азии и Африки: через остров идет торговля с Египтом, Сирией, Палестиной, Пергамом, Сузами, Сицилией, Южной Италией, Карфагеном и т. д. Ю. Б. Циркин, в частности, указывает, что в Бирсе – карфагенском Акрополе – было найдено множество фрагментов родосских винных амфор, в том числе ручек с клеймами, относящихся к 220–180 гг. до н. э. Если говорить о юге современной России и Крыме, то данные археологических раскопок в Северном Причерноморье свидетельствуют об оживленной торговле Родоса с Боспором, Ольвией и в меньшей степени – с Херсонесом Таврическим. На основании амфорных клейм, согласно работе Ю. С. Бадальянц «Торгово-экономические связи Родоса с Северным Причерноморьем в эпоху эллинизма (по материалам керамической эпиграфики)», вырисовывается следующая картина: торговля Боспора, Ольвии и Херсонеса с Родосом имела место с 332 по 30 г. до н. э., при этом самое оживленное время этих связей выпадает на период с 220 по 180 г. до н. э. Более того, с середины II в. до н. э. два Боспорских города – Фанагория и Горгиппия – начинают чеканку серебряных монет с родосскими эмблемами – цветком граната, головой Гелиоса и рогом изобилия между двумя звездами, что свидетельствует об однозначной экономической и политической ориентации некоторых городов Северного Причерноморья на Родос. Интересные данные по родосскому винному экспорту приведены в работе Ю. С. Крушкол «О значении вторых имен родосских амфорных клейм». Во-первых, только родосские амфоры имели клейма на обеих ручках, несших следующую информацию – имя эпонима, равносильное датировке года, так как эпонимы избирались только на год, затем месяц, и имя торговца-экспортера, разливавшего скупленное вино в изготовленные в своих мастерских амфоры, причем среди экспортеров встречались и женщины. Известны имена родосских виноторговцев Античности – Павсаний (один из крупнейших), Аминта, Марсий, Стратон, Дискос (также весьма крупный виноторговец), Истрос, Аристос, Дамократ, Иерон, Кратид, Ксенофан, Пратофан, Архократ, Тимасагор, Филодам, Менипп и Андроник (из них первые трое и двое последних торговали с Северным Причерноморьем). Даже в итальянской Равенне обнаружен могильный камень середины II в. н. э. Тита Юлия Никострата Родосца, согласно археологу Деборе Маускопф Дельяннис, именно виноторговца. Во-вторых, родосское вино не сбывалось однолетним, но выдерживалось; различалось сладкое вино осеннего, полусухое зимнего, ранневесеннего и весеннего и сухое летнего разлива. В каждой партии продаваемого вина обязательно было и сухое, и сладкое, причем разных лет. Клавдий Элиан (около 175 – около 235 н. э.) в своих «Пестрых рассказах» упоминает в числе «известных пьяниц» родосца Ксенагора, по прозвищу Амфора.
Уникальность киренийского виновоза, бесспорно, заключается в том, что это – старейшее из найденных доныне судов этого типа. В своем теперешнем виде оно представляет собой почти полностью сохранившийся днищевый набор. Часть груза киренийского корабля размещена на специально воссозданном фрагменте корабля для того, чтобы создать представление о том, как именно перевозились амфоры. В одном из залов представлена картина, воссоздающая внешний вид судна. Конечно, по масштабности местный Музей кораблекрушений, как он здесь именуется, не идет ни в какое сравнение с Музеем подводной археологии турецкого Бодрума, размещенным в замке Святого Петра, однако будем помнить старое присловье о том, что хоть и мал золотник – да дорог.