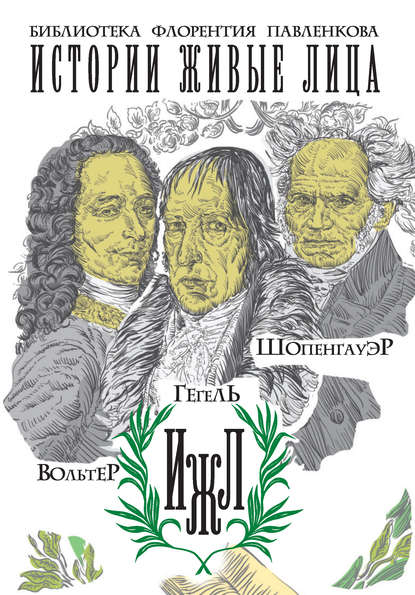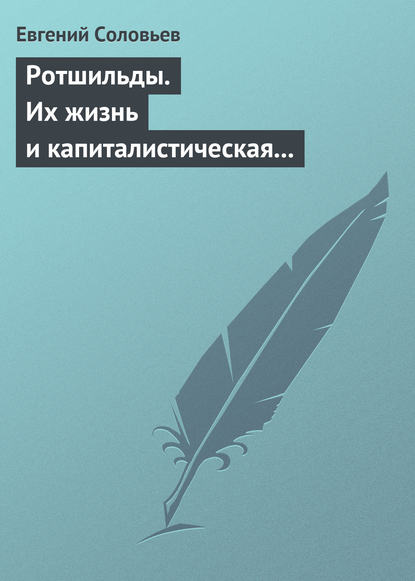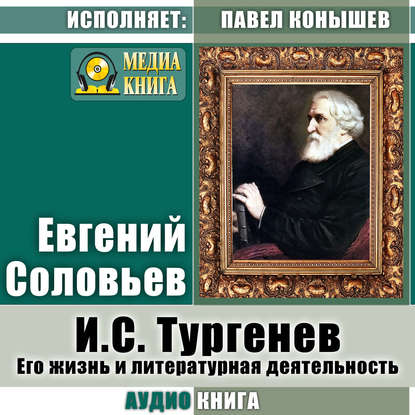Полная версия
Полная версияПолная версия:
Евгений Андреевич Соловьев Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Е. А. Соловьев (В. Д. Смирнов)
Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк
С портретом Герцена, гравированным в Лейпциге Геданом
От автора
Мой очерк посвящен жизни Герцена, его биографии.
Лучшая биография Герцена написана им самим. К «Былому и думам» мало что можно прибавить.
Но и кроме «Былого и дум» почти все произведения Герцена носят биографический характер. Настоящий герой Герцена – он сам, жизнь его собственного духа и сердца.
Я ограничился лишь некоторыми извлечениями и связью между ними.
Поэтому все хорошее в этой книге принадлежит самому Герцену, недостатки – мне.
Отчасти помогли моей работе: 1) воспоминания Т. П.Пассек; 2) работа г-на Батуринского«А. И. Герцен, его друзья-знакомые»; 3) статьи о Герцене А. М. Скабичевского.

Вместо предисловия
Освобождение крестьян по манифесту 19 февраля 1861 года стало для наших отцов призывом к полному обновлению жизни и прощанием со всем старым, что тревожило, мучило и возбуждало отвращение и даже ненависть. Манифест был прочитан по всей стране в самой торжественной обстановке, при звоне колоколов, священниками в полном облачении, и крепостная Россия исчезла с лица земли: пока она переводилась в разряд «временнообязанных». Во многих и многих местах народ праздновал, но в сущности это был праздник не серой мужицкой России, а главным образом интеллигенции, которая увидела в манифесте свою победу и прочла в нем призыв к политической жизни.
На первых порах она даже не спрашивала себя, так ли это, и с юношеской непосредственностью предавалась восторгу и ликованию, не чувствуя и не понимая, что и так уже зашла слишком далеко и что скоро ей придется вернуться назад и опять приняться за мирные и неслышные дела так называемых свободных профессий или переполнять собою департаменты. Теперь мы понимаем, что иначе и быть не могло, что интеллигенция не имела под собой почвы, что десяток людей и два-три кружка, которыми она гордилась в прошлой своей истории, значили мало, вернее, не значили почти ничего перед громадой окружающей жизни. Но тогда, особенно в первую минуту, ничего этого не было видно, а немногие скептические голоса терялись в общем шуме восторгов.
Конечно, для нас манифест 19 февраля не может иметь того интереса, значения, обаяния, наконец, которые он имел сорок с лишком лет тому назад. Мы плохо знаем его содержание и смотрим на него просто как на исторический документ…
Мы ясно видим, что манифест 19 февраля был уступкой старого новому, мерой, как бы упускавшей из виду, что население возрастает и будет возрастать изо дня в день, и поэтому-то наше отношение к нему не имеет и не может иметь ничего общего с отношением людей, для которых он, несомненно, был осуществлением давнишних желаний.
На самом деле с известной точки зрения манифест был торжеством и победой. Он завершил громадный период умственного и экономического развития России, и завершил его честно, хорошо, прогрессивно. Для его порождения удивительным образом соединились и всемогущество императорской власти, и вековое воздействие Европы, и работа интеллигентной мысли за целое столетие, и задолженность дворянских имений, и неясное волнение народной массы, искавшей вольности то в сектантских учениях, то в диких расправах над помещиками. Несмотря на неполноту, манифест – удивительно жизненный документ; в его сухих статьях и параграфах опытный взгляд историка найдет резюмированную работу четырех поколений, резюмированную сухо и сдержанно, но все же с сознанием важности и громадности предпринятого дела.
Манифест в той форме, в какой он нам известен, составлен и редактирован в петербургских канцеляриях. Все характерные особенности такого источника отпечатлелись в нем. Вы видите в каждой строке, как сознание невозможности не дать кое-что борется с опасением дать слишком много. Отсюда эти постоянные оговорки, ограничения, эти вечные «но»; отсюда, наконец, это превращение – как замечено выше – крепостной России не в свободную, а во «временнообязанную». Историческая неустанная работа целого столетия была осмыслена в канцеляриях несколько своеобразно. Сравните наказ императрицы Екатерины II и манифест 19 февраля. В первом не говорится ничего об освобождении крепостных, только намекается на это, и все же наказ – это утопия как для 1861 года, так и для нашего времени. За вечными оговорками и «но», за сухими статьями трудно рассмотреть страстные мечты лучших интеллигентов. Но это может быть сделано и когда-нибудь будет сделано во всей полноте и яркости.
Уже у Радищева мы находим в зародыше и отрицание прелестей нашего самобытного существования, и преклонение перед цивилизацией Европы. Вместе с тем его знаменитая книга, погубившая автора, исполнена состраданием к народу, мечтами о грядущей свободе. Радищев как бы предугадал и Чаадаева, и будущих западников; Шешковский был формально прав, упрекая его за нелюбовь к отечеству: «официальной» любви у Радищева на самом деле не было.
При Александре I интеллигентность и признание крепостничества законным, необходимым, незыблемым становились со дня на день все более несовместимыми. Это лучше всего проявилось в движении декабристов, увлекшем весь цвет нашего немногочисленного европейски образованного класса. Большинство декабристов – люди молодые, богатые, знатные, выросшие на революционной западной литературе, несомненно честные – не принимали близко к сердцу вопроса о конституции и формах правления вообще. Но рабство, эти вечные розги и палки, эта страшная Сибирь, куда люди ссылались по усмотрению помещиков, иногда просто за то, что они стали стары, слепы, глухи и, следовательно, их пришлось бы кормить, – вот что тревожило молодые и честные души, вот что возмущало их. Они погибли, как погиб и Радищев, как погибает всякий, кто на пятьдесят лет опередил свое время и не счел нужным затаить это в своей душе. В ту же александровскую эпоху жил Пушкин. Крепостничество, собственно, интересовало его очень мало, но он все же написал свой «Анчар», свою «Деревню», все же спрашивал в грустном раздумье:
Увижу ли, друзья, народ освобожденныйИ рабство, падшее по манию царя?И над отечеством свободы просвещеннойВзойдет ли наконец свободная заря?Приходится миновать тридцатые годы. Это годы романтических мечтаний, душевных гроз, тоскливой неудовлетворенности – словом, годы Лермонтова, Печориных, Чаадаевых, или проклинавших все, или одну Россию во имя величия Европы. На сцене действовали обреченные люди, искренне страдавшие, искренне мучившиеся. Один за другим гибли лучшие из них: Лермонтов – от пули, Полежаев – от водки… Чацкие были повсюду, они бросали в лицо обществу, которое презирали, «стих, облитый горечью и злостью», но чувствовали, как бесполезно все, что они делают, как бессмысленна и бесполезна вся жизнь их. Это – герои безвременья.
Но уже в сороковых годах мы находим идею созревшей вполне. Она как бы прошла через огненное крещение романтическим недовольством и лермонтовскими проклятиями. Она выросла и окрепла под ферулой немецкой идеалистической философии Шеллинга и Гегеля и как бы «определилась» после грозных, но не всегда ясных проклятий Лермонтова. С этой поры она знает уже, чего хочет и ищет. Печорины исчезают из жизни, но исчезают не под ударами насмешки, а просто потому, что их время прошло, что им нечего стало делать. Их можно помянуть добрым словом: они исполнили предназначенное им судьбой, хотя это исполнение стоило им жизни. Люди сороковых годов сменили романтиков тридцатых. На сцене, правда, фигурирует то же поколение, но оно стало думать и чувствовать уже по-другому. Белинский, сам переживший этот переворот, рассказал нам о нем в своей статье о «Герое нашего времени».
«Дух его созрел для новых чувств и дум, – пишет он о Печорине, подразумевая одновременно свой век и самого себя, – сердце требует новой привязанности: действительность – вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него».
Но что же это за действительность? Ведь не окружающая же жизнь, не крепостное право, не канцелярская служба. Все это было и раньше. Под действительностью Белинский понимает здесь какую-нибудь дорогую для сердца и полезную для жизни задачу, «святое дело», как выражались тогда. И оно нашлось, вернее же – возродилось. Дело это – то же освобождение крестьян – возникло из жажды облегчить жизнь обездоленному и стало центром интеллигентной работы уже надолго – с небольшим перерывом на целых двадцать лет. Интеллигентные кружки сразу, резко – как это возможно только у нас – меняют свою физиономию. Шеллинг забыт, Гегель по-прежнему считается божеством, но это уже другой Гегель, и выводы, которые делаются из него, совсем иные. Судьба как бы пожалела «бедную русскую мысль», метавшуюся из угла в угол, готовую преклониться в лице Чаадаева перед католицизмом, а в лице Киреевского падавшую ниц перед воротами Оптиной пустыни, и нашла для нее лекарства.
Ведь Печорины, как и все романтики тридцатых годов, ни за что не могли ясно и определенно ответить на вопрос, что же, собственно, так тревожит их, так мучает? Они просто чувствовали, что жизнь их «съедена» кем-то и сами они погибли ни за что, ни про что,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,Ни гением начатого труда…Они просто беспокойно метались. Они переживали то переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, в котором есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут возникает то, что на простом языке называется и хандрой, и ипохондрией, и мнительностью, и самомнением – названия, далеко не выражающие сущности явления, – и что на языке философском определяется как рефлексия. В этом состоянии человек как бы распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке какое-нибудь чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг начинает подсматривать, анализировать, исследовать, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение и какова их цель, – и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечном, как солнечный луч в граненом хрустале, рука, поднятая для действия, как окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет. Ужасное состояние… Оно закончилось, как выше замечено, в сороковых годах, с переездом Белинского в Петербург, с образованием кружка Герцена, Грановского и других, с появлением романов Жорж Санд. Идея, повторяю, определилась и, если можно так выразиться, «вочеловечилась». Отчего, например, так понравилась Жорж Санд? «А потому, – отвечает Белинский, – что для нее не существуют ни аристократы, ни плебеи; для нее существует только человек, и она находит человека во всех сословиях, во всех слоях общества, любит его, сострадает ему, гордится им и плачет за него…» Повеяло любовью, человечностью, и с отвлеченной высоты немецкой идеалистической философии русская передовая мысль спрыгнула в действительность.
Это был страшный прыжок, прыжок гиганта. Надо удивляться здоровью, силе, живучести тех, кто рискнул на него и уцелел. А рискнули и уцелели многие: между ними первые Белинский и Герцен.
Изменилось все – настроение, взгляд. К земле притянули самое искусство и постарались привязать к ней крепким узлом. Когда-то знаменитый стих Пушкина, обращенный к поэту:
Ты – царь, живи один… —казался уже смешным.
«Дух нашего времени таков, – читаем мы в статье 1843 года, – что величайшая творческая сила может только изумить на время, если она ограничивается „птичьим пением“, создает себе свой мир, не имеющий ничего общего с философскою и историческою действительностью современности, если она воображает, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее таинственных сновидений и поэтических созерцаний! Свобода творчества легко согласуется со служением современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего отечества, своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждений от дела, сочинения от жизни».
Таких мыслей не было в тридцатые годы. Тогда они показались бы смешными, странными, ненужными. Печорин презрительно усмехнулся бы, слушая их, хотя, несомненно, только в них было его спасение: они принесли бы неизмеримо больше пользы его усталой, надломленной душе, чем все поездки в Персию, чем все романы с Бэлами, Мери и так далее.
Умственные интересы изменились не менее резко. Оказалось уже недостаточным знать Гегеля или Шеллинга или цитировать наизусть Фейербаха. Впервые появляется преклонение перед естествознанием, и Герцен пишет свои «Письма об изучении природы». В петербургских журналах стали помещать статьи по вопросам политической экономии, естественнонаучные обозрения, описания новых эстетических теорий, и в то же время впервые была разъяснена русской публике позитивная философия Конта. Движение с каждым годом проникало и вдаль, и вглубь, но странно: несмотря на политико-экономические и естественнонаучные формулы, в которые оно облеклось, источником его было сердце. Что называется не осушив пера, Герцен после «Писем» принимается за «Сороку-воровку» – этот резкий памфлет против крепостничества; вскоре затем появляются первые очерки «Записок охотника» Тургенева, удивительно соответствовавшая духу времени повесть Григоровича «Антон-Горемыка». С этой минуты на знамени русской мысли красуется крупно и отчетливо написанное слово: «народничество».
«Проповедь, – пишет Герцен, – шла все сильнее… все одна проповедь, – и смех, и плач, и книга, и речь, и Гоголь, и история – все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом; все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума…» И, повторяю, источником всего этого было проснувшееся сердце. Люди тосковали, рвались на простор; но они уже знали теперь, почему они тоскуют и чего хотят.
«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел… Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя; враг этот был – крепостничество».
Так рассказывает о том периоде своей жизни Тургенев. В то же время в кружке петрашевцев нервно и возбужденно читал Достоевский свою «Неточку Незванову» и страстно декламировал:
Увижу ли, друзья, народ освобожденныйИ рабство, падшее по манию царя?…Причин такой резкой, разительной перемены я пока объяснять не буду. Мне важно лишь указать на перелом и напомнить читателю, с какой смелостью мысль его дедов от тоски и отчаяния тридцатых годов перешла к любви и вере.
Живой источник был найден, дверь в лучшее будущее чуть приотворилась, и люди вздохнули свободнее.
После 1848 года, под влиянием чисто внешнего давления, движение прерывается. Герцен оказывается за границей, петрашевцы идут в Сибирь искупать свои «грехи», Белинский умирает. Но мрачное семилетие 1848–1855 годов не может забить и заглушить всего. Это только отсрочка, болезненный, тяжелый кризис, после которого освобождение крестьян становится совершившимся фактом.
* * *Было, значит, о чем вспомнить, было чему порадоваться. Ведь, в сущности, со времени Петра Великого и его знаменитого указа о рекрутской повинности, закабалившего всю Россию вплоть до 19 февраля, продолжалась одна грандиозная историческая эпоха нарастания и уплотнения государственного начала. Это нарастание происходило роковым, стихийным образом, и каждый год приносил свой камень, чтобы возвысить громадное здание.
Государственность в старом смысле слова и полное обезличение идут всегда рука об руку. Это два тождественных явления, из которых одно порождает другое, образуя, в конце концов, переплетение взаимодействующих сил. Старая государственность не признавала за человеком ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себе занятие. Он должен был отдать себя всего, без остатка, в службу. Его жизнь была предопределена заранее, она вся проходила по чужой воле. Лучший пример такого полного поглощения человека – это военная служба при Николае Павловиче, продолжавшаяся целых 25 лет, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человеку самому, когда мог он пожить для себя, поесть не из казенного котла, лечь и встать не по барабану, повернуться в ту сторону, в которую хочет, обзавестись своей семьей? Ничего и никогда. У нас – кратковременная повинность, в то время – поглощение человека.
Прежняя государственность была безжалостна. Она, как Кальвин, объявляла, что для нее не существует людей, а только поступки. В Женеве ребенок, провинившийся в богохульстве, подвергался суровому наказанию. У нас дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшим за то, что он думал иначе, чем следует, ввела бесконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человека; и горе тому, кто отступал от правила: наказание постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была везде: в канцеляриях и департаментах, в казармах и семьях. От крестьянина она требовала только труда (во имя чего, кстати заметить, многие помещики брали на себя руководительство половым отбором), от солдата – только службы, от чиновника – только исполнительности, от детей – только повиновения.
19 февраля нанесло страшный удар этой строгой, суровой системе. Манифест говорил, что человек может жить и для себя. Он давал крестьянину свое поле, свой труд, возможность лично устраивать свое благосостояние. Он разрешал ему любить по-своему, жаловаться от себя, заниматься чем хочет. Он давал ему самоуправление. Начались другие реформы – судебные, административные, военные. Общество дружно подхватило их и само ввело реформу в семье. Дети заявили, что они хотят жить по-своему и для себя. Родителям пришлось согласиться.
Все это делалось во имя личной свободы человека и было осуществлением одной части интеллигентных мечтаний. Но манифест пошел дальше: он не только освободил крестьян – он освободил их с землею.
Говоря об этом, Достоевский впадает в лиризм. Он считает освобождение крестьян с землею великим фактом XIX века и началом новой эры. Не увлекаясь до такой степени, можно, по нашему мнению, сказать, что это событие – следствие того положительного, реального течения русской мысли, которое сформировало шестидесятые годы и само окончательно сложилось в это время.
Я уже говорил, что сороковые годы необходимо рассматривать как период перелома в интеллигентном миросозерцании. Тогда отрешились от романтизма и от метафизических воззрений, тогда перешли к изучению политической экономии и естественных наук, тогда же резко изменилось само понятие свободы. Прежде, под влиянием Шиллера, Шеллинга, Гегеля, ее понимали главным образом как свободу мысли, свободу сознания. «Свобода внутри вас» – это говорилось, доказывалось, возводилось в догмат. Раз ты освободил себя в мысли, ты свободен и больше тебе желать нечего. Фраза Гегеля:
«Иметь сто гульденов и думать, что ты их имеешь, – то же самое» – не возбуждала ни насмешек, ни недоумевающего пожимания плечами. Это был один из догматов зарвавшейся философской мысли, совершенно оторванной от действительности. И вдруг сенсимонизм, романы Жорж Санд, политическая экономия и естественные науки. Люди мучительно задумались над тем, что же такое свобода, которой они так страстно желали. Оказалось, что «иметь» и «думать» – не то же самое; что свобода сама по себе звук пустой; что, находясь внутри человека как самосознание, она должна опираться на что-нибудь внешнее; что нет права без возможности пользоваться им; нет свободы без возможности реализировать ее.
Это отчетливо доказал 1848 год. Конституции, которые лелеялись так долго, которые встречались с такими рукоплесканиями, летели в пропасть одна за другой, сопровождаемые свистом, шиканьем, проклятиями. А как хорошо расписаны были в них права человека, какие великолепные гарантии придуманы были юристами, как красиво звучали параграфы о свободных республиках, всеобщей подаче голосов, обязанностях правительств радеть прежде всего об общем благе, благе народов и подданных. И вдруг все рухнуло. Оказалось, что все это был один лишь мираж, декорации, которые исчезли немедленно, как только жизнь вступила в свои права. Правами и свободой воспользовались только те, кто имел эту возможность, а неимущие? Те по-прежнему влачили жалкое существование, не понимая, почему конституции так пышно распространяются о том, что они полноправны.
Итак, свобода не только в правах, в хартиях, в сознании. Ей нужна опора. Наш век ясно говорит, какая опора нужна ей. Это – экономический базис.
Манифест 19 февраля разрешил и этот вопрос, и разрешил его в смысле положительной философии и реального мышления. Он наделил свободного крестьянина землей. И это было на самом деле великим завоеванием жизни; быть может и правда, что это начало новой исторической эры.
Не все поняли указанную сторону манифеста. Но те, кто понял, приветствовали его еще больше, потому что
достигнутое было отчасти результатом и их трудов. Они работали над разрушением романтизма и идеализма, они всю жизнь проповедовали положительную философию, естествознание, политическую экономию, реализм.
В первом ряду среди этих деятелей стоит А. Герцен. Главная заслуга в том, что интеллигентная мысль сороковых годов получила новое направление, принадлежит ему.
Глава I. Детство, отрочество, юность
Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года, за несколько месяцев до нашествия Наполеона. Он был внебрачным сыном родовитого русского барича Ивана Алексеевича Яковлева и молодой немки Луизы Ивановны Гааг, которую Яковлев увез из Штутгарта. Более странную обстановку, чем та, которая окружала Герцена в детские годы, трудно себе и представить. И старое барство, и русское самодурство, и немецкая кротость, и безалаберность крепостничества, и европейские замашки соединились вместе возле его колыбели сначала, возле его комнатки потом, чтобы создать один из самых разносторонних умов, которые только знает наше прошлое.
Его отец, Иван Алексеевич, вернувшись в Москву из-за границы, где он, скучая и зевая, провел целый год, нанял вместе с братом своим, сенатором Львом Алексеевичем, большой дом на Тверском бульваре. Решено было устроиться на заграничный манер – просто и недорого; но, как бы в насмешку над собственным проектом, братья немедленно завели целый батальон дворовой прислуги, евшей, пившей и скучавшей без всякой работы, пока какой-то изобретательный форейтор Филатка не задумал устраивать где-то на задворках петушиных боев. Цель жизни для дворни нашлась. Господам отыскать ее оказалось гораздо труднее, совершенно невозможно даже. К счастью, средства были громадные, крестьяне аккуратно вносили оброк, и хотя старосты воровали не менее аккуратно, все же оставалось слишком даже достаточно. Поэтому братья имели полную возможность устроиться каждый по-своему.
Старший – Лев Алексеевич, дядя Герцена – был по характеру человек добрый, любивший рассеяние. Он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, несмотря даже на то, что все события 1789–1815 годов не только прошли подле, но и непосредственно касались его. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он находился в Париже во время коронования Наполеона… Словом, он был свидетелем всех огромных происшествий последнего времени, но как-то странно: не так, как следует. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где не было двора; не зная законов и русского судопроизводства, он попал в Сенат и сделался членом опекунского совета; все должности исполнял с рвением, которое только вредило, и с честностью, которой никто не замечал. Но он был неунывающий человек, вечно в хлопотах и разъездах. Застать его дома было совершенно немыслимо. Он заезжал к себе лишь для того, чтобы переодеться, справиться о здоровье племянника Шушки,[1] переменить лошадей и опять мчаться куда-нибудь по самому неотложному делу. Утром он ехал в Сенат, два раза в неделю на заседание в совет, столько же в больницу, в институт. Вечером навещал тетку-княжну или сестер, или являлся на французский спектакль, часто в средине пьесы, и уезжал, не дождавшись конца… Скучать ему было некогда: он всегда был занят, рассеян; он все ехал куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лет он был здоров, как молодой человек, являлся на все большие балы и обеды, на все торжественные собрания и годовые акты, все равно какие: агрономические, медицинские, страхового от огня общества, естествоиспытателей, археологов, – словом, куда угодно. Добродушная улыбка не сходила с его лица, оживленная речь не прекращалась ни на минуту: он постоянно рассказывал новости. Племянника баловал страшно.