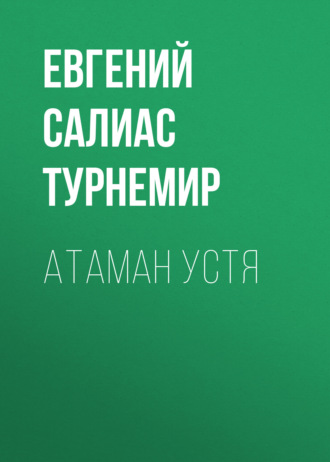
Евгений Салиас де Турнемир
Атаман Устя
Глава 7

Прошло в тишине много времени. Свеча сильно нагорела, и толстый черный фитиль коптил и дымил. Комната погрузилась в полутьму. Молодой малый не снимал нагара. Долго так сидел, не двинувшись и глубоко задумавшись. Наконец, скрипнули ступени на лестнице за второй горницей, и он пришел в себя, повернулся, тотчас отворил ящик стола и взял книгу в руку… Он прислушался к шагам по горнице и, опустив книгу в ящик, быстро затворил его, оставшись в том же положении у стола; он только взял щипцы и снял нагар. Сразу засияли опять белые стены, и яркий свет разлился по горнице. Дверь отворилась, и вошел слегка сгорбленный старик, Ефремыч, которого в шутку звал Устя то дворецким своим, то денщиком, то дядькой. Для всей шайки отставной капрал Пандурского полка был только с одним прозвищем Князь.
– А, это ты? Я тебя не признал по шагам, – сказал Устя и, тотчас же открыв ящик, снова вынул на стол книгу.
– Не узнал? Что ж, ноги-то у меня нешто помолодели, – заворчал Ефремыч. – И чего ты прячешься с книжицей. Плевать тебе на всех. Нешто тут лих какой, что грамоте захотел обучиться. Сидел бы да складывал завсегда, хоть при всех. Чего их таиться? И не их ума это дело, да и худа нет…
– Сказано тебе, старому, сто разов! Отстань! – Добродушно проговорил Устя. – Чего ты привязываешься тоже, как Ордунья. Сказал тебе раз – не атаманское по мне это дело с книжкой сидеть, и зазорно молодцам будет, да срам один. Не хочу потому при них складывать! Ну, и не стану! И ты про это молчи… А то побью…
– Побьешь? – усмехнулся Ефремыч. – Вишь как?
– Да что ж, ей-Богу, за эдакое раз бы тебя треснул. Не болтай, чего не надо.
– А я болтал? Много я наболтал по сю пору. Ах?.. Ну-тко, много…
– Нет… Я не то…
– Про книжицу, вишь, не доверяет! – отчасти сердился старик. – А про другое что, много важнеющее, много я разболтал по сю пору. Ась? В том доверился, а за книжицу боишься…
– А все-таки знают которые из молодцов, – глухо и странно выговорил Устя.
– Знают? Вестимо, да не от меня. Знают те, кои еще при Тарасе тебя видали в ином виде. А то знают, поди, от брехунца и негодника Петруньки, что теперь небось в Саратове сидит, Иуда, да на нас показывает воеводским крючкам да ярыжкам.
– Эка ведь хватил. Нешто может такое быть! Да и Петрынь не таков.
– Не таков? Не может быть? Нет, может!! И так еще может, что приключится вскорости. Да и давай Бог. Попался бы скорее в чем, так нас бы от себя всех и освободил, Иуда. Пустили бы в Волгу с камнем на шее – и аминь! Всем хорошо, а тебе всех лучше. Перестанет приставать со своей занозой. А она-то, заноза, его на все и подымает.
– Это, стало, из любви да и губит – кого любишь?.. – усмехнулся Устя.
– А то как же. По-твоему, такого на свете не бывает, что ль?
– Ты чего пришел-то? – нетерпеливо спросил Устя.
– Пришел, потому что Черный прибыл.
– А! Ну, подавай. Что он? Что сказывает?
– Я у него ничего не спрашивал, так он ничего и не сказывал. Опросил я его только насчет делов, какие вершит Петрынь в Камышине.
– Ну, что же?
– Вот он мне и сказал, что Петрыньки-щенка в Камышине за все время, что Черный там пробыл, видом не видано и слыхом не слыхивано.
Лицо Усти омрачилось.
– Что, гоже? Любо? – сердясь, прибавил Ефремыч.
– Где ж он?
– Ефремыч тебе и сказывает. В Саратове воеводским крючкам да ярыжкам на всех нас…
– Ах, полно, Ефремыч!.. Зря стал ты лясы точить, будто Ордунья; уж коли вдвоем вы начнете мне всякие переплеты плести да огороды городить, так просто от вас хоть беги.
Ефремыч покачал головой, махнул на атамана рукой и, повернувшись, пошел молча к двери.
– Не стоит с тобой и слов тратить, – проворчал он уже в дверях.
– Пошли Черного! – крикнул Устя.
Ефремыч, не отвечая, скрылся за дверь и крикнул:
– Ванька!
Тотчас снова заскрипела лестница, и через минуту в соседней горнице раздались легкие шаги и голоса:
– Сюда, что ль, выйдет…
– Сказывал про Петрыньку-то?
– Не поверил…
Ефремыч тяжело и медленно спустился по лестнице, а Устя снова задумчиво сидел у стола и не двигался.
– Не может такого быть! – проговорил он, наконец. – Слабодушный, девчонка он, а не молодец. Лукав тоже. Лиса! Но не Иуда-предатель. Как можно?
И, вспомнив об ожидавшем его молодце, Устя спрятал снова книгу в стол и крикнул громко:
– Ванька, входи сюда.
Молодой малый вошел, поклонился Усте и стал у самой двери. Малый этот был отчасти схож с атаманом, то есть среднего роста, черноволосый, недурен собой и лет 23 на вид. Но очень смуглое от природы лицо и странный выговор прямо выдавали в нем нерусское происхождение. Его звали Ванька Черный в отличье от мужика Ваньки Лысого.
– Здравствуй, Черный. Ну, как все справил? Удачливо?
– Ничего. Как все было указано. А вот замешкался только.
– Да. Негоже это… – отчасти строго выговорил Устя. – Вместо недели пропадать две…
– Не моя вина, атаман! Не виноват! Ни Боже мой – не виноват, – тряхнул Ванька Черный головой. – Сначала есаул в городе придержал. Все со мной вместе собирался.
– Ну, что Орлик?
– Да так я и ушел, он ничего не справил. Не берут в воеводстве от него ни алтына, да и шабаш. Со всех концов подлезал, говорит, ничего не поделаешь. Один там есть, старый такой, лет с девяносто, писарем, что ли. Этот брал деньги, и немного, да есаул сказывает, ему дать, что бросить, не стоит. Украдет! А толку не будет. А то, на грех, и помрет. Деньги зря пропадут совсем.
– Плохи твои вести, Черный, – проговорил Устя, задумавшись. – Так Орлик и остался.
– Так и остался пробовать еще… Сказывали ему, теща воеводина возьмет и зятька по-своему поведет. Баба ражая и ндрав кипяток.
– Теща возьмет? Теща воеводы?
– Ну, да… Баба, сказывали и мне на базаре, ходок такой, что оборони Бог. На всех обывателей и господ в городе и даже в самом остроге страхов напустила. Бьет шибко… И всех бьет. Купца Ермошкина, на что горделив и денег много…
– Ну… Неужто же и его побила она?
– Память отшибла! Лежит третью неделю. Чего лучше.
– А при мне было… – продолжал Черный. – Дьячка Митрофана повстречала она у соборной площади, сгребла это единым разом, да и начала возить по луговине. Возила, возила… Кудри-то его так по ветру и летят. Народ еле оттащил ее от Митрофана. И то не силком, а обманом ее взяли. Крикнули пожар… Горит то ись будто около ейного дома… Ну, отстала и побежала к себе.
Устя рассмеялся.
– Ну, Орлик-то надежду имеет, что воеводиха возьмет?
– Не воеводиха, та махонькая и на ладан дышит, а самая теща эвта… Орлик сильно уповает… Указал только тебе доложить, что коли злючая баба запросит больше положенного, то он из других прибавит, из пятидесяти рублей, что получил от дяди Хлуда – для тебя.
– Какие же это?
– А пропускные от купца Сергеева, что на мокшане проминует тут деньков через десяток с товаром в Астрахань.
Устя сморщил брови и задумался. Черный молчал.
– Не мало ли взял Хлуд? Пятьдесят за целую мокшану! В ней, поди, на тысячу рублей товару-то будет?
– Уж этого не знаю. Сказывал так Орлик. А дядя Хлуд и мне оченно наказывал доложить тебе, как нам не ошибиться. Чтоб того Сергеева пропустить мимо Яра без обиды. А он уговорился, чтобы купец от себя на корме или у руля – как всегда для опознания – воткнул шест с синим лоскутом и с пуком конопли. Так и тебе указал передать. Синь лоскут да конопля.
– Мало взял! – ворчал Устя. – Буду я пропускать целые беляны, мокшаны да корабли с товаром за пятьдесят рублей. Сдается мне, стал Хлуд у нас деньги оттягивать. Вор он.
– Как можно, атаман. Он не таковский, – жалостливо произнес Ванька Черный.
– Да. Для тебя, цыгана. Ты хвостом у меня не верти. Ты норовишь за его дочку свататься. Знаю, брат.
– Что ж, я бы не прочь… Да не отдаст николи.
– Знамо, не отдаст. Эка невидаль, зятек из разбойников, беглый и голоштанный.
– А мастерство, атаман, нешто не в зачет. У него от меня лишних двести рублев в году будет. Он такого, как я, не найдет другого.
– Эка язык-то без костей… Мастерство? Что ты пару коней в год угонишь! Невидаль. Всего на пятнадцать рублей. Да знахарством своим рублей двадцать наживешь в году.
– Как можно, атаман… – ухмылялся Черный. – Я в году двадцать, а то и все две дюжины коней угоню. А знахарство мое… клад. Ей-Богу, клад. Я вот и теперь в городе хворую купчиху выхаживал и в неделю на пять с полтиной отвару своего ей перетаскал. Я один был при ней. Всех городских знахарей супруженек ее прогнал, а меня слезно просил облегчить от хворости.
– Ну, вылечил, что ль?
– Да, сначала было полегчало, а там, кто его знает, вдруг ее скрючило и дух вон. Купец с горести так на меня залезать зачал, что я уж у дяди Хлуда в сарае сидел сутки и на улицу не выходил. А там прямо сюда хватил. Все Господь. Нешто можно вылечить – коему человеку смерть надлежит быть. А народ глуп – этого не понимает. Господь к себе человека требовает, а ты, вишь, тут своим настоем из трав Божьей воле предел положи. Даже грех, ей-Богу… Глуп народ. А я знахарь во какой, каких в самой Москве нету. У меня один слепой прозрел в Дубовке. А другой был из астраханцев, огнем восемь лет горел. Я его в месяц выходил, как рукой все сняло.
Долго болтал Ванька Черный о своем коньке любимом, о знахарстве, но Устя не слушал, а о чем-то думал. Наконец, он прервал болтовню Черного и спросил нерешительным голосом и как бы вскользь брошенными словами, будто стыдно ему было за свой вопрос:
– Петрынь что?
– Его в городе нету… И не бывал! – отозвался Черный.
– Враки все… – мычал Устя, глядя в сторону.
– У дяди Хлуда не был. И есаул его не видал.
– Может, под городом дело какое?
– А мы, атаман, так полагаем… Негоже это Петрынь, не хватил ли в Саратов, чтобы тебя и нас с головой тамошнему начальству…
– Полно врать. Пустомеля, дурак! – резко выговорил Устя.
– Есаул сказывал… – робко отозвался Черный. – Дядя Хлуд тоже. А я что ж… Не мое дело…
– Вор Хлуд, сам первый нас продаст, коли ему деньги хорошие пообещают. Только одним страхом нашей расправы его и держим.
– Воля твоя, атаман… А дядя Хлуд не таковский. И зачем ему негодное дело… Нашинские на его дворе завсегда ему за постой отплачивают, кто чем может: деньгами, скотиной, товаром… Он от нас больше и разжился, так ему не рука нас продавать…
– Измаил что? Назад когда собирается?..
– Измаил? – выговорил Черный, удивляясь.
– Ну, чего ты?
– Да ведь он же напоролся…
– Как напоролся! Когда? – воскликнул Устя.
– Я чаял, уж ты знаешь от кого… Измаил давно уж, как от нас только тронулся, так верстах в десяти от города и напоролся. Мне есаул сказывал, и в городе говорили. Там его и зарыли на кладбище, да еще по-христианскому – не знали, что татарин.
– Скажи на милость! – вздохнул Устя. – Жаль мне Измаила. Эх, жаль! Как же вышло-то…
– Да барин какой-то, помещик, из ружья ухлопал. Сам татарин виноват. Их двое ехало с кучером на тройке… А Измаил – очень ведь тоже – полез на них, благо, у него конь был лихой… Ну, сказывал, вишь, этот барин в воеводстве, что Измаил шибко наскочил, коренника под уздцы ухватил и два раза выпалил по ним. Кучера подшиб в бок сильно и свалил с козел, а барин его хлестнул из ружья!.. И одним разом и положил. Они же его в город привезли мертвого… Да все похвалялись, дьяволы. Лгали, что семеро разбойников было.
Атаман Устя молча отпустил Черного и, оставшись один, снова принялся за свою книгу.
Глава 8

Молодец Ванька, с прозвищем Черный, был неизвестного происхождения: не то цыган, не то жид. Сам он прежде сказывал товарищам, что его отец с матерью были из одной земли, что около моря Черного и Дуная, из города Яссы.
Правду ли говорил Ванька или хвастал, было тоже шайке неизвестно. Многие его считали за цыгана. Так или иначе, но лицом, акцентом в произношении и даже какой-то особенной вертлявостью он не походил на русского. Вдобавок он знал многое, чего не знали другие молодцы шайки: он бывал в Москве, в Киеве, когда-то долго прожил в Астрахани и плавал по Каспийскому морю наемником на купеческом корабле. Кой-что знал он о Персии, понаслышке или действительно бывал у персидского берега. Он не любил, как и все, много болтать о себе, но, однако, атаману было известно кой-что. Молодец, лет 27, был уроженец Каменец-Подольска. Он помнил, как лет восьми от роду отец и мать поднялись и поехали Бог весть почему в дальний путь, длившийся два месяца. Они перебрались в город Смоленск, где прожили хорошо и богато года два… Но вдруг что-то приключилось с отцом… Однажды внезапно отец бросил дом и почти все нажитое имущество и, посадив в телегу жену, парнишку-сына и его маленькую сестренку, рысью выехал среди ночи из Смоленска и всю ночь гнал лошадь без передышки и без остановки. В полдень лошадь выбилась из сил и к вечеру пала на дороге, близ деревни. Отец Ванькин купил живо другую в ближней избе и, отсчитав деньги чистоганом из мошны, без жалости погнал снова… После двух суток езды семья остановилась на постоялом дворе, в каком-то местечке, при большой реке. Здесь было очень людно, весело, тянулись без конца по большой дороге взад и вперед обозы со всяким добром и товаром, и проездом то и дело попадались разные барские дроги и рыдваны, четверней и шестериком серых коней под масть. На умного парнишку будто повеяло чем-то новым. Тут будто люди другие и живут иначе… Он повеселел, на все и на всех таращил глаза, ухмыляясь бойко.
– Вишь, наш Ванька как повеселел? – заметил отец и спросил, шутя, сына: знает ли он, где они?
– Вот послезавтра двинем с зари, и, как солнышко встанет, ты и ахнешь оттого, что увидишь! – сказал он.
Парнишка не спал две ночи от такого обещания. Действительно, через день они на своей телеге двинулись до рассвета. Когда солнце уже поднялось да когда они тоже взобрались шагом на гору, через которую шла дорога, то Ванька не только ахнул, а заорал во все горло, а потом застыл, ошалел… оглядывая небосклон…
– Это, дурак, Москва! – сказал отец. – Москва белокаменная, Москва-кормилица, Москва-карманщица… В ней не житье, а масленица вечная…
Но в этой Москве, которой так обрадовались и отец, и мать, и он сам, семье, видно, не повезло…
Через год отец Ванькин пропал… а мать все плакала и на вопросы мальчика ничего не объясняла…
– Нету его! – говорила она. – И не будет, не жди.
Отец попал в острог, под кнут и в Сибирь.
Оставшись одна, мать Ванькина сначала бедствовала в нищете. Затем она стала отлучаться из дому все чаще и приносить домой какие-то травы и семена да, накупив посуды, бутылей и скляниц, кипятила травные отвары, делала настойки и продавала. Всякий народ ходил к ней, брал эти отвары и деньги медные оставлял.
Так прошло несколько лет. Когда Ванька подрос и ему было уже под двадцать лет, он знал, что мать – знахарка, и сам знал, какие травы как варить и от какой хворости какую кому давать. Знахарем сделаться умному малому было нетрудно. Все лютые хворости людские его мать разделяла только на три разные: огневица, холодушка и краль. Так обучился распознавать их быстро и Ванька, помогая матери. Он различал у больного сразу, холодушка у того или огневица. Но распознать краль он долго не мог, пока не заметил, что мать, все разные крали находит и лечит людей. Тогда Ванька, не будь глуп, решил, что всякая людская хвороба, которая не огневица и не холодушка – есть краль. Но он в знахарстве пошел дальше матери и уже делил краль на большую и малую, на краль в самом нутре и на краль верхнюю, на всех частях тела, на руке ли, спине, в глазу, в носу, в горле… Все это была краль! Эта болезнь давала больше денег, больных этою болезнью было видимо-невидимо, и малую краль, от которой и лечить бы не стоило, Ванька лечил даром и всегда вылечивал. Зато вылеченный им, случалось, тут же заболевал другой хворостью и тоже лечился, но уже за деньги. Малому было 20 лет, когда вдруг свалилась и заболела сама его мать… Ванька не перепугался, ибо был уверен, что она сама себя вылечит. Но мать лежала и не хотела сказаться: огневица у нее, холодушка или краль… И не захотела она выпить ни единого глотка из своих отваров. Через две недели женщина уже заговаривалась, лежа в углу горницы без движенья, не узнавая ни сына, ни дочери. А еще через неделю Ванька похоронил мать, и они остались вдвоем с молодой сестренкой круглыми сиротами.
Ванька не запропал – варил те же травы и продавал… Но недолго… Надоела ему его жизнь в кривой, узкой и грязной улице… Потянуло его погулять по свету Божьему. Немало он с восьми лет проехал в телеге сотен верст и знал, что не одна Москва на свете. Краше она многих, а может, и всех городов, да прискучила. Часто собирался Ванька распродать свой скарб и, купив лошадь да телегу, двинуться куда глаза глядят. Сестренка уже пятнадцати лет, которая Ваньке казалась не Бог весть какой удивительной девчонкой, была в действительности красавицей.
Повадились скоро около домишки двух сирот болтаться какие-то неказистые люди… Двое стали, за отсутствием Ивана-знахаря – как его звали на улице, – наведываться к девушке и уговаривать ее бросить брата и убежать. Горы золотые сулили ей, но сестренка робела и все брату пересказывала.
Ванька не стерпел… В одну темную ночь, когда к сестре чрез огород пробирался один из этих молодцов, Ванька наскочил на него, сшиб с ног, сел верхом и полоснул его ножом. И не пикнул гость ночной. Затем хрипящего взял он за ноги, отволок подальше от дома и бросил среди переулка. Молодец, однако, опасно раненный, но не убитый, выздоровел и подозревал Ваньку.
Заохали и в квартале, заговорили и тоже думали все на Ваньку – дела были нехороши. Никто уже не шатался около них и не смущал сестренку; но соседи все судили, что Ваньку посадят в острог.
Наконец через месяц явился к Ваньке барин, ласково заговорил, потом угостил, потом денег дал рубля с три… А придя еще раза два и посидев в горнице Ваньки, однажды под вечер прямо бухнул:
– Продай мне сестренку!
Ванька глаза вытаращил! Но недолго. Еще и ночь не совсем пришла на двор, как Ванька понял все речи, которые держал этот барин. Преумно сказывал он, а Ванька слушал и почти облизывался от удовольствия.
Надо было выбирать – уступить сестренку или садиться в острог по обвинению в душегубстве.
Представлялось ему сразу получить почти столько, сколько он с трудом в год зарабатывал отварами да настойками.
А за что? Ни за что! Здорово живешь.
В противном случае идти в Сибирь!.. Барин предлагал пятьдесят серебряных рублей за то, чтобы Ванька не мешался и не путался… Сидел бы, зная свой шесток. А худого от этого его сестренке ничего не будет. Оденут, одарят, осчастливят на все лады… А если хочешь, молодец, то, пожалуй, ее и совсем увезут, и кормить ему ее зря не придется…
Ванька согласился, но предпочел, оставив сестренку, сам обзавестись телегой, конем и двинуться из Москвы куда глаза глядят. И погулять охота, да и от острога столичного подальше.
Пятьдесят рублей были отсчитаны. Брат с сестрой поцеловались и расстались, погоревали оба первых два дня, она даже часок поплакала по брату. Но что ж делать?.. Не так живи, как хочется!..
Ванька через три дня был уже далеко от Москвы и с тех пор в ней не бывал. Что сталось с сестренкой, жива ли она, богата ли, нищая ли, горе какое мыкает на свете – он не знает теперь.
Пять лет прошатался Ванька с места на место вдоль Волги, катался и по Каспию. Всего пробовал он, и весело, хорошо жилось… Во всех городах по Волге были у него друзья-приятели. И купцы, и свой брат мещанин. Но случилось раз… Ванька с приятелями в Сызрани, изломав решетку, залезли в соборный храм, обобрали его дочиста, ухлопали, да не добили сторожа, да все и попались… И в острог сели!.. Трое из семи, однако, через месяц бежали, в том числе и Ванька.
Но теперь пришлось только бывать в городах, и то с опаской, а жить приходилось в Устином Яре. Не чаял, не гадал знахарь Иван, а попал в разбойники. И рад бы теперь в мещане приписаться, да нельзя… Разбойничай – хочешь не хочешь! Впрочем, теперь Ванька Черный только и помышлял о том, чтобы сделаться мирным обывателем, мещанином какого-либо городка и жить знахарством. Он был искусник и в другом деле – конокрадстве. Но если бы судьба позволила ему стать обывателем, он готов был дать обещание себе самому не только коней, но и собак не воровать.
Часто раскаивался он в необдуманном поступке – ограблении собора. Как попал он в это дело, сам хорошо не помнил. Три молодца-сорванца подпоили его нежданно в числе прочих, и никогда вообще не пьющий Черный захмелел шибко, да в этом виде и увязался обворовывать храм городской… И попался!..
За последнее время Ванька Черный стал все чаще и чаще отлучаться из Яра в Камышин, где жил согласник и помощник всей шайки Усти – московский мещанин Савельев, приписавшийся уже в камышинские купцы.
Какое его было настоящее имя, в городе, конечно, не знали, но Устины молодцы или не знали, или предпочитали звать его по-своему, прозвищем, данным Бог весть кем и когда, но уже более десяти лет назад. Для них всех этот Савельев был с именем дядя Хлуд, а по сношеньям с ними, согласник.
Дядя Хлуд был притонодержатель, то есть имел постоялый двор в городе, где останавливались молодцы Усти и вообще всякая вольница.
Черный влюбился в дочь Хлуда, а умный притонодержатель извлекал себе из этого всякую пользу, вовсе не намереваясь выдавать замуж за волжского бродягу свою единственную дочь.
Но Черный этого решения не знал и надеялся. Все, что приказывал Хлуд Ваньке по отношению к шайке, исполнялось им свято, но хитро и ловко… Черный действовал, не жалея себя, надеясь, что Хлуд из благодарности, а отчасти оценив ловкость его, решится отдать за него красавицу дочь, которой он тоже приглянулся.
Теперь он, по наущению Хлуда, должен был подговорить кого-либо убить любимца Усти, Петрыня, которого Хлуд подозревал в измене. Ведь разгром Устина Яра лишал его как согласника хороших доходов.







