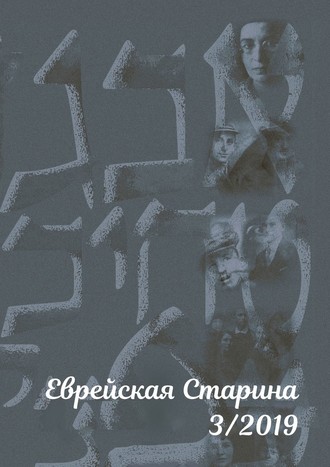
Евгений Михайлович Беркович
Еврейская старина. №3/2019

Злата, Кременец, 1922
В 1922 году Златочка отправилась в Харьков, где уже жила тогда бабушка и в сентябре этого года поступила в харьковский педагогический техникум.
Примерно в это же время Гитл с семьей, Инда, а вслед за ними и Рися выехали в Палестину. В анкете, которую Златочка заполняла при поступлении в партию в 1940 году, в пункте «родственники за границей», она указывает брата, который уехал в Америку в 1910 году и сестру, с 1924 года живущую в Палестине и занимающуюся там домашним хозяйством. Какую сестру она имеет в виду – неясно, потому что в Палестине на момент написания анкеты жили двое из сестер Хазиных – Инда и Гитл (Рися к тому времени уже возвратилась в СССР). Каждая из сестер имела семью и могла, таким образом, претендовать на титул «домохозяйки». Возможно, Златочка решила, что брата и одной заграничной сестры для кандидата в члены КПСС и без того многовато и вторую заграничную сестру сократила.
Итак, в начале 20-х годов родительское гнездо опустело. Да и сохранялось ли оно до этого времени? Я ведь совсем не знаю, когда умерли мои прабабушка и прадедушка. И если в начале 20-х, они еще были живы, остались ли в своем опустевшем доме или уехали в Палестину с Индой или Гитл?
Так или иначе, девушки из Кременца полетели в разные стороны навстречу новой жизни, в которой они (в это они верили свято) не будут больше изгоями, в которой все будет не так, как было у их родителей. Я пытаюсь представить себе, какой же прекрасной рисовалась им эта новая жизнь и какой жаркой энергией наполняло их сознание того, что они строят и создают эту новую жизнь, что они ее хозяева. А потом, в конце пути, пережив голод, эпоху репрессий, войну, с каким чувством смотрели они на то, во что превратила жизнь их надежды?
Путь этот поначалу у каждой из сестер был свой.
Бабушка Фаня
Участь в Харькове в институте, бабушка Фаня познакомилась с дедом.
Мой дед Владимир Ильич Кваша был на шесть лет моложе бабушки, он родился в 1897 году (она в 1890). Родом он был из местечка Покотилово Уманского уезда Киевской губернии. От мамы я слышала, что местечко это находится недалеко от Одессы. В семье было пять братьев. Старший Бойко, затем Моисей, потом мой дед Володя, затем Саня и самый младший Миша. Семья деда не была бедной. Фото моих прабабушки и прадедушки по этой линии подтверждает это: и они одеты как люди иного класса, чем кустарь-одиночка Абрам Хазин и его жена, и напряжения такого не чувствуется в их позе и лицах.

Илья Кваша с женой
Эти люди выглядят благополучными, не кажется, что они измождены тяжкими трудами. Всем своим пятерым сыновьям родители смогли дать образование. Дед мой был химиком.
В Харькове дед, вероятно, оказался по той же причине, что и бабушка – раз разрешено ехать, куда угодно, нужно ехать в столицу, а Харьков в это время был столицей Украины.
В 1920 году они поженились. Бабушке было 30 лет, деду 24. Союз их, в духе времени, был гражданским, официальное свидетельство о браке бабушка получила в 1948, после войны, когда дедушка уже пять лет как числился пропавшим без вести.
В 1924 году, будучи беременной моей мамой, бабушка узнала, что дед ей изменил. И поступила как гордая девушка с кременецкой фотографии – сказала своему гражданскому мужу, что видимо, он недостаточно ее любит и им нужно расстаться. После расставания дед через некоторое время уехал в Москву и надолго исчез из жизни бабушки и моей мамы, своей дочери.
Годы спустя, когда голова бабушки ушла в плечи, а осанка утратила царственную стать, она сожалела об этом своем максимализме. Дед был человеком ярким и жизнелюбивым. Дочь его брата Сани, мамина двоюродная сестра, тетя Лиля, говорила, что он был самым веселым из братьев Квашей. И изменил он бабушке, возможно не потому, что не любил ее, а потому, что очень любил женщин. Мама рассказывала, как он, уже обзаведясь второй семьей, поехал с детьми, с ней и сыном от второго брака Игорем, на юг и как там он, уже не очень молодой, лысеющий отец двоих детей, у них на виду молодцевато стрелял глазами по Одесскому пляжу, пытаясь ухлестнуть за хорошенькими.
Но вторая жена деда Добочка была мудра и терпелива. Она не обращала внимания на увлечения мужа. Наверное, она могла разделять понятие флирта с понятием любви и семьи. А бабушка не могла. Может быть, по натуре была максималисткой, а может быть революция попутала – крушение старых ценностей: религии, традиций, института брака, а взамен женское равноправие, свободная любовь. А там, где есть измена, нет любви, а если ее нет, так нечего и быть вместе.
Как бы там ни было, дед уехал, не дождавшись рождения первенца, а бабушка осталась в Харькове с сестрой Златочкой.
Мама моя родилась 30 октября 1924 года. Имя бабушка дала дочери в духе времени: Дима – ДИалектический МАтериализм или Долой ИМпериализм (как кому больше нравится). Как-то уже после смерти Златочки, я, роясь в ее бумагах, нашла тонкую тетрадку, где было исписано всего несколько листов: Златочка рассказывала о том, как мама появилась на свет.
«7 ноября Фаню выписали из больницы. Живо предстала в моем воображении такая картинка: 7 ноября 1924 года, Фаня с ребенком на руках, я напротив пробираемся на извозчике с ул. Конторской до ул. Сумской в часы демонстрации. Долго пришлось ездить по различным улицам, пока мы очутились дома на Сумской.
Какая трудная жизнь началась для Фани. В январе 1925 года она переехала на Чайковскую улицу. Там она начала работать Главврачом в Доме ребенка, там она и получила квартиру. В первый год после окончания института Фане пришлось вести большую научную работу по Охматдету /охрана материнства и детства/. Дочурку свою она тоже стремилась воспитать по всем правилам советской педагогики. Я окончила Харьковский педтехникум и в январе 1925 года уехала на работу в Донбас».
После отъезда Златочки, бабушка осталась одна с грудной дочерью на руках. И этот, довольно большой отрезок их с мамой жизни я вижу глазами мамы.
Дима-низзя-какао
Жилье, которое получила бабушка, было не квартирой, а комнатой. Детский дом занимал первый этаж здания, а комнатка, которую дали бабушке с дочкой помещалась на втором этаже, где располагался какой-то НИИ. Однако, в период маминого младенчества эта комнатка была, скорее всего, просто местом ночлега, в рабочее время малютка была где-то при маме, то есть среди обитателей детдома.
Говорят, что один из признаков одаренности – очень ранние воспоминания. У мамы было одно такое. Над ней склоняются улыбающиеся лица больших девочек, она чувствует себя по сравнению с ними маленькой, ничтожной и ей странно и радостно, что они, такие большие и сильные, могли бы легко ее обидеть, но они наоборот добры и ласковы с ней и, пожалуй, даже готовы ее защитить, если что. По тому, в каком ракурсе виделись маме эти лица и что было вокруг, она относила это воспоминание к младенческому периоду своей жизни.
В этом детском доме, как во всех детских домах мира, чаще всего звучало слово «нельзя». Поэтому первое слово, которое произнесла моя мама было не «мама» или «папа», а именно «нельзя». «Низ-зя», – говорила она, копируя не только звуки, но и интонации взрослых, то есть говоря строго, «почти свирепо», как она вспоминала. Вторым словом стало почему-то «какао», а третьим – Дима. Так что в детском доме ее называли «Дима Низзя-какао».

Дима Хазина, Харьков, 1925
Рабочий день врача в детдоме был ненормированным, а после того, как в 1926 году бабушка вступила в партию, к ее профессиональной деятельности прибавились общественные нагрузки.
Сохранилась маленькая фотография – бабушка и три ее сотрудницы в белых халатах сидят в комнате за большим столом. Комната сплошь обклеена политическими плакатами: здесь и призывно воздевающий руку Ленин, и прославление «Ленинскоi партii», и гордое «новый быт – детище Октября», и «Да здравствует Октябрь, освободивший женщину – 10 лет». То есть, 1927 год.

Фаня Хазина, Харьков
По призыву любимой партии освобожденная женщина, имеющая на руках малолетнюю дочь, по вечерам ликвидировала безграмотность народных масс и вела агитмассовую работу. Бабушка любила рассказывать такую историю. Она с друзьями готовилась к политзанятиям, а рядом играла 3-летняя Дима. Для разрядки кто-то из друзей решил пошутить и спросил у малютки: «Ну, Дима, что такое профсоюзы?», в ответ крошка без запинки отчеканила «Профсоюзы – это школа коммунизма».
А вот другое семейное предание на тему маминой ранней политической зрелости и полной невинности в национальном вопросе. Соседка Варвара Ивановна, которая присматривала за мамой во время бабушкиного отсутствия, как-то раз сказала Диме, что она, Дима, еврейка. Мама не обиделась, но обвинение отвергла: «Я-то, конечно, не еврейка, но мама моя действительно еврейка. Ну, что ж такого, лишь бы не буржуйка».
Буржуйскими предрассудками считались также любые проявления женственности. У мамы было одно платье. Отчасти, наверное, по бедности, но отчасти из принципа – думать нужно о победе мирового пролетариата, а не о каких-то тряпках. Следуя модным в то время и ныне совсем забытым теориям, бабушка наголо брила маме волосы – чтобы лучше росли.
Но главное – этому обритому и кое-как одетому спартанцу приходилось оставаться в одиночестве, когда бабушка после работы оставалась выполнять всевозможные партийные поручения. Причем, она была не просто одна в комнате, но одна на всем этаже. Мама вспоминает:
«Там /на втором этаже/ помещался НИИ (лаборатории, кабинеты). Днем там было много народу, а вечером все вымирало. Если мама была дома, то было совсем не страшно. Бегаешь, прыгаешь, слушаешь эхо – коридоры широкие, никому не мешаешь. Но если у мамы «ликбез» или еще какая-нибудь нагрузка, то я одна на всем этаже. Страшно. Я не признаюсь маме в этом. Стыдно. И мама рассказывает друзьям, какая у нее храбрая дочь: остается одна, не боится. Те рассказывают своим детям… Приходится держать марку. Так и не знаю, догадывалась ли мама, что я все-таки немножечко боюсь. Думаю, да, потому что она старалась свести к минимуму мои одинокие вечера: договаривалась иногда с Варварой Ивановной (она жила по соседству).
Варвара Ивановна была чудная старушка. Она угощала меня молочным киселем с ванилью. Она была добрая, любила меня и, наверное, жалела. Так хорошо было у нее под оранжевым абажуром. Но вот однажды я вдруг заметила в углу икону. Раньше не замечала, а тут у нас в садике была политбеседа, и нам все объяснили. Я подумала и начала антирелигиозную пропаганду: стала ходить вокруг стола и в такт шагам говорить: «Бога нет! Бога нет!». Я чувствовала себя борцом, но вдруг все преобразилось. Лицо Варвары Ивановны исказилось – такой я ее никогда не видела, и что-то важное открылось мне в эту минуту.
Варвара Ивановна меня выгнала. И была, конечно, права. Я вышла встречать маму. Увидев ее издали, я бросилась к ней и горько заплакала. «Я больше никогда так не буду делать», – говорила я сквозь слезы. Варвара Ивановна простила меня, она поняла».
Читать мама научилась в пять лет:
«Оставаться вечером с книгой совсем не то, что одной. Я пристрастилась к чтению. В один из одиноких моих вечеров я читала «Муму». Я так влезла в книжку, в душу Герасима, что совсем не ощущала широкого темного коридора за дверью и окна с тонкими веточками и медленно возникающими странными фигурами в бесформенных одеяниях, которые так же медленно уходят, как появляются, которые так убедительны, что невольно тянет посмотреть, не лезут ли они в окно. Сегодня и окно и коридор молчали, они лишились своей притягательной силы. Я, кажется, ни разу не оглянулась, не прислушалась. Я читала. Когда произошло самое страшное, я не остановилась: ведь там еще что-то напечатано. А вдруг… Я плакала и читала. Я не остановилась даже тогда, когда все кончилось. Не остановилась, потому что там оставался еще мелкий шрифт. Пока есть хоть какие-то буквы, есть надежда. Мелкий шрифт – для взрослых. Там должно быть одно слово: «выплыла». Если нет, то как жить? Я прочла все: типография имени такого-то, по адресу такому-то, столько-то экземпляров тираж, бумага такая-то, редактор такой-то, корректор такой-то… И ничего о судьбе Муму. И я одна на всем этаже. Некому меня утешить. Да я и не хочу утешения. Я хочу спасти Муму. Я сморю в окно, и мне впервые не страшно. Совсем. Самое страшное уже произошло.
Не помню, как я легла, как уснула, кажется мама пришла довольно скоро, уложила меня, успокоила».
Кроме чтения еще одной радостью в ее одиноком детстве для мамы была музыка. Она могла часами сидеть в тишине, и, надев наушники (так в те времена слушали радио), слушать музыку. Когда музыкальная передача заканчивалась, она снимала наушники и несла их бабушке со словами: «Мама, говорят» – это ей было уже неинтересно, независимо от того, были это последние известия или детская передача. Подрастая, Дима, как когда-то бабушка, стала мечтать учиться музыке. Но до покупки собственного инструмента было еще далеко, и маме оставалось только завидовать соседским девчонкам, которых родители смогли отдать в музыкальную школу. Когда в Доме врача открылась музыкальная студия, бабушка отвела дочь туда, и мама стала заниматься со страстью, используя любую возможность посидеть за инструментом. Оказалось, что у нее абсолютный слух и очень большие способности. Играя, она забывалась, закрывая глаза или воздевая их к небу, то есть, не смотрела на клавиатуру, так что ее педагог шутил: «Дима играет с замашками виртуоза». Конечно, она быстро оставила позади всех соседских девочек, которым прежде завидовала.
Дима часто говорила, что в театр (она стала актрисой) ее привела тоска по празднику, засевшая в ней со времен ее одинокого, бедного детства, в котором праздники случались так редко.
«Мы жили на Чайковской 21. Это короткая улица. Она начинается в районе «Гиганта», а конец ее, разветвляясь, переходит в Журавлевку. Все окна «Гиганта» вечерами всегда освещены. Такого не бывает в других домах, потому что «Гигант» – общежитие. Там всегда кто-нибудь дома. Кто-нибудь дома! Как это хорошо. Я завидую «Гиганту». Я завидую и вон тому окну, где светится оранжевый абажур. Там все дома, и так тепло. Но больше всего завидую «Гиганту»: там все окна светятся – всегда. Он для меня – стоглазое, живое существо. Я с ним разговариваю.
Перед праздником мы с мамой идем смотреть иллюминацию. Это традиция. Мы подходим к «Гиганту». Я смотрю на него и победно шепчу: «Можешь не задаваться, сегодня и у меня праздник. Можешь не таращить свои окна!».
Как хорошо, когда мама держит за руку и шепчет: «Боба дорогая». Как хорошо с мамой. Я чувствую, что для нее я хорошая, хоть и трудновоспитуемая. «Боба дорогая» – мое домашнее прозвище, когда я хорошая».
Одиночество, скудость домашнего мира (игрушек, как буржуазного предрассудка, у мамы тоже не было) и чтение развивало фантазию. Однажды, видимо начитавшись «Хижины дяди Тома», Дима задумала вылепить из пластилина настоящую плантацию. Она живо вообразила себе маисовые поля, измученных рабов и жестоких надсмотрщиков с плетьми в руках, и ей стало казаться, что все это у нее уже почти что есть. И она сообщила детям в детском саду о чудесной плантации, которая находится у нее дома под кроватью. Дима так красочно живописала эту картинку, что раззадоренные слушатели стали напрашиваться в гости. Всем хотелось взглянуть на эту диковинную штуку. Тут Дима рухнула с небес своего воображения на землю и стала лепетать что-то про то, что сейчас пока нельзя, потому что мама болеет, вот попозже обязательно…
Дома она срочно взялась за исполнение задуманного. Но – о ужас – все, что так изумительно красиво прорисовывалось в ее фантазии, на деле получалось совсем по-другому: пальмы гнулись, опускаясь тяжелой кроной на подставку, человечки не стояли на ногах, руки их опускались, палочки-плети получались неровными, похожими на колбаски. Теперь ей уже мучительно хотелось, чтобы все забыли о ее плантации, она с ужасом ждала, что кто-то, особо памятливый, явится к ней домой и разоблачит ее перед всеми.
Мама не помнила, как ей удалось выкрутиться, наверное, просто со временем дети забыли о ее чудесах под кроватью. А термин «пластилиновая плантация» вошел в наш семейный словарь: когда кто-нибудь слишком уж увлекался строительством воздушных замков, его останавливали: «Так, начались «пластилиновые плантации».
Вообще детский сад радости жизни маме не прибавил. Безо всякой теплоты она вспоминала свою первую воспитательницу Оксану Ивановну, которая во время тихого часа ходила между детскими кроватками и говорила: «Тихо дiти, тихо», а когда какой-нибудь малыш обращался к ней по-русски, она с выражением нейтральности на лице, откликалась: «Не розумiю…».
Это звучит совершенно невероятно для всякого, кто знал мою маму, но в раннем детстве она была жуткой хулиганкой. Семейное предание рассказывает, что она била и сбрасывала в канаву свою подружку – тихую, неуклюжую Инку Сахновскую, после чего отец Инки, деликатный, интеллигентный Яков Давыдович, друживший с бабушкой, смущаясь и краснея сказал ей: «Фаня, давай вместе подумаем, что делать, может быть их как-нибудь… разделить?».
Такой же хулиганкой мама была и в садике. И неизвестно, как долго она продолжала бы жить с клеймом «трудновоспитуемой», которое не давало ей измениться, даже когда она этого уже сама хотела, если бы не внезапный поворот судьбы.
У Оксаны Ивановны неожиданно обнаружили открытую форму туберкулеза, и ее в срочном порядке убрали из садика. На ее место пришла старая, мудрая воспитательница. Можно не сомневаться, что перед вступлением в должность, она познакомилась с характеристиками всех детей, но придя в группу, она вела себя с Димой так, словно ничего не знала о ее преступном прошлом. Она обращалась со всеми одинаково доброжелательно и всем дала какие-то поручения. Мама получила назначение «старшей над веником». Вечером Дима с замиранием сердца говорила бабушке: «Мама, она, наверное, не знает, что я плохая» и старалась сделать все, чтобы скрывать эту тайну как можно дольше.
Садик мама с тех пор полюбила. Если раньше она старалась воспользоваться любым чихом, чтобы остаться дома, теперь она бежала в садик как на праздник. Даже когда она простудилась и заболела, то с температурой порывалась убежать туда: «Я ведь старшая над веником, там без меня все пропадут». А когда в детском саду готовился очередной праздник, воспитательница назначила маму дирижером шумового оркестра. Так хулиганка стала кротким ангелом – раз и на всю жизнь.
Эта история была семейным анекдотом. Мама рассказывала со смехом о своем буйном детстве. И я смеялась вслед за ней – надо же, какая невероятная нелепость моя мама – хулиганка! Но никогда я всерьез не задумывалась над тем, почему так случилось. А в самом деле – почему? Может быть, так выливалась боль ее одиночества? Может быть, Инке она просто завидовала, оттого что у нее, Инки, был отец, да еще такой чудесный как Яков Давыдович – я помню этого высокого, худощавого мужчину с большими ласковыми руками и застенчивой улыбкой.
Ведь дед в ту пору ее раннего детства не только не помогал семье, но почти не появлялся на горизонте. Сначала он периодически приезжал в Харьков, но потом пропал так надолго, что мама совсем забыла, как он выглядит, и однажды погналась на улице за незнакомым мужчиной, потому что ей показалось, что это ее папа. Мама этот эпизод запомнила так хорошо, наверное, еще из-за реакции бабушки: бабушка очень рассердилась на дочь и ругала ее. Видимо, бабушке больно было это видеть, но ей все еще хотелось быть гордой.
Уже после рождения сына Игоря (он родился в 1932 году), дед стал приезжать чаще. Думаю, дело было не только и столько в факте появления на свет сына, сколько в благотворном влиянии второй жены деда Доры Захаровны. Она не только не препятствовала отношениям мужа с первой семьей, но всячески старалась сделать все, от нее зависящее, чтобы эти отношения были теплыми и родственными. Сыграло, наверное, роль и то, что мама стала взрослее, ей в то время было уже 9 лет, и она понравилась отцу. Во время коротких визитов он всячески старался заслужить благосклонность дочери: катал ее на извозчике, покупал мороженое и жульнически проигрывал в шашки (мама очень сердилась, когда он выигрывал).
А бабушка? В этой суровой жизни, с работой, заботой о дочери, колхозами, ликбезами и партсобраниями, было ли у бабушки хоть чуть-чуть времени на себя? Был ли шанс хоть немного чувствовать себя женщиной? Были ли у нее поклонники, связи с мужчинами? Может быть, и были. Мама говорила, что бабушка всегда была страстной и влюбчивой. Почему она так считала? Может быть, что-то знала о бабушкиной личной жизни, но мне не рассказывала. А может быть, просто так чувствовала свою маму. Но если и были у бабушки какие-то привязанности, увлечения или даже романы, серьезных последствий они не имели, замуж она так и не вышла.
«Я очень люблю школу…»
В одинокой жизни моей мамы школа стала праздником. За всю жизнь у нее не было, пожалуй, лучшего сообщества, чем ее школьный класс, а своего классного руководителя Рахиль Лазаревну Басину она обожала до конца жизни, как, впрочем и все ее одноклассники, да и вообще все ученики 36-й школы.
До поры до времени я думала, что маме просто повезло – заботясь о более или менее равновесном распределении даров жизни, послал Бог одинокой девочке кусочек счастья. Однако, почитав воспоминания Бэшников, я поняла, что это везение организовала бабушка (хотя и провидение в этом тоже поучаствовало, потому что класс был не просто хорошим, он был, повторюсь, уникальным, под стать Пушкинскому Лицею).
Бабушка понимала, что того внимания, которое она может уделить дочери, катастрофически недостаточно. Если раньше она задерживалась по вечерам, то когда мама подросла, стала уезжать на несколько дней по призыву партии в колхозы. Перед отъездом бабушка проводила с мамой политбеседы, объясняя популярно, куда она едет и почему это так необходимо и неизбежно – уезжать, оставляя малолетнюю дочь на попечении чужих людей: «Вот ты учишься в школе, а на селе детям негде учиться, нужно им помочь…» и все в таком духе. Оставаясь одна в периоды бабушкиных многочисленных отлучек, мама читала книги и сочиняла стихи:
Теперь уже сказать нельзя,
Что города школы лучше, чем школы села
Но есть еще много врагов, они мешают дружной стройке.
Партийцев посылают, они там работают стойко,
А у крестяньев есть охота подражать.
Мама со смехом пересказывала мне свои детские стишки, потешаясь над последней строчкой, особенно над падежным окончанием слова «крестьяне». Девочкой я смеялась вместе с ней, но, став старше, начала горячо сочувствовать девочке-маме и посылать проклятия в адрес советской власти – как же нужно было засрать людям мозги, чтобы женщина, любящая мама, по первому зову партии мчалась в любую глушь, оставляя свою единственную доченьку на чужих людей. Я не осуждала, конечно, бабушку, но с сожалением думала о ее фанатичной преданности партии, которая заставляла маму так страдать.
И только сейчас пришло более объемное видение.
Конечно, я знала давно о страшном голоде на Украине, искусственно организованном сталинской властью в 30-е годы. Об этом в 90-е годы много писали, а от документальных кадров, которые показывали в исторических телепрограммах, волосы дыбом стояли. Но это знание существовало параллельно с бабушкиными колхозами. И только сейчас, когда я перечитывала воспоминания маминых одноклассников, эти параллельные прямые, поменяв траекторию, вдруг пересеклись. Маленькая история жизни любимых людей подсветилась большой Историей и зазвучала по-новому.
В воспоминаниях одноклассники говорят не только о школе, но описывают разные картинки городской жизни, какие видела в детстве и моя мама. «Во двор часто приходил старьевщик, оглашая его криками: „Старье берем! Старье берем!“, точильщик – „Точить ножи-ножницы!“, шарманщик с обезьяной и попугаем. А иногда во двор заглядывал „Петрушка“ – бродячий кукольник, который ставил ширму и давал веселое представление. Оно обычно начиналось так: две куклы: „Здравствуйте, милые зрители, мы Петрушкины родители, старичок и старушка, а это наш сын Петрушка!“. Тут из-за ширмы выскакивала третья кукла – Петрушка в красной рубахе в белый горошек и в синих шароварах. После окончания представления из всех окон, выходящих во двор, кукольнику бросали медяки, завернутые в бумажки – плата за спектакль» – вспоминает Нина Болотина.
Извозчики, которых я застала только в виде туристического развлечения, также были частью городского пейзажа. Вместо черной «Волги», а впоследствии «Мерседеса», высокопоставленных лиц возил на работу извозчик. Об этом вспоминает Лида Мишустина: «Мой отец работал в стройуправлении при заводе ХПЗ, и ему был положен личный транспорт. Отца возил на работу и с работы заводской извозчик. В двухместный фаэтон была запряжена лошадка, на облучке сидел кучер».
А вот зимняя картинка:
«дворники в белых фартуках с бляхами сгребали снег большими деревянными лопатами в сугробы вдоль тротуаров. Я очень хорошо помню, что зимой тротуар на улице Свердлова напоминал бесконечный белый туннель. Вывозили снег лошадки, запряженные в специальные сани с высокими бортами» (Нина Болотина).
Но видели они не только такие мирные картинки, но и кое-что другое.
«1932 год /в этот год мама и ее одноклассники пошли в школу/ – еще много было беспризорников от прошлых лет, и уже стали появляться новые – из семей раскулаченных, из голодающих семей, семей, распавшихся из-за необычайно трудной жизни. Они лазили по карманам горожан в трамваях, грабили прохожих в подворотнях и темных подъездах» (Нина Болотина).
А вот что пишет Эллочка Бродская (в замужестве Боброва):
«Конец 1932 года, зима и весна 1933 – время страшного бедствия на Украине. Каждый день с улиц Харькова убирали десятки, а может быть, и сотни трупов. Горожане получали паек по карточкам, через „распределители“. Мой отец, беспартийный юрист был в 1930 году мобилизован на службу в ОГПУ и занял довольно высокий пост в Юридической службе органов. Весной 1933 года /Эллочке, как и маме моей было в то время 9 лет/ он застрелился в своем служебном кабинете».
Из воспоминаний Рэма Боброва:
«Весной 1933 года мой отец, Исаак Наумович Бобров, был послан в Купянский район с заданием организовать работу МТС и обеспечить техникой мертвые колхозы. Он пробыл там несколько месяцев. Вернулся он с первой сединой в голове и в состоянии крайнего телесного и нервного истощения. То, что он повидал в селах (и о чем шепотом рассказывал лишь очень близким людям), ужаснуло его. Он понял всю преступность проведенной насильственно коллективизации и весь кошмар спровоцированного ею голода».
Когда я читала последнюю запись, меня вдруг осенило: а бабушка-то! Ведь она в такие же колхозы ездила, и все эти ужасы своими глазами видела. Если зрелые, сильные мужчины седели от этих картин, то что же чувствовала она, женщина, мама, доктор? И могла ли она кому-то рассказать об этом, хотя бы шепотом?
Я не знаю, с какой партийной задачей посылали ее в деревню, но поскольку она была врачом, то, может быть, она не картошку там должна была копать, но делать свое дело – лечить детей и взрослых, помогать, чем возможно. И если это так, то как бы душа ее не болела о своей доченьке, она считала, что этим несчастным людям она нужна еще больше. Да и вряд ли ей предлагался какой-то выбор. Понимая, что эту ситуацию изменить невозможно, бабушка сделала то единственное, чем могла ее хоть как-то поправить, то, что не смогла сделать для своего сына я и то, что даже не подумали сделать для меня мои родители – она нашла для мамы хорошую школу.
36-я школа считалась привилегированной: в ней учились дети местной элиты. А нужно учесть, что Харьков в то время (до 1934 года) был столицей Украины, так что элита была крутая.
«Учителя наши были умелыми и опытными педагогами. Ведь подбирал их непреклонный и мужественный директор с гимназическим учительским прошлым Павел Васильевич Туторский, светлая ему память! Рахиль Лазаревна рассказывала, как ее молодую учительницу-комсомолку послали в 1928 году в 36 школу, чтобы она противостояла „старорежимным“ методам Туторского. Но, поработав рядом с ним в школе, она поняла, что именно так и надо вести дело». (Эллочка Бродская).
В годы больших репрессий советская власть до Туторского все же дотянулась. «В городской газете появилась злобная статья „Тихая заводь“, где всячески поносился наш замечательный директор, прекрасный педагог и учитель географии П. В. Туторский. Ему вменялось в вину, что он подобрал педагогический коллектив из представителей „гнилой“ интеллигенции дореволюционного прошлого. Даже не преминули отметить, что секретарем дирекции работает „бывшая графиня Магнус“. Туторского отстранили от должности». (Юра Тесленко). Но это было уже немного позже, и, слава Богу, отстранением от должности все и ограничилось, Туторский дожил до старости и даже бывал на встречах 9-«Б».
Из воспоминаний рядом с именем Рахиль Лазаревны всплывает «…образ Аси Самойловны, оставившей в наших душах след добра и вложившей первый кирпич в фундамент того прекрасного, что дала нам наша неповторимая школа» (Тесленко). Об Асе Самойловне, учительнице начальной школы, и мама вспоминает в очерке из сборника «По старым адресам». Главка называется «Старая школа», так они называли школу, где учились до 5 класса, потому что потом 36-я школа переехала в новое здание, где и оставалась до начала войны. Итак, слово маме.
Старая школа
Еще один старый адрес. Наша старая школа. Существует ли она еще? Мы стекались туда ручейками. Это был наш первый шаг. Она приняла нас всех: читающих и не читающих, пишущих печатными и письменными буквами и вовсе не пишущих. Нас встретили внимательные глаза Аси Самойловны, ее улыбка, ее руки, которые довели нас до новой школы, где было немного страшновато без нее на первых порах.
В старой школе был класс музвоспитания. А, может быть, он назывался как-то иначе. Но нет, помнится, что не «пение», не «музыка», а «музвоспитание». Впрочем, есть кому меня поправить. Может быть, кто-нибудь вспомнит имя и отчество учителя. Как же я его забыла?! Долго помнила, потом забыла. А его самого помню. Он был большой и добрый, и был похож на дворянина (такими рисовались мне дворяне, когда впоследствии читала я Тургенева и Чехова). Я любила рассматривать его. Однажды, когда мы расходились с урока, он подошел ко мне, погладил по голове, улыбнулся и сказал: «Будешь учиться…» Больше ничего. Фраза осталась неоконченной, он не поставил точки. А многоточие повисло какой-то надеждой. Хотелось договорить: «Станешь человеком».





