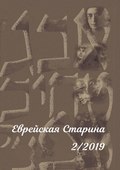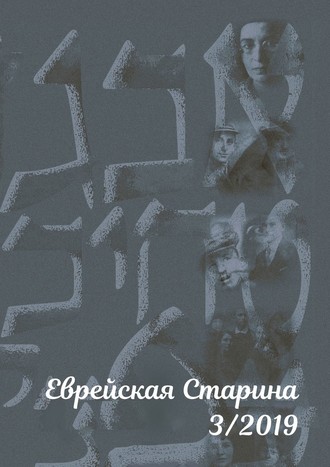
Евгений Михайлович Беркович
Еврейская старина. №3/2019
Если моя интерпретация верна, то очень вероятно: алан, автор приписки – иудей не в первом поколении. Модель наречения аланским именем выглядит здесь очень по-еврейски:
1) В традиционных именах могут использоваться глагольные формы будущего времени, например, Ицхак («он будет смеяться»).
2) В теофорном имени при этом Бог может быть назван или «скрыт»: Иехезкель («усилит Бог»), Иерахмиэль («помилует меня Бог»), Ирмеяhу («возвеличит Господь»), но Иосеф («прибавит» или «умножит»).
3) Встречаются имена и в форме причастия будущего времени, например, Иерухам (» [oн] будет помилован»). Может быть, Аруэдженег и является калькой с Иерухам.
В любом случае – руническое слово в Киевском письме разобрал и прочитал именно Мудрак, его работа над расшифровкой была плодотворной и результативной.
5) «Киевское письмо» сегодня. Выводы и субъективные заметки
Киевское письмо – выдающийся документ. Что произошло за 37 лет непрестанного и многократно-независимого изучения открытия Нормана Голба? Подтверждена большая ценность письма в качестве свидетельства «темного периода» как истории евреев Восточной Европы, так и бедного памятниками домонгольского отрезка истории Киевской Руси. Твёрдо установлена древность Киевского письма – опровергнуто мнение о его «подделке». Стабильность интерпретации текста при многообразии и альтернативности подходов и большая «устойчивость» памятника к доброжелательной и недоброжелательной критике – сам по себе удивительный научный феномен.
Киевское письмо уникально свидетельствует о столице Древней Руси как о полиэтничном городе, рассказывает о непростых проблемах жизни иудейской общины на востоке Европы, даёт ценный материал для обсуждения истории Хазарии. Исследования показали значимость письма для уяснения, как функционировала правовая система в городе…
Изыскания и споры вокруг письма, конечно же, будут продолжены. Что касается датировки – не исключаю, могут быть выдвинуты версии, привязывающие события, отраженные в письме, к фактам истории Киева более позднего времени, чем те, что обсуждались прежде. Сегодня мне представляется весьма достоверной датировка, предложенная Цукерманом, – в пределах 960—962 гг.
Поделюсь собственным (несомненно, спорным) видением жизни иудейской общины города в середине Х в., как её рисует Киевское письмо.
Община невелика: количество мужчин едва превышает миньян[82]. Вероятно, все они без исключения согласились поставить под письмом свои подписи: трое сделали это лично и девять – с помощью одного из двух парнасов общины. Один из трёх грамотных (подписался последним) воспользовался руникой своего родного языка – аланского.
В полиэтничном Киеве члены маленькой и не слишком образованной общины используют несколько языков. Подписанное ими письмо исполнено на изысканном иврите. Но на этом языке абсолютное большинство членов общины между собой не общается. По всей видимости, разговорным её языком является славянский. Во-первых, это язык большинства населения города. Во-вторых, по свидетельству Тувии бен Элиэзера (о нём см. выше), единственным языком известного ему еврея «из общины Руси» в начале ХI в. был славянский, «язык его родины». В-третьих, некоторые из подписавших письмо (напр., Гостята) носят славянские имена, что является свидетельством их аккультурации. Окказионально киевские евреи пользуются словами из языка варяжских завоевателей города – так, скандинавским по происхождению является прозвище Сварте одного из них, Йеhуды. Некоторые члены общины наверняка разговаривают по-алански (наиболее характерный пример – Аруэдженег, подписавшийся рунами родного языка. Надо полагать, аланоязычные иудеи – прозелиты или потомки прозелитов). И, наконец, не исключено, что мы застаём в Киеве Х в. и носителя идиша – языка, только-только зарождавшегося на берегах Рейна. Об этом человеке стоит поговорить отдельно.
Поразительна фигура автора текста письма – Авраhама ha-парнаса. Это, прежде всего, человек большой культуры. Рекомендательное письмо на иврите Авраhaм начинает в высоком стиле, рифмованным текстом (в трёх первых строках – семь рифмующихся слов, c. 24), не свойственным жанру. Искушённый в чтении документов генизы Голб удивился: «В стремлении автора дать тексту рифмованное начало есть что-то непонятное» (с. 24.) Думаю, ответ находится в строках 22—23 письма: «И не бросайте слова наши себе за спину…» (с. 28, 31). Применён ораторский приём, свойственный более устной проповеди, чем письменному тексту: стремление с самого начала поразить слушателя (читателя) необычной формой и завладеть его вниманием – для дальнейшего изложения. Не сомневаюсь, Авраhaм имел опыт и талант общения с аудиторией.
Обнаружив, что строки с теми же рифмами, что в письме, трижды были использованы в литургических стихотворениях Элиэзера Калира (Эрец-Исраэль, VI – VII в. н. э.), Голб определил: «Автор письма был знаком с… поэзией Калира» (с. 24, 30). Хорошее знакомство Авраhама ha-парнаса с раввинистической литературой обнаруживается в нескольких местах текста.
Когда Авраhaм переходит к «деловой части» письма (строки 7—17), он сух и немногословен, но очень точен. И только в заключительных строках (17—24) возвращается к высокому стилю и эмоционально окрашенной лексике. Хороший стилист!
Принимая находку Цукермана, что автор Киевского письма в качестве адресата имел в виду очень богатые общины на Рейне, легко можно понять фразу в строках 6—7 письма «Да будет воля Владыки мира дать им возможность жить, как корона мира» (c. 25), которая для Голба осталась тёмной: «Точный смысл сравнения неуловим» (с.25).
Похоже, Авраhaм hа-парнас сам был родом из какого-то германского города (использовал термин закук, в других общинах не известный, да и писал «невосточным» почерком), хорошо знал жизненный уклад тамошних евреев и – позволю себе предположить – не без лукавства составил письмо так, чтобы на Рейне истолковали: долг Яакова составляет громадную сумму – 30 кг серебра (на самом деле в шесть с половиной раз меньше), это могло побудить читателей к большей щедрости. При этом лжи в письме нет, сумма долга точно обозначена в местных единицах, иностранцам не знакомых.
Не вызывает сомнения, этот человек был духовным лидером маленькой общины и одним из двух её руководителей (наряду с Ицхаком). Из текста письма явствует, что ранее парнасом киевской общины был и пострадавший Яаков (возможно, и не названный по имени его брат, убитый разбойниками). Авраhаму очень хотелось восполнить истощившуюся после выкупа Яакова из заключения общинную кассу. К сожалению, это не удалось.
Находка Киевского письма в материалах из Каирской генизы скорее всего означает, что жизненный путь Яакова завершился в Фустате, и Киева он больше не увидел. Абсолютно невероятно оптимистическое предположение Голба, что «собранные [Яаковом] деньги всё же были посланы еврейскими общинами по его маршруту авторам письма в Киеве» (с. 23). Путешествие Яакова из Киева в Египет было уникальным, его никто в обратную сторону не мог проделать и не проделал. Небогатой общине пришлось отдавать заимодавцам-иноверцам злосчастные 40 золотых солидов.
(Достойно сожаления, что зафиксированное памятником трагическое путешествие Яакова бен рабби Ханука не заинтересовало до сих пор никого из писателей или киносценаристов…)
Завершая обзор, рискну предложить уже третий вариант прочтения 26-й строки Киевского письма: Гостята бен рабби Кый Баркаhaн – <…>.
В таком прочтении слово после имени Гостята является принятой аббревиатурой «бен рабби» («сын почтенного»), а Баркаhaн – прозвище Кыя, отца Гостяты. Прозвище обозначает человека, являющегося потомком коheнов и с отцовской, и с материнской стороны. Такое прозвище (ставшее фамилией Баркан) известно с XVI в.[83], но можно предположить его давние корни…
Несмотря на открытия последних лет, памятник всё ещё остаётся не до конца понятым. Киевское письмо ждёт новых подходов и новых исследователей.
Иерусалим
Примечания
[1] Вариант этой работы публикуется в «Хазарском альманахе», т 16 (Москва, 2019). Выражаю глубокую благодарность Александру Бейдеру (Париж), Питеру Голдену (Уэст Уиндзор), Людмиле Евстифеевой (Москва), Игорю Крупнику (Вашингтон), Олегу Мудраку (Москва), Рахели Торпусман (Иерусалим), Артёму Федорчуку (Кфар-Эльдад) и Михаилу Членову (Москва), ознакомившимся с ранними вариантами этой pаботы и сделавшим ценные замечания.
[2] Гениза – место хранения ставших ненужными или неактуальными текстов, содержащих имя или эпитет Бога (их уничтожение запрещено иудейскими религиозными нормами). Каирская гениза – крупнейший архив средневекового еврейства, сохранившийся в синагоге г. Фустат (ныне в пределах Каира).
[3] Все ссылки на книгу – по второму русскому изданию.
[4] P. B. Golden. A New Discovery: Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Sentury // Harvard Ukrainian Studies, VIII. №3—4, 1984. P. 474—486.
[5] Ibid. P. 476. (Пер. с англ. здесь и далее мой – А. Т.)
[6] Ibid. P. 477.
[7] S. Schwarzfuchs. Review of Golb, Pritsak (as above) //Revue de l’histoire des religions 201, 1984. Рр. 432—434.
[8] А. Н. Торпусман. Антропонимия и межэтнические контакты народов Восточной Европы в средние века. І. Имя Гостята в еврейской рукописи из Киева первой половины Х века // Имя – этнос – история. М.: АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1989. С. 48—53. См. также A. Torpusman. Slavic names in a Kiev manuscript from the first half of the 10th century // These Are the Names: Studies in Jewish Onomastics. Vol. 2. Ramat-Gan, 1999. Pp. 171—175.
[9] В. Орел. О славянских именах в еврейско-хазарском письме из Киева //Palaeoslavica 5, 1997. P. 335—338.
[10] И. Л. Кызласов. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994. С. 34. См. также И. Л. Кызласов. Древнетюркская руническая письменность Евразии. (Опыт палеографического анализа). М., 1990. — С. 65, 67.
[11] Толочко А. П. [Рецензия]: Н. Голб, О. Прицак. Хазарские еврейские документы X в. // Вопросы истории. М., 1987, №12. – С. 144—146.
[12] Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. —
С. 8.
[13] П. Голден. Достижения и перспективы хазарских исследований //Jews and Slavs 16. Khazars. Иерусалим – Москва, 2005. – С. 38. См. также В. К. Михеев, А. А. Тортика. Евреи и иудаизм в Хазарском каганате: К вопросу о формулировке современной научной концепции хазарской истории // Там же. – С. 176—178.
[14] Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев: Наукова думка, 1987. – С. 28.
[15] Толочко П. П. К вопросу о хазаро-иудейском основании Киева // Хазарский альманах. Т. 2. – Киев – Харьков — Москва, 2004. – С. 99—100. См. также Толочко П. П. Миф о хазаро-иудейском основании Киева // Российская археология, 2001. №2. – С. 38—42.
[16] Петрухин В. Я. Послесловие. Комментарии // Н. Голб, О. Прицак. Еврейско-хазарские документы Х века. Изд. 2-е, испр. и доп. – Иерусалим – Москва, 2003. — С. 194 – 220.
[17] Петрухин В. Я. Послесловие… — С. 194.
[18] Топоров В. Н. Спор или дружба? // Aequinox. Сборник памяти о. Александра Меня. – М., 1991. – С. 133. См. также Топоров В. Н. Еврейский элемент в Киевской Руси // Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: Средние века – начало Нового времени. – М., 1993.
[19] Тортика А. А. «Киевское письмо» хазарских евреев: К проблеме критики содержания источника // Материалы по археологии, истории и этнографии Тавриды. — Вып. 9. Симферополь, 2002. См. также Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторaя половина VII – третья четверть Х века). – Харьков: Харьк. Гос. Академия культуры, 2006.
[20] Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник эпохи становления древнерусской государственности // Российская государственность: История и современность. СПб., 2003. — С. 6—14; Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник по социальной и правовой истории Древней Руси // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2006, №2. — С. 154—160.
[21] Пузанов В. В. «Киевское письмо» как источник по социальной и правовой истории… – С. 155.
[22] Там же. – С. 159.
[23] Golden P. B. Khazar Studies: Achievements and Perspectives // Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia / Ed. D. Sinor, N. Di Cosmo. Vol. 17. – Leiden – Boston, 2007. P. 41. Cм. также русск. пер.: Голден П. Достижения и перспективы хазарских исследований // Jews and Slavs 16. Khazars. Иерусалим – Москва, 2005. – С. 27—68.
[24] Erdal М. The Khazar Language // Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia / Ed. By D. Sinor, N. Di Cosmo. Vol. 17. – Leiden – Boston, 2007. Pp. 75—108. Cм. также русск. пер.: Эрдаль М. Хазарский язык. // Jews and Slavs 16. Khazars. — Иерусалим – Москва, 2005. – С. 125 — 139.
[25] Торпусман А. Еврейские имена в Киевском письме (Х век): культурно-исторический аспект // Jews and Slavs 19. Jews, Ukrainians and Russians. Essays on Intercultural Relations. — Иерусалим – Киев, 2008. – С. 11—15.
[26] Напольских В. В. К чтению так называемой «хазарской надписи» в Киевском письме // Н. Голб, О. Прицак. Еврейско-хазарские документы Х века. Изд. 2-е, испр. и доп. – Иерусалим — Москва, 2003. — С. 221—225.
[27] Zuckerman C. On the Kievan Letter from the Genizah of Cairo // Ruthenica 10. – 2011. – Pp. 7—56.
[28] Якерсон С. Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма» // Jews and Slavs 24. The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. – Иерусалим – Москва, 2014. – С. 204—214.
[29] О. А. Мудрак. Заметки по иноязычной лексике хазарско-еврейских документов // Хазарский альманах, 14. — М., 2016. — С. 349—379; О. А. Мудрак. Основной корпус восточноевропейской руники // Хазарский альманах, 15. – М., 2017. – С. 296—416.
[30] haмлаца (ивр.) – рeкомендация.
[31] Zuckerman C. On the Kievan Letter… — Pp. 8—9. (Пер. с англ. здесь и далее мой. – А. Т.)
[32] Ibid., pp. 24—25.
[33] Якерсон С. Несколько палеографичeских ремарок… – С. 205.
[34] Там же. – С. 209—210.
[35] Там же. – С. 207—208.
[36] Marmorstein A. Nouveaux renseignements sur Tobiya ben Eliezer // Revue des Études juives. – Paris, 1921. – T. 73. – Pр. 92—97.
[37] <…>
[38] Zuckerman C. On the Kievan Letter… — P. 11.
[39] Ibid. – P.9, note 3; p. 12, note 8. Ср. Д. Шапира. Евреи в раннее Средневековье в соседних с Россией странах // История еврейского народа в России. Т. 1: А. Кулик (ред.) От древности до раннего Нового времени. — Иерусалим — Москва, 2010. — С. 61—62.
[40] Ibid. – Pp. 12 -14.
[41] Ibid. – Pp. 14, 18.
[42] Ibid. – P. 17.
[43] См. Chlenov M. A. Knaanim – the Medieval Jewry of the Slavonic World // Jews and Slavs 24. Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. — Pр. 13—51.
[44] А. Федорчук. Находки и загадки Авраама Фирковича // Восточная коллекция. М., 2006, №2 (25). С. 85; Кашовская Н. В. К итогам изучения караимского некрополя в ущелье Табана-Дере // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, вып. 22. – Симферополь, 2017. – С. 255.
[45] Zuckerman C. On the Kievan Letter… — P. 19.
[46] Ibid. – Pp. 19—20.
[47] Ibid. – Pp. 20—21.
[48] Респонсы – письменные разъяснения и решения по галахическим и судебным вопросам, которые даются иудейскими религиозными авторитетами в ответ на запросы общин и отдельных лиц.
[49] Zuckerman C. On the Kievan Letter… — Pp. 23—24.
[50] Ibid. – P. 24.
[51] Ibid.
[52] Ibid. – P. 25.
[53] Ibid. – P. 44.
[54] S. Iakerson. Несколько палеографических ремарок к датировке «Киевского письма» // Jews and Slavs 24. Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World. — P. 204.
[55] Ibid. – P. 208—209.
[55] Ibid. – P. 205.
[56] Ibid. – P. 208—209.
[57] Ibid. – P.211.
[58] Сомнение в том, что географическое название относится к Киеву, высказал, помимо Якерсона, также А. Бейдер (Beider A. Origins of Yiddish dialects. – Oxford, 2015. — Р. 353). Причиной его скепсиса является, помимо стёртости первой буквы, также наличие в названии города предпоследней буквы вав, придающей якобы названию польский, а не восточнославянский облик (Киёв или Киюв вместо Киев). Наблюдение верное, но стоит учесть, что название города автор письма воспроизвёл согласно этнолекту славяноязычных евреев – кнааниту, не вполне совпадающему с говором местных славян.
[59] S. Iakerson. Несколько палеографических ремарок… Р. 211.
[60] Ibid. – P. 208.
[61] Ibid.
[62] Ibid. – P. 209.
[63] Ibid. – P.210.
[64] Ibid. – P.214.
[65] Мудрак О. А. Основной корпус восточноевропейской руники. См. прим. 29.
[66] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике… – С. 350—355.
[67] Шапира Д. Хазарское наследие в Восточной Европе//История еврейского народа в России. Т. 1. От древности до раннего Нового времени/ Под ред. А. Кулика. – Иерусалим – М., 2010. – С. 168.
[68] Ипатьевская летопись//Полное собрание русских летописей. СПб, 1841. Т.2. —Стлб. 114—115; Т. 5. – стлб. 164—165.
[69] Бубенок О. Б. Дані письмових джерел про поширення іудаїзму серед аланів у хозарський і післяхозарський періоди// Східний світ. Київ. 2004, №2.
[70]Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике… – С. 351.
[71] Beider A. Origins of Yiddish dialects. – Oxford, 2015. — Р. 350.
[72] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике… – С. 352.
[73] Согласен с замечанием гебраиста Б. Рашковского относительно прочтения имени: «Я не вижу оснований считать последнюю букву „хетом“. Это „хей“, стоящий в позиции matres lectionis – показателя окончания „a“…»// Вновь о лексике еврейско-хазарских документов. Маргиналии на полях статьи О. А. Мудрака «Заметки по иноязычной лексике хазарско-еврейских документов». — Хазарский альманах, 14. — М., 2016. — С. 394.
[74] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике… – С. 354.
[75] Там же.
[76] Там же.
[77] Там же. – С. 352—353.
[78] Там же. – С.353.
[79] Там же. – С.355.
[80] О. А. Мудрак. Основной корпус… — С. 359.
[81] Мудрак О. А. Заметки по иноязычной лексике… — С. 354.
[82] Миньян (ивр.) – минимум в 10 взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и проведения ряда религиозных церемоний.
[83] И. Берлин. Сказание об Иоанне Грозном и о разгроме еврейской общины в Полоцке // Еврейская старина, 1915, СПб. https://lechaim.ru/ARHIV/153/dostup.htm
Мария Соловейчик
Семья как зеркало эпохи
Наверное, 90% воспоминаний начинаются со слов: «Как жаль, что я начала интересоваться историей своей семьи, когда уже некому было задать вопросы». Может быть, потому что именно эти запоздалые сожаления толкают человека к тому, чтобы начать работу памяти. Хочется, чтобы собственные дети, занятые сейчас своей жизнью, не сокрушались, как мы, когда придёт их время интересоваться судьбой предков, а задать вопросы будет некому. Хочется отдать дань благодарной памяти дорогим людям, которых они никогда не узнают.
Для меня, как для многих других, все началось с этого, но со временем, втянувшись в эту работу, я поняла, что пишу в первую очередь для себя. Подгонять один к другому осколки сведений из документов, фотографий, воспоминаний разных людей, коротких семейных анекдотов и радоваться, когда части подходят друг к другу, а когда чего-то не хватает, стараться вылепить недостающий кусочек из своих догадок, так чтобы в итоге получилась более или менее целостная картинка жизни семьи – это оказалось очень увлекательно.
Мне повезло. У меня есть странички маминых воспоминаний и воспоминаний ее друзей-одноклассников. За это низкий поклон ее однокласснице тете Нине Болотиной. Класс у мамы был уникальный, завязавшаяся в школе дружба продолжалась всю жизнь. В 1966 года они собрались в Харькове, съехавшись из разных городов, отметить 25-летие 9-Б (10 класс они не успели закончить, началась война). И с тех пор собирались каждые пять лет. В 50-ю годовщину тете Нине пришла в голову счастливая мысль к каждой встрече делать сборник воспоминаний одноклассников. Нина не просто выступила с идеей, она просила, убеждала, подталкивала, напоминала забывчивым и ободряла неуверенных в своих литературных способностях. В результате таких выпусков вышло три. Первый сборник назывался «Только для друзей» (1991), и каждый писал туда, что хотел. Для второго Нина придумала тему – «По старым адресам» (1996). Третий назывался «Мы и война» (2001), и в нем мама уже не смогла принять участия, он вышел за несколько месяцев до ее смерти, но копию сборника нам с сыном сделали. Я читаю и перечитываю эти воспоминания, не только мамины, но и ее друзей, и картина жизни становится более полной и объемной.
Отдельное спасибо тете Нине за возможность читать сейчас письма военных лет – и мамины, и других Бэшников. Она сохранила их и вот как сама написала об этом в сборнике «Только для друзей»: «В страшные дни войны и разлуки, там, на фронтовых дорогах, самым дорогим и светлым для меня были письма от моих школьных друзей. Эти письма помогали мне жить и верить, ждать и надеяться. За долгие годы войны я получила 491 письмо. Мне удалось сохранить их все до единого. Вначале я возила их в своем рюкзаке, потом, когда пачка писем становилась все объемистей, я стала хранить их в опечатанных металлических ящиках вместе с секретными штабными документами и оперативными картами (да простит мне командование этот самовольный поступок!). Как бы то ни было, но письма уцелели, и сегодня они – бесценны». Это истинная правда, тетя Нина, спасибо вам, я всегда буду вас помнить.
Я писала свои заметки для сына, для себя и не думала, что кому-то еще могут быть интересны эти картинки жизни обычных, незнаменитых людей. Но потом посмотрела под другим углом – ведь в картине жизни каждой семьи отражается эпоха, пусть только малая ее часть. Так что это можно рассматривать как рассказ о времени.
Волынские Афины
Меня, как и мою маму растили три бабушки, все по материнской линии – бабушка и две ее сестры, Рися и Злата.
Бабушки родились и выросли в черте оседлости, в городе Кременце на Волыни, маленьком городке, расположенном на севере Тернопольской области, недалеко от польской границы. Город это, хоть и небольшой, но древний, впервые упомянутый в польских энциклопедических словарях под 1064 годом, расположен он очень живописно – среди гор, в небольшом ущелье. В силу близости к границе город не раз менял национальность – принадлежал то Руси, то Польско-Литовскому княжеству, то Российской империи. И, как говорит статья в Википедии, «каждая историческая эпоха оставила здесь свои неповторимые реликвии». Его называли «бриллиантом полуденної Волині», «жемчужиной Волынского края», он был известен как крупнейший культурно-образовательный центр XIX века – «Волынские Афины».

Абрам Хазин с женой и дочерьми (слева направо) – Рися, Инда, Гитл, Злата
Только одна фотография сохранила родителей бабушек – моих прадеда и прабабку. Они сидят напряженные, не привыкшие фотографироваться, видимо надев для этой цели все лучшее. Прадед, сапожник Абрам Хазин (имя его сохранило мне отчество бабушек), в пальто и кепке, зажав в кулаки руки, трудами которых жила его большая семья. И прабабка, имени которой я не знаю, старушка с перекошенным ртом, в белом платочке, родившая 9 и вырастившая 7 детей: шестерых дочерей (Рейзл, Гитл, Фаня, Инда, Рися, Злата) и одного сына. Выглядят они как старик и старуха, хотя вряд ли им на этой фотографии намного больше 50.
Позади родителей четыре их молодые, статные дочери. Крайняя справа – самая младшая, ангелоподобная красавица Златочка, крайняя слева, в матроске, с чистым, юным лицом – Рися, между ними старшие – Инда и Гитл.
На этой фотографии нет моей бабушки, Фани. Но она есть на других снимках, примерно того же времени – с тремя подружками (две из них очень похожи между собой, явно сестры), с сестрой Гитл.

Фаня Хазина (сидит на возвышении) с подругами
На всех снимках той поры вид у бабушки серьезный и строгий, прямая спина, горделивая осанка. Слегка улыбается бабушка только на одном снимке 1916 года (ей здесь 26 лет), изображающем группу девушек в светлых матросках.

Фаня и Гитл Хазины

Фаня Хазина (сидит, первая слева)
Фото сделано в Одессе, а что она там делала – я не знаю, но, наверное, училась на каких-нибудь женских курсах, вряд ли в семье были средства на то, чтобы разъезжать по курортам. Одна, совсем затертая фотография – черноусый юноша, рубашка в горошек, картуз, на обороте надпись «В память о прежнем. Хаим». Мама говорила, что Хаим Гибельбанг был бабушкиной первой любовью.
На следующем Кременецком снимке три сестры Хазины с подругой.

Стоят (слева направо) Инда и Злата, сидят Рися и подруга
Златочка стоит, опираясь на ограду, все с тем же кротким, словно молитвенным выражением лица, рядом, на фоне нарисованного дерева, застыла в женственной полуулыбке Инда, вся в белом. Рися, в черном переднике гимназистки, сидит со стеком в руках, ножка в башмачке с перепонкой выставлена вперед, на лице шаловливая улыбка. Подруга явно старше сестер, по ее подчеркнуто независимой позе и по тому, сколько пространства она отвоевала себе на этом снимке, кажется, что она чувствует себя здесь главной, словно она не подруга, но какая-то наставница. Может быть, так и было.
Все лица четкие и застывшие, только у Риси лицо смазано. Видимо, она не могла усидеть долго в важной неподвижности и в силу несовершенства тогдашней фотографической техники изображение получилось нечетким. Может быть такой, живой, подвижной, очаровательной полюбил 22-летнюю Рисю трогательно-серьезный юноша Яша, которого сохранила крошечная фотография с надписью на обороте: «Рае в память о Яше, Одесса 10.1Х.1917»
Семья жила бедно, но дружно. В Златочкиных заметках есть описание характерного случая из детства: «Я как-то нашла три копейки. Когда я услышала, как мать, обращаясь к отцу, спрашивает, где взять деньги, чтобы купить продукты на субботу (нужно было минимум два рубля, нас было 9 человек, 7 детей), я сказала: «Я нашла три копейки, могу их дать».
Мать гордилась своей Златочкой и часто хвасталась соседям: «Евреи, у меня растет Злата…» интонация шла вверх и завершала фразу мимическая игра, как будто слов у матери было недостаточно, чтобы выразить свои восторги, или боялась она спугнуть ту блестящую судьбу дочери, которая рисовалась ее воображению.
Говорили между собой на идише, русский язык в семью принесла бабушка, которая овладела им в 17 лет. Возможно, знание русского языка необходимо было ей для получения образования. Гимназию бабушка закончила экстерном, это я знала с детства, еще не понимая значения этого мудреного иностранного слова. Начав объясняться по-русски, образованные сестры стали поправлять неграмотную мать: «Мама, нужно говорить не «бочёлок», а «бочёнок», на что мать беспечно отвечала: «А-а-а, мне так легче». Правда, и сама бабушка поначалу говорила небезупречно. Она со смехом рассказывала, как на вечеринке в одной компании вновь прибывший молодой человек спросил, не было ли здесь его товарища, и она, всячески стараясь быть любезной, отвечала: «Его было, но он ушел».
Конец Кременецкой эпохи
Со временем птенцы стали разлетаться из гнезда. Самый старший из всех, единственный брат, еще в 1910 году отправился в Америку и устроился там работать на фабрику. О нем я ничего не знаю.
Через несколько лет уехала в Волочиск (городок в Хмельницкой области, недалеко от Кременца) сестра Гитл с семьей. На обороте фотографии, запечатлевшей троих ее детей – Зину, Мотыка и Лилю, написано «Снято 20.1V.916 в Волочиске». В том же 1916 году уехала в Волочиск Златочка и прожила там два года, работая конторщицей (до этого она успела уже два года поработать в должности помощника зубного врача в Кременце).
А потом случилась революция. Большевики уничтожили черту оседлости и провозгласили равноправие евреев. Отныне евреи могли свободно передвигаться по стране и получать образование. Благодарность советской власти за эту милость бабушки сохранили на всю жизнь, и при каждом удобном случае любили повторять: «Только у нас это возможно!»
В 1918 бабушка Фаня уехала в Харьков и поступила там учиться в мединститут.
Златочка еще какое-то время продолжала кружить вокруг родного гнезда. В 1918 году она, видимо решив, что для получения хорошего места ей нужна какая-то официальная бумага об образовании, вернулась из Волочийска в Кременец и поступила в 6 класс гимназии. Ей уже был 21 год, скорее всего она училась экстерном. Сохранилось ее «Свидетельство» об окончании этой гимназии. Это большая добротная бумага, написанная на двух языках – русском и польском, по старой орфографии. Из этой бумаги следует, что «Хазина Злата Абрамовна, дочь мещанина из м. Любара, вероисповедания иудейского, родившаяся 10 ноября 1897 года, поступила по экзамену в 1918 году в 6 класс Кременецкой на Волыни женской гимназии С. В. Алексиной, открытой на основании положения о женских гимназиях 24 мая 1870 года, пробыв в означенной гимназии 3 года, окончила в ней полный курс наук». На первом месте среди предметов в «Свидетельстве» Закон Божий – отличные знания (не понимаю, что это значит, мне казалось, что ученики иудейского вероисповедания были освобождены от уроков Закона Божьего). Есть языки: польский, латынь, немецкий и французский (русский не значится), по ним – «очень хорошо» (bardzo dobry), а также История, всеобщая и Польши (история России, как и Украины, в отдельный предмет не выделена). Все чинно и солидно, как до революции.

Рися, Кременец, 1922 год
Я не знаю, как отозвалась революция и все, что за ней последовало в Кременце. Бабушки об этом ничего не рассказывали, а из тех сведений, что я нашла в Интернете следует, что с 1793 по 1917 год Кременец входил в состав Российской Империи, а с 1921 года – вошел в состав Польши (украинским он стал с 1939 года). Что происходило с 1917 года по 1921 – не сказано, но, судя по набору гимназических предметов, он и в это время де-факто был польским, в 1921 году этот факт просто закрепился юридически. Причем, видимо, обстановка здесь была вполне мирная, потому что в 1919 году здесь был создан Волынский университет, вряд ли это могло произойти в период войны, постоянной смены власти и разрухи. Так что, весьма вероятно, что разрушения и жестокости революционной эпохи обошли маленький Кременец стороной.
Учась в гимназии, Златочка давала частные уроки, а после окончания с 1921 по 1922 год работала заведующей Кременецкой «хаты-читальни» (так и написано в послужном списке, «хата»).
К 1922 году относятся последние из имеющихся у нас кременецких фотографий Риси и Златы, где соответственно Рисе 27, а Златочке 25 лет – темные платья с белыми воротничками, чистые, ясные, молодые лица.