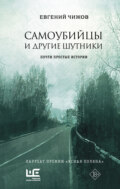Евгений Чижов
Перевод с подстрочника
Обескураженный Печигин протянул продавцу деньги, сунул книгу в сумку (будет что подарить при случае), но, как только отошёл от киоска, разочарование прошло: неузнанность возвращала его в привычное положение наблюдателя, не привлекающего внимания. Это его устраивало. Где-то бродили по Коштырбастану тысячи его бумажных двойников в серебристо-серой обложке, но ни он сам, ни коштыры не узнавали его в них. Что ж, тем лучше. Значит, он свободен от своей старой книги и от намертво связанных с ней чувств вины и неудачи, как и от всего оставленного в Москве прошлого, – свободен и открыт для того нового, что ждёт его здесь.
Неподалёку от киоска было кафе со столиками на улице, Олег сел за один из них выпить пива, а заодно поглядеть, не купит ли кто его сборник. На бульваре быстро смеркалось, лучи солнца ложились уже только на верхние ветви чинар. Пива пришлось ждать долго. Две усталые официантки, сидевшие за одним столом, были похожи на грезящих наяву восточных женщин Энгра: уйдя в свои мысли, они смотрели в разные стороны, не замечая ни друг друга, ни посетителей. Понадобилось окликнуть их, чтобы вернуть к действительности.
Большинство посетителей кафе ели сосредоточенно и молча, относясь к поглощению пищи как к серьёзному занятию, не позволяющему отвлекаться на разговор. Увлечённые шашлыками мужчины не обращали внимания даже на проходивших по бульвару женщин. Лишь несколько насытившихся, откинувшихся на спинки стульев и куривших коштыров провожали их ленивыми взглядами, точно созерцание женщин было последним оставленным на десерт блюдом, которое им уже нелегко было вместить. Женщины в сопровождении спутников шли не спеша, демонстрируя наблюдателям свою осанку, платья и украшения, одинокие же проходили быстро, держась в тени и с краю. Только однажды Печигин увидел медленно идущую сквозь сумерки девушку без спутника, равнодушно не замечавшую направленных на неё взглядов, и, конечно, сразу подумал, что уж эта-то наверняка его читательница.
Всего одна немолодая пара из посетителей кафе много разговаривала. Точнее, говорил в основном мужчина, а женщина слушала его с таким постоянным выражением понимания и жалости, что было ясно: что бы он ни рассказывал, ни объяснял или предлагал, это ничего не изменит и ничему не поможет. В лице жены (Олег почему-то сразу решил, что это супруги, связанные долгими годами совместной усталости) была привычка к заведомой обречённости всех усилий мужа. Наблюдая за ними и не понимая слов, Печигин чувствовал себя подглядывающим: мимика позволяла догадываться о многом, вот только возможности проверить эти догадки не было. Женщина неожиданно встала и, хотя казалось, что она никогда не покинет мужа, повернулась и ушла. Мужчина остался сидеть, вытянув ноги под столом, даже не поглядел ей вслед. Может, ничего их в действительности и не связывало. Олег достал тетрадь с заметками. «Путешествовать, – записал он, – значит увеличивать расстояние между собой и жизнью. Не узнавать того, что дома было знакомо и понятно, и самому оставаться неузнанным. Чем больше это расстояние, тем легче себя ощущаешь. Чужая жизнь отталкивает все попытки её постигнуть, живёшь в постоянном недоумении, к которому, наверное, со временем привыкнешь, пока не возникнет сам собой неизбежный вопрос: как можно быть коштыром?!»
Свет душного заката пробивался на бульвар сквозь стемневшую, сгустившуюся над головами листву. Попадая в него, смуглые лица коштыров тускло сияли в пепельных сумерках, как угли в золе. Между столиками кафе шёл пожилой уборщик с метлой, что-то насвистывая себе под нос. Печигин прислушался и различил, что он насвистывает начало Первого концерта Чайковского. Спустя секунду шорох метлы заглушил свист, и Олег подумал, что ему, наверное, послышалось. В газетном киоске погас свет, киоскёр с кульком семечек, оттопырившим карман брюк, выбрался из-за прилавка, закрыл свою лавочку и ушёл. Больше здесь делать было нечего. Никого, кто бы купил его стихи, Печигин так и не увидел. Может, пропустил, отвлёкшись. Расплатился за пиво и пошёл домой.
Дома его ждал ещё один сюрприз. Из памяти не шла одинокая девушка на бульваре, не обращавшая внимания на смотревших вслед, поэтому Олег взялся за перевод стихотворения «Идущей мимо». Подстрочник его выглядел так:
Ты проходишь, погружена в свои мысли, и всё же
ты всё слышишь, не слушая, замечаешь, не глядя.
Видишь ветер и слышишь первые звёзды,
переходишь из вечера в ночь по пыльным улицам
сумерек.
Я не знаю тебя, но я чувствую, как
открывается твой тайный цветок,
из корня которого распускается твоя улыбка,
твои глаза с их тёмным сиянием.
Меня достигает его сладкое благоухание,
его сырой и едкий аромат, но ступай,
ступай мимо, не останавливайся.
Ночь идёт за тобой по пятам, входит в город
твоим размеренным шагом. Ночь
на твоих плечах, твоя спина – это ночь.
Ночь твои волосы, губы и руки твои – ночь.
Ступай, ступай мимо, не останавливайся,
уноси с собой свою сладость, пускай мне останется
горечь.
Горечь всех, кого ты покидаешь, мимо кого ты
проходишь.
Горечь красного перца, который становится
чёрным,
горечь вечерних улиц с их сгущающимся
полумраком,
с чёрными кошками, шастающими по дворам
лазутчицами наступающей тьмы, со стариками
у подъездов, глядящими тебе вслед,
вспоминая женщин, которых любили так страшно
давно,
что теперь им остаётся лишь улыбаться
в темноте беззубыми ртами.
Я смотрю на мой город взглядом остывающего
вечера,
вижу, как ветер роется в листве, машины
щупают фарами мглу, а трамваи
ползут, засыпая, к последней остановке. Вижу
десятки таких же, как ты, —
прекрасных женщин, молодых и не очень,
погружающихся в эту ночь.
Сотни женщин приходят домой, открывают двери,
готовят ужин,
тысячи женщин гасят свет, распускают чёрные
волосы,
десятки тысяч расстилают постели, обнимают
своих сильных и храбрых мужей,
сотни тысяч шепчут им нежные слова – мне
известны они все до единого,
их не так уж и много.
Не зная всех этих бесчисленных женщин, я всё
о них знаю…
Дочитать Печигин не успел (стихотворение, как и большинство других, было длинным), потому что раздался звонок в дверь. Думая о том, что оно, похоже, подтверждает слова Касымова о прогулках инкогнито, которые совершает Народный Вожатый, Олег пошёл открывать. В первую секунду ему показалось, что на пороге стоит та девушка с бульвара. Впустив её на свет, обнаружил, что девушка, скорее всего, другая, но ничуть не хуже: высокая, пышные чёрные волосы кладут тень на бледное лицо, на плече сумка, откуда выглядывает пучок зелени.
– Я буду у вас убираться и готовить.
Она деловито осмотрела комнату, не миновав взглядом удлинённых тёмных глаз среди прочих подлежащих отныне её заботе предметов и Олега. У неё были толстые ноздри, делающие её красивое лицо явно азиатским, полные губы, а когда, положив сумку, она откинула назад волосы, Печигин разглядел за щеками, где у мужчин бывают бакенбарды, едва заметную тёмную поросль. Прислал девушку Касымов. Звали её Динара.
– Можно Дина. Где у вас тут кухня?
Олег проводил её, а сам перешёл в комнату напротив кухонной пристройки, откуда ему было хорошо видно, как она приступила к готовке. Стоя спиной к окну, она достала из сумки пакеты с мясом, зеленью, кульки со специями, зажгла плиту. Скоро ей стало жарко, она сняла блузку, оставшись в майке на узких бретельках. Встряхнула волосами, раскидывая их по плечам, поправила левой рукой прядь (правой уже резала мясо), и по этому движению Печигин понял: она почти наверняка знает, что он за ней наблюдает. Хотя он сидел в глубине комнаты, не зажигая света, чтобы она его не увидела.
Ночь на твоих плечах, твоя спина – это ночь.
Ночь твои волосы, губы и руки твои – ночь.
Раздался телефонный звонок. Это был Тимур, звонивший откуда-то с телевидения, кажется, уже подшофе.
– Я к тебе девочку отправил. Как она – ещё не приехала?
– Уже на кухне, вовсю кулинарит.
– А, отлично. Она хорошая девочка, много чего умеет. Очень гибкая – бывшая гимнастка. Можешь оставить её у себя на ночь, если хочешь. Она в полном твоём распоряжении.
– Шутишь?
– Ты же знаешь, что я всегда говорю серьёзно. Запомни – всегда!
Печигин помнил как раз обратное, но, может быть, здесь, в Коштырбастане, всё меняется, превращаясь в свою противоположность?
– В общем, девочка первый сорт. Рекомендую. И, заметь, для тебя совершенно бесплатно. Считай, ещё один тебе подарок.
– Спасибо, но… Я не знаю пока…
Выходит, она обыкновенная шлюха! После разговора с Касымовым Олег уже другими глазами смотрел на девушку в кухонной пристройке, на её быстрые руки, деловито пластающие и режущие куски мяса. Упорно надавливая, она заталкивала их в раструб мясорубки, из жерла которой медленно распускался алый цветок фарша…
Кем бы она, впрочем, ни была, готовила Динара отлично. Обжигая рот её котлетами, Печигин думал о том, что и всё остальное она наверняка делает так же хорошо. Если б только не этот её чересчур уверенный, спокойно ждущий взгляд! Она явно всё знала наперёд: сейчас он наестся, выпьет (она принесла с собой бутылку красного), потом захочет её. Ему достаточно будет протянуть руку. Печигин твёрдо решил, что отправит девушку домой. Но расставаться с ней так быстро не хотелось, и он предложил ей вина.
И вот она сидит перед ним, глядя своими удлинёнными глазами сквозь Олега, аккуратно отпивает из бокала (вино почти такого же тёмного цвета, как её губы), обдуманно отвечает на вопросы, и долгие паузы в разговоре не доставляют ей, кажется, никакого неудобства. Если пауза уж очень затягивалась, карий задумчивый взгляд Динары делался совсем тягучим и сладким, и Печигин увязал в нём, как муха в меду. По-русски она говорила совершенно свободно, поскольку выросла, как большинство в столице, в «европейской» семье, то есть её отец с матерью разговаривали между собой на русском. К концу второго бокала Олег уже знал, что ей двадцать восемь, она учится в аспирантуре финансового института и, поскольку не хочет жить с родителями, вынуждена снимать квартиру, а значит, приходится подрабатывать. Олег спросил про Народного Вожатого: видела ли Динара его когда-нибудь вживую, не по телевизору? Ответ оказался неожиданным: не только видела, но даже сидела у него на коленях. Ей было тринадцать лет, когда она победила на городских соревнованиях по гимнастике среди юниоров, и ей поручили преподнести президенту в день его рождения букет цветов от имени всех юных спортсменов Коштырбастана. Тогда ещё дни рождения Гулимова отмечались официально, и он по полдня принимал подарки и поздравления. Букет был таким большим, что Динара едва видела из-за него огромный зал президентского дворца, полный гостей. Когда она, пройдя через весь этот зал, протянула букет Народному Вожатому, тот передал его помощнику, а сам вдруг взял её под мышки, поднял кверху, так, что она увидела всё с высоты, и усадил к себе на колени. Тихо, чтобы никто вокруг не услышал, он прошептал ей в самое ухо: «Посиди со мной немного. А то мне тут так скучно…»
– И я просидела у него на коленях минут, наверное, десять, а может, и двадцать. Теперь мне уже трудно точно вспомнить, сколько. Это показали по телевидению, и фотографии были в газетах. Одна у меня до сих пор хранится.
– Ну и как это – сидеть на коленях у главы государства? Что вы тогда чувствовали?
– Что я чувствовала? Это так просто, в двух словах, не расскажешь. Не знаю, поверите ли вы, если я скажу, что чувствовала бессмертие? То есть полную в нём уверенность, не называя её, конечно, этим словом. Тут нужно объяснить… Дело в том, что за два года до этого умерла моя старшая сестра – у меня на глазах попала под машину. И я тогда стала непрерывно думать о смерти, жила в постоянном ужасе перед ней. Дети ведь воспринимают всё иначе, чем взрослые… Хотя не знаю, дети, конечно, тоже разные бывают. Но, когда я увидела, как машина переехала сестру, со мной случилось, наверное, что-то вроде помешательства. Я перестала засыпать в темноте, всё время видела её лицо… Ну и так далее. Даже не хочу об этом вспоминать. И вот, сидя на коленях у Народного Вожатого, я вдруг поняла, то есть, конечно, не поняла – что я могла в тринадцать лет понять?! – а почувствовала, ощутила всем телом, что никогда не умру. Что это несомненно и наверняка. Что его огромная горячая рука, лежавшая у меня на талии, защищает меня от смерти. И весь ужас, в котором я прожила два года, прошёл и никогда уже не возвращался. Самое важное, что нужно человеку для жизни, я узнала за эти десять минут. И теперь, когда у меня бывает тоска или, знаете, места себе не нахожу, я не иду ни к родителям, ни к подругам. Я достаю ту газету с фотографией, где я у него на коленях, смотрю на неё, и ко мне возвращается то ощущение… Тот покой… нет, не покой… Не знаю, как это назвать…
Она улыбнулась извиняющейся улыбкой – впервые за вечер. Печигину нетрудно было представить её тринадцатилетней, на коленях у президента. Нужно только убрать всю косметику с лица и увидеть его сосредоточенно-серьёзным, каким оно по большей части было и сейчас, ушедшим в себя, потрясённым хлынувшим в душу восторгом бессмертия. Может быть, покрасневшим или с полураскрытым по-детски ртом. Динара была первым открывшимся ему здесь человеком, и то, что он узнал, было понятно, трогало и, конечно, будило желание узнать больше – протянуть руку к этим чёрным волосам и плавным плечам… «Девочка первый сорт, рекомендую». Нет и нет. Он не может позволить Тимуру устраивать за него свою личную жизнь, чтобы таким образом её контролировать. Он и так находится здесь почти целиком в его власти. Пределы и намерения этой власти были неясны, но Печигин понимал: чем больше он принимает подарков, тем твёрже она становится.
Вино закончилось, Динара промокнула салфеткой губы и сказала, что ей пора. Но даже не встала, очевидно, ожидая, что Олег предложит остаться. Глаза вглядывались ему в лицо, ища признаки невысказанного желания. Печигин поднялся: «Пора так пора». Она не обнаружила ни разочарования, ни радости от того, что работа оказалась легче и закончилась раньше, чем она ожидала. Просто попрощалась, сказала, что в следующий раз придёт через два дня. Олег предложил проводить, она отказалась: автобусная остановка близко, ехать ей без пересадок.
Ступай, ступай мимо, не останавливайся,
Уноси с собой свою сладость, пускай мне останется
горечь.
Горечь всех, кого ты покидаешь, мимо кого ты
проходишь…
Спать не хотелось. Олег включил телевизор. По одной программе шёл исторический фильм: коштырская конница, подчиняясь мановению руки мордатого полководца в меховой шапке, затмевала солнце тучей стрел и мчалась на штурм укреплённого города, защитники которого обрушивали на головы нападавших камни и расплавленный свинец. Смотреть на это было нелегко. По другой программе были спортивные новости: мосластые борцы закручивали друг друга в узлы. По третьей ненадолго возник Народный Вожатый, выступавший на каком-то съезде, но не успел Печигин как следует в него вглядеться, как этот сюжет сменили вести с полей: комбайны, хлопкоуборочные машины, колышущаяся под ветром пшеница или рожь, просторы до горизонта. Олег снова нажал кнопку пульта – вот наконец и Касымов: о чём-то оживлённо дискутирует с человеком в очках, судя по саркастической ухмылке, не веря ни одному его слову. Ещё одно нажатие на кнопку, и перед Олегом возникло знакомое лицо актёра Меньшикова, говорящего по-коштырски с актрисой, чью прибалтийскую фамилию Печигин не помнил. Да это же «Утомлённые солнцем»! И все, кто появлялся на экране, разговаривали между собой на коштырском! А вот и сам режиссёр в роли легендарного комдива – гребёт, сидя в лодке, и, проникновенно щурясь, ласково втолковывает дочке непостижимую абракадабру. Почему-то это особенно поразило Олега, разом заставив его осознать, как далеко он от дома. Куда же он забрался, если даже в фильме, который помнил почти наизусть, не может понять ни слова?!
Переключил обратно на Касымова, уже разгромившего оппонента и теперь с той же саркастической ухмылкой обращавшегося к телезрителям, потом на спортивные новости. Борцы закончили пластать друг друга, шёл репортаж с шахматного турнира. Два шахматиста почти неподвижно сидели над доской, камера подолгу останавливалась то на одном, то на другом, и Печигин обнаружил, что может с интересом наблюдать за лицом напряжённо думающего человека. Из всех программ коштырского телевидения эта была единственной, которую не хотелось сразу же переключить. Над играющими висела демонстрационная доска, и можно было следить за ходом партии.
Почему Тимур, которому сулили шахматную карьеру, внезапно и без видимых причин забросил шахматы? У Олега только сейчас возник отчётливый ответ на этот вопрос. Он сделал это потому же, почему ушёл с философского факультета, а потом уехал из Москвы, хотя благодаря отцовским связям легко мог и в столице достигнуть вершин. Каким бы отличным шахматистом Касымов ни был, он вряд ли стал бы чемпионом мира, так же как маловероятно было ему сделаться ведущим столичным философом (если такая вакансия вообще существует). А Тимур – настолько-то Печигин его изучил – ни за что б не согласился быть одним из ряда, даже если это самый первый ряд. Уж лучше вообще вне ряда, лучше совсем никем. Но становиться никем необходимости не было, потому что в запасе у него был Коштырбастан, где благодаря образованию и опять же связям он был вне конкуренции. Здесь он быстро стал единственным и неповторимым, полновластным хозяином общественного мнения, которое он же и создавал.
Но сам Тимур после нескольких поездок на родину объяснил Олегу своё решение окончательно там остаться иначе:
– Я понял: через эту страну проходит сейчас ось истории! Не здесь, в России, и тем более не на Западе, где всё уже закончилось и не произойдёт больше ничего существенного, а там – в Коштырбастане – совершается духовная революция планетарного масштаба! Когда, положив конец гражданской войне, к власти пришёл Рахматкул Гулимов, это была не просто смена одного правителя другим. Это было изменение самой сущности власти: власть силы и денег уступила место власти духа и вдохновения! Ты знаешь, с чего он начал встречу с журналистами, на которой я был? С того, что прочёл своё новое стихотворение! Говорят, он и заседания Совета министров нередко начинает со стихов. И на этих заседаниях его стихи и поэмы превращаются в указы и распоряжения, по которым живёт вся страна! Стихи о пустыне, например, легли в основу плана строительства искусственного водохранилища в песках, а стихи о вечере в Старом городе вылились в проект реконструкции старых кварталов. Коштырбастан сегодня – это поэзия у власти! А поскольку поэтическое вдохновение той высочайшей пробы, которая очевидна в этих стихах всякому, кто читает их в оригинале, даётся человеку от Аллаха, то у меня нет сомнений, что через Народного Вожатого страной правит воля неба! Я окончательно убедился в этом, когда увидел его своими глазами. В зал, битком набитый прожжёнными журналюгами со всего мира, вошёл обычный с виду, невысокий человек – и словно бы вся геометрия помещения сместилась, съехала в его сторону! Вместо того чтобы позволить этой журналистской нечисти себя расспрашивать, он сам устроил им допрос, и они отвечали, заикаясь и мямля, как двоечники на экзамене! Я тогда понял, что, чего бы мне это ни стоило, должен быть рядом с ним – чтобы видеть гигантские шаги этого нового мифа, быть причастным к созданию того, что на наших глазах станет легендой!
Разговор происходил московским октябрём в дешёвом кафе со слезящимися стёклами, за которыми дробилась и рассыпалась в мокрых огнях чёрная улица. Хозяйка армянка делала крепкий кофе, поэтому, несмотря на вечно не убранные столы и разношёрстную публику, Печигин часто встречался там с друзьями. (За исключением Касымова, все они, конечно, были поэты.) В тот вечер Олег с Тимуром сидели вдвоём, Касымов делился впечатлениями от последней поездки в Коштырбастан.
– Я, по правде говоря, вообще не понимаю, для чего человеку на вершине власти писать стихи, – сказал Олег, озадаченный непривычно восторженным тоном Тимура. – У него в распоряжении целая страна, делай с ней что хочешь – так нет, ему ещё нужно со словами в игрушки играться! Окажись я на его месте, я б такие из действительности поэмы нагромоздил, так бы всю жизнь вокруг зарифмовал…
– Ну, на его месте тебе, во-первых, никогда не бывать, а во-вторых, тебе ль не знать, что поэзия куда больше действительности, способной вместить лишь малую её часть. Действительность подчинена законам необходимости, и любой правитель, какой бы абсолютной властью он ни обладал, – а власть Гулимова, вынужденного лавировать между племенами и кланами, далеко не абсолютна – лишь исполняет эти железные законы. Вспомни Сартра: «Самый полновластный человек всегда повелевает именем другого – канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, ему навязанной». (Своих любимых авторов Тимур мог шпарить наизусть целыми страницами.) Так вот, Гулимов опровергает Сартра! Потому что власть поэзии свободна от земной необходимости, от любых захребетников, за ней нет никого, кроме неба! Всё дело в том, что Народный Вожатый не политик, балующийся на досуге стихоплётством, а поэт, в кризисный для страны момент принявший на себя обязанности правителя. Почему, скажем, Рембо мог стать коммерсантом, а Гулимов не может сделаться президентом? Разница только в том, что Рембо оставил поэзию, а Народный Вожатый стал писать ещё лучше!
– Что-то прежде ты поэтов не жаловал…
– Ты друзей своих имеешь в виду? Сравнил тоже! Они могут сколько угодно оплакивать свои любови, воспевать бессонницы или ковыряться в своих снах – это ровно никому, кроме горстки таких же горемык, не интересно. Тогда как любовь Народного Вожатого – это событие национального значения, его бессонница – фактор большой политики, его сны – а многие стихи Гулимова явно возникают из снов – это видения пророка! Потому что Народный Вожатый, конечно же, поэт-пророк, и не простой, а хорошо вооружённый – из тех вооружённых пророков, которые, по словам Макиавелли, всегда побеждают. Поэтому и сны его всегда сбываются!
Говоря, Касымов смотрел не на Олега, а куда-то поверх него и вдаль, точно различал в чёрном слезящемся окне у него за спиной грядущий окончательный триумф Народного Вожатого. Потом скосил глаза на Печигина, и по губам пробежала привычная извилистая усмешка. Тогда он, похоже, ещё сам до конца себе не верил.
Друзей Печигина Тимур действительно не жаловал, точнее сказать, просто ни в грош не ставил, хотя никогда им этого и не показывал. Их было трое, иногда четверо или пятеро, собиравшихся в том кафе возле метро «Пролетарская», которое теперь, когда Олег вспоминал о нём в Коштырбастане, представлялось ему мутным пузырём, плывущим среди затяжного дождя или мокрого снега. Осенью и зимой встречались чаще – не только по выходным, но, бывало, и в будни: когда начинало рано смеркаться, дома поодиночке становилось совсем уж невмоготу. Не все, впрочем, были одиночками (Печигин, например, жил тогда с девушкой по имени Полина, приехавшей в Москву из города Коврова), но всё равно тянуло к шатким столикам, замызганным стёклам, разговорам. Спорили часами до полного забвения предмета спора, до выплеснутого в лицо пива, случалось, и до драк. Из-за того, кто больший гений, Заболоцкий или Олейников, могли рассориться вдрызг и на всю жизнь – чтобы через месяц-другой снова сидеть в том же кафе за тем же или соседним столом, потому что куда ж ещё деваться… Печигин, правда, втягивался в споры редко, его бедой была объективность: за каждым из споривших он всегда был готов признать его долю истины. Пока другие ломали копья, он обычно занят был тем, что уравновешивал ложечку на ободке кофейной чашки или строил хрупкую пирамидку из фисташковых скорлупок. Каждый из его друзей располагал железной иерархией авторитетов, построенной таким образом, чтобы и сам её создатель занял в ней достойное место – пусть не на вершине пирамиды, но неподалёку от неё, – поэтому споры о том, кто из поэтов более велик, затрагивали каждого лично, угрожая всей его постройке. Любой из них был, в сущности, абсолютным диктатором на собственной воображаемой территории, чьи границы то и дело пересекались с другими такими же, что вызывало неизбежные конфликты, заканчивавшиеся либо пивом в физиономию, либо примирением, то есть взаимным признанием. Не участвуя в этих схватках, Печигин порой подозревал, что из-за этого его не принимают всерьёз, и тогда упирался в какой-нибудь пустяк, иногда в очевидную нелепость и отстаивал её, пусть один против всех, с тем большим упрямством, чем меньше сам в неё верил.
Касымова в этой компании ценили не столько за познания в философии, сколько за то, что он всегда был при деньгах, которые тратил с лёгкостью и одалживал, не требуя возврата (потом, правда, оказывалось, что он до копейки помнил, кто и какую сумму ему должен). Кроме того, друзей Печигина привлекало в Тимуре то, что он не писал ни стихов, ни прозы, ни статей, ни даже каких-нибудь эссе, – его честолюбие имело глубоко скрытые, непостижимые для них формы, проявляясь лишь в едва заметно насмешливом тоне. Его бескорыстие, готовность транжирить деньги и время, выслушивая сплетни и обиды на жизнь, делали его желанным гостем в кафе, куда он, правда, заглядывал не так уж часто – в основном повидаться с Печигиным. Он никогда не спорил с тем, что тот или иной из добившихся успеха поэтов в действительности г…, потому что г… была, на его вкус, вся окружавшая его в Москве действительность: несъедобной, по сравнению с коштырской, была еда, невыносимым – человеческое изобилие, чудовищные толпы народа, ужасной – погода, омерзительной – политика, некрасивыми или развратными – женщины, а современное искусство в целом он называл не иначе как жульнической клоунадой, с чем любой из поэтов с готовностью соглашался, поскольку подавалось это всегда таким образом, точно для собеседника Касымов делал исключение – его-то к этой клоунаде он не причислял. Коштырбастан был, по словам Тимура, раем, чью благодать не смогли до конца разрушить ни гражданская война, ни неизбежные проблемы, возникшие после обретения независимости, и прикосновение к этому раю обесценивало для него всё, что могла предложить ему Москва. Точно сами воздух, земля и вода в столице были загрязнены и отравлены, но её обитатели, привыкнув, не замечали этого, и лишь Тимуру, вдохнувшему воздуха Коштырбастана и испившему его воды, очевидна была безнадёжная испорченность всего вокруг. Он и деньги с такой лёгкостью швырял на ветер как будто потому, что не видел ничего, ради чего стоило бы их здесь беречь.
Благодаря Тимуру друзья Печигина, да и сам он, привыкли считать Коштырбастан краем, где всё иначе, чем здесь: хозяин видит в незнакомом госте возможного ангела и готов отдать ему последнюю рубаху, женщины покорны и в то же время полны достоинства, а старики и юноши совершают зиярат (паломничество) через всю страну, чтобы только прикоснуться к могиле любимого поэта. (Статьи о действительном положении дел в Коштырбастане Олег стал читать много позже, когда замаячила возможность путешествия.) Касымов, ездивший туда навещать родственников, был живым представителем этого рая, что ещё выше поднимало его статус. Но если интерес друзей Олега к Тимуру был легко объясним, то понять, что заставляло самого Касымова просиживать с ними иногда целые вечера, было сложнее. Не мог же он не замечать, что они одновременно презирали его за то же, за что и ценили: за деньги, за то, что не поэт, азиат, бездельник (Касымов работал, и довольно много, в отцовском дипломатическом ведомстве, но всегда представлял дело так, будто его должность – чистая синекура), наконец, за то, что, хоть и вырос в Москве, всячески подчёркивал, что все здешние проблемы ему до лампочки. Возможно, на службе он чувствовал себя чужим среди чиновников – карьера сама по себе его совершенно не интересовала. Тогда, в Москве, он ещё мечтал о свободе и безответственности, поэтому его притягивало общество людей вне общества – а может ли быть кто-нибудь маргинальней непечатающихся (да и печатающихся, за редким исключением, тоже) поэтов? Наконец, возможно, ему просто всё равно было, где и с кем убивать вечер, потому что то, что представлялось Олегу бесцельной тратой времени, было в действительности способом скрасить ожидание, которым наполнена была в ту пору жизнь Касымова, – ожидание не просто настоящей работы, а своей миссии, открывшейся ему в тот день, когда он впервые увидел и услышал Народного Вожатого.
К застольным спорам в кафе он был ещё более равнодушен, чем Печигин, а на вопрос, кого из поэтов предпочитает, неизменно отвечал: «Мой любимый поэт – Зигмунд Фрейд». Только однажды видел Олег Касымова вышедшим из себя. Это случилось, когда в разгар дискуссии один из участников шваркнул кулаком по столу и задел тарелку с остатками кетчупа, плеснувшего Тимуру на жилет. Касымов вскочил, сжатые губы на смуглом лице побелели от ярости, Олег думал, в бешенстве он перевернёт стол со всем, что на нём находилось. Но Тимур взял себя в руки, аккуратно стёр кетчуп с жилета салфеткой, молча принял извинения и скоро ушёл, ни с кем не попрощавшись.
– Ишь, Б-брам-мел выис-к-кался, – пробормотал ему в спину слегка заикавшийся поэт, которому пришлось извиняться.
Знаменитого английского денди он помянул не случайно: мало к чему, кроме большой политики, Касымов относился так же серьёзно, как к одежде. Через несколько лет после окончания МГИМО, следуя прихотливым изгибам отцовской дипломатической карьеры, Тимур прожил два года в Лондоне, откуда привёз не только беглый английский, но и несколько чемоданов фирменного шмотья. Он демонстрировал Олегу все эти джемперы, шейные платки, кардиганы, клубные блейзеры и прочее, пока не понял окончательно, что тот не способен оценить его выбор и вкус. «Ты безнадёжен», – махнул рукой Касымов, в очередной раз убедившись в напрасности своих усилий привить Печигину более высокие ценности. Потом, когда Тимур уехал в Коштырбастан, где располнел почти так же быстро, как поднялся до служебных вершин, все эти вещи пришлось продать или выбросить, о чём он сожалел чрезвычайно.