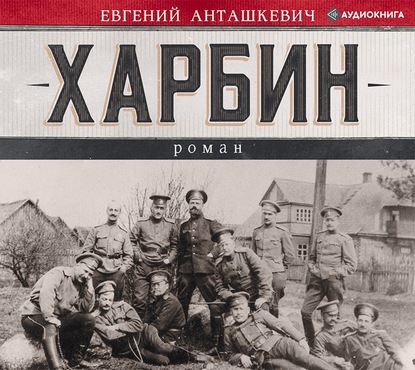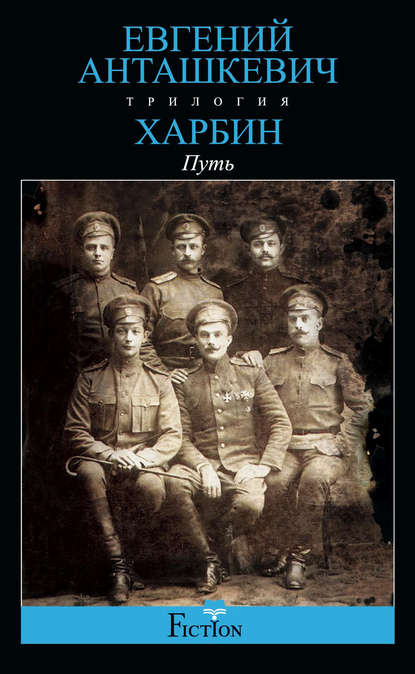- Рейтинг Литрес:4
- Рейтинг Livelib:4.1
Полная версия:
Евгений Михайлович Анташкевич Харбин
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Евгений Анташкевич
Харбин
Книга первая
Если укреплять своё сердце решимостью каждое утро и каждый вечер, человек сможет жить так, словно тело его уже принадлежит Вечности, Путь будет для него свободен.
Ямамото Цунэтомо (Бусидо, кодекс чести самурая)…Так души смотрят с высотыНа ими брошенное тело!..Ф. И. ТютчевСтепан Фёдорович Соловьёв поднялся по ступенькам просторного холла управления и протянул прапорщику паспорт. Стоявший на расслабленных ногах прапорщик взял, среди бумажек на столе выбрал заказанный пропуск – и вдруг зацепился взглядом за широкую, в две ладони, орденскую колодку Соловьёва и распрямился:
– Проходите, пожалуйста! – козырнул он. – А что в такую рань, товарищ полковник? Не спится?
– Бывший полковник, знаете ли… старая привычка, я уже много лет встаю рано… И акклиматизация даёт о себе знать, с Москвой всё же семь часов разница…
– А бывших у нас не бывает, товарищ полковник! – сказал прапорщик и заулыбался. – А по поводу акклиматизации, конечно, знаю, сам летал, а потом мучился!.. Проходите.
Степан Фёдорович посмотрел на прапорщика, поблагодарил и пошёл налево к лифту: «Разговорчивый! Застоялся! Небось за всю ночь ни с кем словом не перекинулся!»
Вчера вечером полковник Соловьёв прилетел из Москвы по приглашению Совета ветеранов на празднование семидесятилетия Хабаровского краевого управления КГБ. У самого трапа его торжественно, с цветами встретили молодые сотрудники. В гостиничном номере Степан Фёдорович только-только успел разложить немногочисленные вещи и ополоснуть лицо, как зазвонил телефон. «Литерный, что ли? – Он усмехнулся. – Да нет, меня-то чего слушать, тем более одного?»
Он снял трубку:
– Слушаю!
– Степан Фёдорович, извините за беспокойство, я подумал, что минут пятнадцати – двадцати вам хватит, чтобы распаковаться и привести себя в порядок. Вы потом могли уйти в город, вы же местный, хабаровский, поэтому я решился вас побеспокоить! – Голос в трубке был молодой и очень громкий.
– Хорошо, хорошо, – Степан Фёдорович немного отстранился, – беспокойте! Только представьтесь!
– Ой, извините, это я только что встречал вас в аэропорту, я Евгений Мальцев, лысеватенький такой…
Степан Фёдорович вспомнил, что среди встречавших был один такой – разговорчивый и весёлый.
– Слушаю, Евгений… как вас по отчеству?
– Да можно просто Женя!
– Слушаю вас, «просто Женя»! – Соловьёву стал нравиться задорный голос позвонившего.
– Степан Фёдорович, вы меня извините, когда мы ехали в машине и вы узнали, что я из Москвы, как-то разговор невольно перешёл на меня, и не очень удобно было…
– Помню, мне, хабаровчанину, стало любопытно, как ты, москвич, сюда забрался, в такую даль?
– Да! Так вот, мне неудобно было вас перебивать, а вы просили кое-что по архивам… Мы нашли. Так что, если вы не особенно устали, можно было бы посмотреть…
– Ты имеешь в виду прямо сейчас?
– Нет, сейчас, – в трубке замялись, – вы, наверное, хотите отдохнуть или прогуляться по городу…
Соловьёв не дал ему договорить:
– Да, Женя, ты правильно рассуждаешь, давай завтра! Я действительно немного устал, поэтому сегодня – мэй ёу фа́нцзы! Хорошо?
– Что? Как вы сказали?
Соловьёв на секунду задумался.
– Нет, нет, ничего! Давай завтра!
– Ну конечно, Степан Фёдорович! Тогда до завтра! Отдыхайте! Я вас утром побеспокою!
Соловьёв попрощался, положил трубку и повернулся к окну.
Окно его одноместного номера в гостинице «Центральная» выходило на площадь Ленина, он её помнил с детства ещё немощёной. С четвёртого этажа было хорошо видно, как, теснясь около плескавшегося струями нарядного фонтана, в мареве сгустившейся за день жары медленно гуляли, будто плавали, хабаровчане с детьми. Там же, рядом с большими стендами, увешанными фотографиями, сидели ленивые, разморённые солнцем фотографы с массивными аппаратами, свисавшими между колен толстыми чёрными объективами.
Номер был тесный и душный, но Соловьёв не стал открывать форточку, чтобы не налетели комары, а ещё хуже мошка, которая летом – так в Хабаровске было во все времена – не даст продыху. Только что был тяжёлый перелёт, целых восемь часов… и возраст – уже далеко за семьдесят… Стало побаливать сердце; Степан Фёдорович вынул из пакетика таблетки, которые положила ему жена, и не глядя сунул одну под язык.
* * *Утром он проснулся рано, на часах было около пяти, он понял, что больше не заснёт, оделся и вышел.
Город ещё только розовел в рассветных лучах, солнце поднималось из-за спины, из-за здания гостиницы, поэтому дома напротив, через площадь: Высшая партийная школа и недавно построенная, облицованная белым мрамором городская больница – стояли наполовину закрытые тенью. Степан Фёдорович любил эти ранние часы, эту нежную, без озноба прохладу только что ушедшей ночи и это небо, синее и бесконечное.
Он оглянулся, от гостиницы, на ступеньках которой он стоял, налево и направо расходилась похожая на коромысло, разделённая площадью надвое, улица Пушкина: налево она спускалась к Уссурийскому бульвару, когда-то там тонким ручейком протекала речка Плюсни́нка и на берегу стоял его дом; направо она тоже спускалась, уже к Амурскому бульвару, там тоже когда-то протекала тоненькая речка, называвшаяся Черды́мовка.
Степан Фёдорович посмотрел налево и увидел свой дом – кирпичный, красно-коричневый, крепкий, такой же, как и был, только не стало деревянной лестницы, когда-то он по ней бегал. К дому можно было подойти, но что-то внутри подсказывало: «Не надо! Там уже всё чужое!»
Он постоял на крыльце ещё секунду и пошёл на площадь.
Перед самым вылетом из Москвы Степан Фёдорович подумал – узнает он город или не узнает: «Может – узнаю, а может, и нет! А может – город меня не узнает! Мэй ёу фанцзы! Их-ху мать!»
«Узнаю?! – думал он сейчас. – А сколько я тут был? Родился, крестился, учился… потом в Москву, в начале тридцатых! Потом снова сюда – в сорок пятом. А потом? А потом Китай, Харбин! А потом нас оттуда попёрли, то ли в пятьдесят седьмом, то ли в пятьдесят восьмом? Когда нас из Харбина-то попёрли?.. – Он на секунду остановился около фонтана, в котором в это раннее время ещё не включили воду. – Вот, кажется, в пятьдесят восьмом и попёрли. После этого год здесь сидел – отписывался!»
Большая асфальтированная площадка перед управлением на Волочаевской была пустая, стояли три дежурные машины: светло-серая «Волга» ГУВД, уазик управления особых отделов Краснознамённого Дальневосточного военного округа с чёрными военными номерами и чёрная «Волга» УКГБ. Прапорщик, несмотря на раннее время, впустил и даже не стал звонить и спрашивать разрешения у дежурного.
Старый железный лифт с узорчатой дверью одиноко прогромыхал на пятый этаж по всей вертикали пустого и тихого управления; Соловьёв вышел из кабины, забыл придержать тяжёлую дверь, и та оглушительно бабахнула: «Чёрт бы тебя побрал, старый хрен, сейчас ещё дежурного разбудишь! Потом будет жаловаться!»
По скрипящему паркету пустого, гулкого коридора он прошёл в левое крыло, туда, где находился кабинет сотрудника разведподразделения Хабаровского управления Евгения Мальцева; посмотрел на старую эмалированную дощечку на двери «555» и вытащил из-за верхней притолоки ключ.
В узком высоком кабинете, куда он вошёл, стояли три рабочих стола и три сейфа; он огляделся и увидел слева большую, даже огромную, во всю стену, от потолка и до пола, от входной двери и до самого окна карту:
«СССР и прилегающие территории»
«Ты смотри какая!.. – Соловьёв подошёл и задрал голову. – От Северного полюса и до… – он опустил голову, – Бомбея и Калькутты. – Потом посмотрел слева направо и справа налево: – Надо же! От Англии и до Японии!..»
Карта смотрелась очень красиво – яркими красками рельефно изображены горы, реки, озёра и леса и тонкими, почти незаметными красными линиями только-только обозначены государственные границы. Степан Фёдорович был приятно удивлён и несколько минут стоял и любовался. Ему нравилось, что границы на карте помечены едва заметно и не мешают, поэтому можно было, как бы не нарушая их, перемещаться по всей Европе и Азии куда хочешь, в любом направлении, хоть целыми племенами и народами.
«И название правильное: «Эс-Эс-Эс-Эр и прилегающие территории!» – с улыбкой подумал он, повернулся и на противоположной стене увидел другую карту, на которой в правом верхнем углу было написано:
«Карта Северной Маньчжурии.
Издана Экономическим бюро КВЖД
1926 год».
Она была меньше, но тоже большая и не цветная – Соловьёв подошёл ближе, – но и не чёрно-белая: бумага, на которой тушью были нарисованы города, дороги, водные пути, телеграфные линии и многое другое, уже утратила белизну; от старости она приобрела мягкий оттенок слоновой кости и поэтому больше напоминала древний, пропитанный временем пергамент.
Степан Фёдорович смотрел, и ему стало казаться, что карта эта ему знакома, что он её когда-то уже видел. Он был в кабинете один, но на всякий случай оглянулся, вытащил кнопку, крепившую нижний край к стене, и заглянул на оборотную сторону. Нет, он не мог её видеть – на обороте, на старой, уже ставшей ломкой марле, на которую были наклеены листы, стоял выцветший фиолетовый прямоугольный штамп «УНКВД ДВК» с регистрационным номером за 1946 год. Эта карта могла попасть в управление с трофеями, а в 46-м он уже работал с китайскими коммунистами там, в Харбине, и вообще к трофеям не имел никакого отношения. Чуть выше штампа он обнаружил резолюцию«Уничтожить», написанную толстым синим карандашом, и рядом неразборчивую, витиеватую закорючку подписи.
Да, в сорок шестом он точно работал в Харбине и то ли её видел, то ли не видел, но что-то такое от неё исходило…
– Степан Фёдорович! Вы уже здесь?
Соловьёв вздрогнул и обернулся, в дверях стоял запыхавшийся Евгений Мальцев.
Степан Фёдорович посторонился, уступая ему место в узких проходах между столами:
– Да, Женечка! Спасибо тебе! Ключ я нашёл, как договорились. А ты что же так рано? Почему не дома?
– Да вот, Степан Фёдорович, я сейчас с дочкой один кукую, жена в больнице на сохранении. – Вошедший молодой человек небольшого роста, с улыбчивым круглым лицом и ранней лысиной переводил дыхание. – Бегал за питанием в молочную кухню.
– А сколько дочке? – поинтересовался Степан Фёдорович.
– Годик с небольшим. Замотался я с ней, надо кормить, поить, спасибо соседке, что помогает.
– Молодая соседка? – поинтересовался Соловьёв.
– Да! – удивлённо ответил Мальцев.
– Так беги домой! Корми и пои, а то ей, бедняжке, и пописать будет нечем, я имею в виду дочку!
Мальцев прыснул:
– Хорошо, спасибо, Степан Фёдорович! Вот архивные дела, – Мальцев вытащил из сейфа две папки, – а я пошёл?
– Постой! – остановил его Соловьёв. – Откуда это? – Он показал на карту Маньчжурии.
– А-а-а! Я знал, что вам понравится, а есть ещё одна, карта Харбина́ тридцать восьмого года издания, на русском языке, со всеми русскими названиями, эмигрантская, хотите, покажу?
«Харбина́» Мальцев произнёс с ударением на последний слог.
– Да? А где ты их добыл?
– Архивные, точнее, трофейные! Эта, – он показал на карту Маньчжурии, – досталась мне от моих предшественников, старших коллег, а харбинскую я сам откопал.
– Вот как? – удивился Степан Фёдорович. – Ну давай, показывай!
Мальцев полез в нижний ящик стола, вытащил сложенную карту, начал разворачивать, но Степан Фёдорович его остановил:
– Вот что, молодой человек! Эдак ты дочь-то голодом заморишь, мы тут до вечера не закончим. Я вижу, ты ко всему этому тоже с интересом!
Мальцев согласно пожал плечами.
– Ты мне это всё оставь, а сам беги, потом обсудим, а то и соседке, сам понимаешь… – Степан Фёдорович многозначительно сдвинул брови, – будет нечем! Мэй ёу фанцзы!
Мальцев снова прыснул:
– Как вы сказали – «мэй ёу фанцзы»? А что это?
– Потом объясню, беги!
«Оперок! Хороший оперок, – подумал он, когда Мальцев вышел. – Были когда-то и мы!..»
Соловьёв взялся за стул, сел, сдвинул на край чёрную, на изогнутой шарнирной ноге настольную лампу и начал разворачивать эмигрантскую карту Харбина: «Харбина́! Правильно! Ударение на последний слог!» Он стал её рассматривать, водил пальцем по линиям улиц, читая знакомые названия: «…Артиллерийская, Казачья, Диагональная, Виадук, а вот Больничная, на ней была миссия, Большой проспект…» – и снова, как бы в подтверждение, почувствовал, что обе – и та, что висит у него за спиной, и эта – на столе, – в его руках уже были.
«Ладно, это карты, а что ещё нам приготовили?»
На столе одна на другой ровненько лежали две папки: он взял верхнюю, тонкую, когда-то она была нежно-голубого цвета, но выцвела и от множества фиолетовых штампов приобрела архивный вид. На обложке от руки печатными буквами было выведено:
УНКВД СССР по Хабаровскому краю.
Спецотряд № 16.
Контрольно-наблюдательное дело
«Императорская японская военная миссия»
г. Харбин. Маньчжурия.
Сотрудники.
Капитан Коити Кэндзи.
Том № 38.
1946 г.
Он хмыкнул: «Коити Кэндзи! Ну-ну! Интересно!» – он отложил эту папку и взял другую, толстую, увесистую, бурого цвета, на её лицевой стороне тоже была надпись фиолетовыми чернилами:
Дело
оперативной разработки
«Патрон».
Том № 1.
Начато: 1922 г.
Окончено: 1946 г.
«Патрон»! Вот это да! Вот это, точно, молодцы!»
Степан Фёдорович развязал тесёмки, открыл, и из-под обложки выпорхнул небольшой листок; он чуть было не слетел со стола, и Степан Фёдорович прихлопнул его ладонью. Листок был из настольного календаря со следами двух оборванных дырочек; Соловьёв прочитал:
1938 год.
23 февраля.
Среда.
День Рабоче-крестьянской
Красной армии
и флота.
20-я годовщина.
И ниже мелким шрифтом: «Восход солнца… заход… продолжительность дня…» Соловьёв с удивлением перевёл взгляд на папку – на ней значился год 1946-й.
«Откуда же ты такой вылетел? Из тридцать восьмого!»
Он положил листок на стол, снова посмотрел на папку и медленно откинулся на спинку стула.
«Патрон! Вот так так!»
Соловьёв почувствовал, как в груди что-то шевельнулось, что-то тяжёлое, ему стало трудно дышать, он удивился и подумал: «Ах, этот чёртов перелёт!» Его лоб и щёки покрыла холодная испарина, во вспотевшей ладони оказалась гильза с нитроглицерином; он положил таблетку под язык и начал рассасывать; через несколько секунд по телу пошла горячая волна, немного замутила голову и сошла; для верности он посидел ещё несколько минут, встал и вышел из кабинета. Медленно, давая возможность успокоиться сердцу, он пошёл в дальний конец коридора, к лестничной площадке с большим окном и боковым лифтом, который он помнил и который почему-то, как ему казалось, никогда не работал. Через окно был виден кусочек синего утреннего Амура и в белёсой дымке – дальние сопки Хехци́ра.
«Патрон»! Не ожидал! – подумал он. – Александр Петрович! Барон фон Адельбе́рг! Как же вы долго, Александр Петрович, пылились в архиве…»
Он постоял, подождал, пока успокоится сердце, и вернулся в кабинет.
За первыми ветхими страницами: «Опись документов», «Список лиц, знакомившихся с делом» и «Постановление о заведении дела» – была подшита «Анкета»:
«Патрон
Фон Адельберг Александр Петрович, барон.
Год рождения – 1885-й.
Место рождения – г. Митава.
Происхождение – потомственный остзейский дворянин…»
Часть первая
Глава 1
Паровоз окутался дымом и паром, завыл тормозами и загремел сцепками; короткий, из нескольких вагонов эшелон задрожал и остановился. На перроне, с винтовками наперевес, стояла плотная шеренга солдат чешского легиона.
– Что это может быть, Александр Петрович?
– Точно не знаю, Михаил Капитонович, но, судя по всему…
– Прикажете выяснить?
– Нет, поручик, я сам. Распорядитесь по составу «В ружьё!».
С подножки вагона соскочил офицер в полковничьих погонах русской императорской армии и, придерживая шашку, быстрым шагом пошёл к группе стоявших у входа в здание заиндевелого деревянного вокзала чешских офицеров.
– Литерный эшелон Верховного! Почему остановили? – обратился он. – Кто старший?
Один из офицеров вышел навстречу и взял под козырёк.
– Поручик Га́нка! – с лёгким акцентом представился он, потом потупился и тихим голосом добавил: – Приказ начальник 3-й чешский дивизия полковник Прхал, пане полковник! Вам приказ отдать паровоз и эшелон для конфискация под моя охрана и сдать оружие.
– Как приказ? Какой приказ? Я полковник барон фон Адельберг! Повторяю, поручик, это литерный эшелон Верховного! – Он схватился за шашку, но в этот момент чехи загрохотали затворами и стало ясно, что сопротивляться бесполезно. Полковник бросил шашку и револьвер на перрон и, сопровождаемый двумя легионерами, вошёл в здание вокзала. Когда он проходил мимо чешских офицеров, то за их спинами с удивлением увидел смуглое, скуластое, раскосое лицо, почти полностью зарытое мехом огромной шапки.
«И эти здесь!»
Утром третьего дня арестованный чехами полковник Адельберг обнаружил, что ему не просунули баланду и замо́к с внешней стороны не просматривается; он пнул дверь и вышел. Каталажка оказалась самодеятельная: под неё было приспособлено пустое помещение, вроде дровяника, примыкавшее к залу ожидания и имевшее свой вход. Полковник вышел на свет и оказался на деревянном перроне. Первые пути, нечётные, как и позавчера, когда чехи остановили его эшелон, были пустые. На чётных стоял и подпускал струи пара защищённый большими бронированными листами паровоз с двумя платформами. К платформам гуськом шли чешские солдаты с тяжёлыми мешками с песком и укладывали внутри вдоль бортов. Между мешками верхнего ряда обустраивали бойницы, на ближней к паровозу платформе уже установили пулемёт системы «Максим» и водили его тупым рылом: правее, левее, вверх, вниз.
«Просматривают зону обстрела, союзнички!» – подумал Адельберг.
– Эй, пане-господине! – услышал он насмешливый голос. – Не надо шевелись, я на тебя буду прицел брать!
С платформы послышался смех, и солдаты с мешками остановились. В это время тихо и поэтому неожиданно по нечётному пути к перрону приблизился другой паровоз, который тянул ещё две платформы. Паровоз поравнялся с бронированным и дал свисток, бронированный ответил, и паровоз покатил платформы дальше.
«Маневровый! Ещё платформы к бронепоезду!»
После нескольких суток заточения глаза Адельберга отвыкли, но постепенно привыкали к тому, что светит солнце и что-то двигается.
За маневренным вплотную подошёл следующий эшелон, из его первой теплушки выскочил маленького роста офицер с длинной полицейской саблей; поскользнулся на наледи, устоял и на чешском языке заорал вдоль теплушек, насколько Адельберг смог разобрать, чтобы никто не выходил и что через несколько минут «влак» пойдёт дальше.
Крик чешского офицера ударил в уши.
«Чёрт возьми! Чего я стою? Мало общался с чехами? Надо сматывать удочки, пока не поздно; за два дня не расстреляли, так сейчас быстро наверстают! – Он оглянулся и увидел в нескольких шагах от себя дверь, которая вела в помещение станции. – Но прежде надо найти телеграф!» В этот момент дверь открылась, из неё вышел мужчина в фуражке и шинели железнодорожного служащего, Адельберг шагнул к нему, но тот оглянулся и свернул за угол, будто убегал. Адельберг удивился и вошёл в маленькую залу. Слева было окно кассы: через довольно чистое стекло он увидел, что контора пуста, а на столе у окна стоит телеграфный аппарат с большими бобинами, с которых ленивыми гирляндами свисает узкая бумажная лента: бобины не вращались, аппарат не издавал привычного стука, и бумажная лента не вздрагивала.
«Не работает! Выключен! Оборвана связь!» – пробежало в голове, и он понял, что с этой станции он не сможет связаться со ставкой Верховного.
«Железнодорожник, тот, что сейчас вышел, – подумал он, – наверное, и есть кассир, начальник и телеграфист!»
Он обвёл взглядом залу и увидел справа в углу рядом с высокой, от пола до потолка, чёрной чугунной печкой, обогревавшей вокзал и его недавнюю тюрьму, большой железный бак, на котором на цепи болтался блестевший мокрый деревянный резной черпак. От бака, из темноты угла, к нему шагнул высокий плотный мужик в чёрном и, как показалось Адельбергу, странном тулупе – коротком и без рукавов; мужик утёр раскрытой ладонью губы и спросил:
– Своих шукаешь?
«Ничего себе!» – подумал Адельберг, шагнул назад и невольно потянулся рукой к кобуре.
– Не хапа́й, ваше благородие, – мужик махнул рукой, – пустая она! Твою писто́лю чехи прихватили и сабельку тож…
Мужик появился из темноты как чёрт из табакерки, всё произошло в несколько секунд: пустой зал ожидания и пустая билетная касса, неработающий телеграфный аппарат и этот…
– Своих шукаешь, ваше благородие? – снова спросил мужик.
– Что? – Адельберг прокашлялся, голос ему изменил: почти двое суток в каталажке он молчал и сейчас почувствовал, что его голос как будто бы и не его.
– Ты, ваше благородие, пытай, чего пожелаешь, я на энтой станции уже три дни! – Мужик остановился и приосанился. – А можа, есть чем на чё поменяться? А я хлебушком ссужу али рыбкой сушёной! С Байкала я! – Его предложение прозвучало неожиданно. – Сюды прибёг мануфактурой разжиться али ишо чем городским, дык вот, застрял…
– Чем же ты можешь у меня разжиться, мил-человек? – прокашлявшись, спросил Александр Петрович. – У меня и есть только то, что на мне!
– А и то хорошо, что на тебе! – Мужик сдвинул шапку на затылок и огладил смоляную, без единого седого волоса бороду. – Эвон кака шинелишка добрая, царского сукнеца… Вот тольки совет тебе дам, ты погоны-то да кокарду сыми, чехи тебя уже не тронут, а красные не сёдни к вечеру, так завтре к утру будут туточа. Как ты вышел из каталажки, так снова туды и угодишь, а то и того дале!
Мужик держался по-свойски, по-хозяйски и говорил уверенно.
– А ты знаешь, что я был в каталажке? – спросил Адельберг.
– Так об том на станции все знают! Ты ж казну вёз, даром тока чехи её забрали, нужда у них была в паровозе, ихний-то красные повзорвали, а получили – вот те нате – и паровоз, и казну…
«Однако быстро тут новости распространяются!» – подумал Адельберг.
– …А как власти здеся окажутся, особливо ежели красные, так сразу к тебе с расспросами, уж точно, что про казну! Придётся ответ держать!
Это было похоже на правду: здесь, между Нижнеудинском и Иркутском, никакой власти, судя по всему, пока не было, но уже не загадка, какая будет. Стало понятно, почему убежал тот железнодорожник, который сам себе и телеграфист и начальник станции.
«Да, значит, здесь я телеграфом не воспользуюсь! А вот я спрошу…»
– Если ты про меня знаешь, так, может, и про моих людей знаешь?
– Как не знать? Подалися все на восход, на Иркутск, а можа, и дале, энтого знать не могу!
– С ними был офицер!
– Усатенький такой! Был! Сорокиным, по-моему, кличут, иль не Сорокиным, птичья кака-то фамилия, точно не упомнил, белобрысый, как не быть? И росту моего. Он было по первости за сабельку-т схватился и даже замахнулся на кого-то, когда тебе руки заломали, дак его хотели в расход пустить, а посля отпустили… и солдат твоих… а чего отпустили, не ведаю, я ихних разговоров не слыхал.
«Правильно, – подумал Адельберг, – Сорокин, и «росту» действительно твоего!»
– Отпустили, говоришь, Сорокина?
– Отпустили!.. – Мужик хотел добавить что-то, но Адельберг неожиданно перебил его:
– А кожушок на тебе странного фасона или не по размеру пришёлся?
– Да нет! – Мужик вдруг смешался, опустил голову и стал переминаться с ноги на ногу.
«Украл, наверное, и сейчас будет оправдываться!» – подумал Адельберг, ему почему-то захотелось сбить этого странного человека с того уверенного тона, который тот задал с первого своего слова.