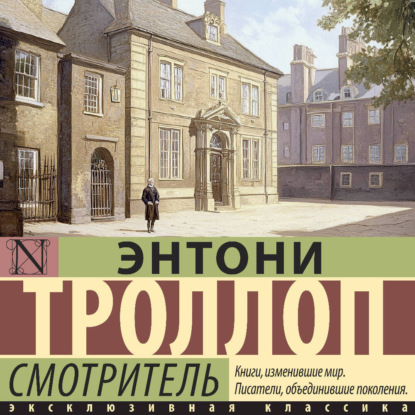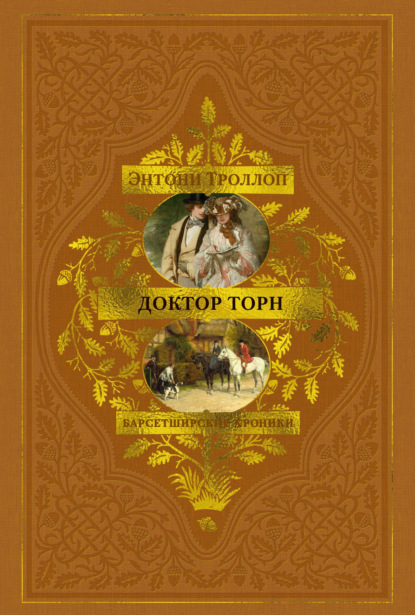
Полная версия:
Энтони Троллоп Барсетширские хроники: Доктор Торн
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Я уже упоминал, что с одной стороны от усадьбы располагались псарни. В связи с этим расскажу об одном характерном эпизоде – эпизоде в жизни нынешнего сквайра весьма длительном. Некогда он представлял свое графство в парламенте, и хотя это осталось в прошлом, его по-прежнему снедало честолюбивое стремление так или иначе приобщиться к величию родного графства; ему по-прежнему хотелось, чтобы Грешем из Грешемсбери стал для Восточного Барсетшира кем-то бо́льшим, чем Джексон с Мызы, или Бейкер из Милл-Хилла, или Бейтсон из Эннисгроува. Все они были его добрыми друзьями и весьма уважаемыми помещиками, но мистер Грешем из Грешемсбери заслуживал большего, нежели все они вместе взятые; даже у него хватало честолюбия это осознать. Посему, как только появилась возможность, он стал распорядителем охоты.
Для такого занятия он подходил во всех отношениях, кроме финансового. Хотя в юные годы он оскорбил земляков в лучших чувствах своим безразличием к семейной политической традиции и некоторым образом проштрафился, вздумав баллотироваться от графства вопреки желанию собратьев-сквайров, тем не менее он носил всеми любимое, широко известное имя. Люди сожалели, что Грешем не оправдал всеобщих ожиданий и не пошел по отцовским стопам, но когда обнаружилось, что как политик он среди них не возвысится, всем по-прежнему хотелось, чтобы он возвысился хоть в чем-нибудь, если только в графстве найдется поприще, для него подходящее. А он между тем слыл превосходным наездником и молодчагой-парнем, он хорошо понимал в гончих, а с выводком лисенят был нежен как кормящая мамочка; он носился верхом по полям графства с пятнадцати лет, улюлюкал зычно, всех псов знал поименно и умел протрубить в рожок любой потребный на охоте сигнал; более того, как знал весь Барсетшир, унаследовал чистый доход в четырнадцать тысяч годовых.
Посему, когда пожилой «хозяин гончих», притомившись, ушел на покой – скрылся, так сказать, в норе, – спустя примерно год после того, как мистер Грешем выставил свою кандидатуру от графства в последний раз, все сошлись на том, что разумно и отрадно будет передать псов на попечение владельца Грешемсбери. Действительно, отрадно для всех, кроме леди Арабеллы, и разумно, вероятно, для всех, кроме самого сквайра.
В ту пору он уже был обременен значительными долгами. За два великолепных года, когда они с женой блистали среди великих мира сего, он издержал куда больше, чем следовало, и леди Арабелла тоже. Четырнадцати тысяч годовых должно было бы хватить на то, чтобы член парламента с молодой женой и двумя-тремя детьми позволил себе обосноваться в Лондоне и при этом содержать родовое поместье, но ведь Де Курси были величайшие из великих и леди Арабелла желала жить так, как привыкла сызмала и как жила ее невестка-графиня, а у лорда Де Курси было куда больше четырнадцати тысяч в год. Потом прошли три выборные кампании со всеми сопутствующими расходами, а за ними последовали те разорительные ухищрения, к которым вынуждены прибегать джентльмены, живущие не по средствам, но неспособные значительно урезать траты. Посему к тому времени, когда псарня переместилась в Грешемсбери, мистер Грешем уже изрядно обеднел.
Леди Арабелла всеми силами пыталась не допустить собак в усадьбу, однако леди Арабелла, хотя никто про нее не сказал бы, что она покорствует мужней воле, не могла и похвастаться тем, что муж во всем ей послушен. Именно тогда она повела первую свою мощную атаку на меблировку особняка на Портман-сквер, именно тогда ее впервые поставили перед фактом, что обстановка дома не то чтобы важна, поскольку в будущем леди Арабелле уже не придется переезжать вместе с семьей в столичную резиденцию на время лондонских сезонов. Нетрудно вообразить, что за перепалки последовали за таким многообещающим началом. Если бы леди Арабелла меньше допекала супруга и повелителя, он, вероятно, более трезвым взглядом посмотрел бы на свою блажь, которая грозила обернуться непомерным увеличением хозяйственных расходов; если бы он не потратил столько на увлечение, неугодное его жене, она, вероятно, меньше упрекала бы мужа за равнодушие к ее лондонским удовольствиям. Как бы то ни было, гончие обосновались в Грешемсбери, а леди Арабелла все-таки ежегодно выезжала на некоторое время в Лондон, и семейные расходы, конечно же, никоим образом не сократились.
Но теперь конуры снова опустели. За два года до начала нашей истории псарню перевели в усадьбу побогаче. Мистера Грешема это ранило куда сильнее, нежели все предыдущие бедствия. Он пробыл хозяином гончих десять лет – и, что ни говори, работу свою выполнял хорошо. Популярность в глазах соседей, которую он утратил как политик, он вернул себе как ловчий и предпочел бы и далее самовластно распоряжаться охотой, будь это возможно. Но он и без того оставался на своем посту куда дольше, чем следовало, и наконец псов забрали – и леди Арабелла даже не пыталась скрыть свою радость.
Но мы совсем позабыли о грешемсберийских арендаторах, а ведь они уже заждались под сенью дубов. Да, когда молодой Фрэнк достиг совершеннолетия, в Грешемсбери еще оставались какие-никакие средства – их хватило, чтобы разжечь один-единственный костер и зажарить одного бычка целиком в собственной шкуре. Возмужание Фрэнка прошло не то чтобы незамеченным, как оно порою случается с сыном приходского священника или местного адвоката. В «Стандарте», консервативной барсетширской газете, с полным правом могли написать, что в Грешемсбери шел пир горой – «тряслись брады», как всегда на такого рода празднествах в течение вот уже многих веков. Да, именно так в газете и говорилось, но описание это, подобно многим другим газетным репортажам, содержало в себе не более чем крупицу правды. «Не пустели кружки», это так, а вот брады тряслись не так задорно, как в былые годы. Сквайр был на грани отчаяния, пытаясь раздобыть денег, и все до одного арендаторы об этом уже прослышали. Всем подняли ренту, лес валили безжалостно, адвокат по недвижимости богател, торговцы в Барчестере, да что там, в самом Грешемсбери уже начинали роптать, а сквайру было не до веселья. При таких обстоятельствах глотки арендаторов поглощают и снедь, и пиво за милую душу, но вот брады не трясутся.
– Помнится мне, как самого сквейра чествовали, когда ему двадцать один стукнуло, – говорил фермер Оуклират соседу. – Господи боже мой! Эх, и погуляли ж мы в тот день! Эля выпито было больше, чем сварено в большом доме за последние два года. Такого человека, как старый сквейр, ишшо поискать!
– А я-то помню рождение нынешнего сквейра, как сейчас помню, – подхватил старик-фермер, сидящий напротив. – Эх, славное времечко-то было! И ведь кажется, будто только давеча! Сквейру еще и близко пятидесяти нету, хоть выглядит он на полста. Все переменилось в Гримсбери, – (так произносили местные название усадьбы), – все переменилось к худу, сосед Оуклират. Ну-ну, мне-то уж недолго осталось, я-то свой век доживаю, так что и толковать не о чем, но после того, как больше полувека платил за землицу фунт и пятнадцать шиллингов, вот уж не думал, не гадал, что с меня сорок шиллингов затребуют.
Вот какие разговоры велись за столами. Разумеется, речи звучали совсем в ином тоне, когда наш сквайр родился, когда достиг совершеннолетия и когда, спустя каких-то два года, на свет появился его сын. По каждому из этих поводов устраивались такие же сельские празднества, и наш сквайр гостей своих не избегал. В первом случае отец нес его на руках, а следом поспешала целая свита дам и нянюшек. Во втором случае он сам преохотно участвовал во всех развлечениях, веселясь от души, и каждый арендатор стремился протолкаться к лужайке, чтобы полюбоваться на леди Арабеллу: все уже знали, что она вскоре переедет из замка Курси в Грешемсбери и станет им хозяйкой. Теперь-то к леди Арабелле теплых чувств уже не питали. В третьем случае сквайр нес младенца на руках, как некогда отец нес его; в ту пору он был в зените славы, и хотя арендаторы перешептывались, что он не так любезен с ними, как прежде, что слишком уж он понабрался спеси от Де Курси, все же он оставался их сквайром, и господином, и богачом, чья десница простиралась над ними всеми. К тому времени старого сквайра не стало, и все гордились молодым членом парламента и его знатной женой, невзирая на ее некоторую заносчивость. Теперь-то никто им уже не гордился.
Один только раз за весь день мистер Грешем обошел гостей и произнес несколько приветственных слов перед каждым столом; арендаторы вставали, кланялись и желали доброго здоровья старому сквайру, счастья молодому и процветания Грешемсбери, и тем не менее пресноватое то было празднество.
Дабы воздать честь великому событию, в усадьбу прибыли и другие гости, рангом повыше, но ни господского дома, ни домов соседствующих сквайров не заполонили такие толпы, как прежде во дни семейных торжеств. Действительно, в Грешемсбери общество собралось немногочисленное – главным образом леди Де Курси и ее свита. Леди Арабелла по-прежнему всеми силами поддерживала тесную связь с замком Курси. Она частенько там гостила, против чего мистер Грешем нимало не возражал, и при любой возможности вывозила туда дочерей, хотя в том, что касалось двух старших девочек, мистер Грешем ей препятствовал, а зачастую противились и сами барышни. Леди Арабелла гордилась своим сыном, но не он был ее любимцем. Однако ж он был наследником Грешемсбери, о чем она ни на минуту не забывала, а кроме того, вырос славным, пригожим, открытым и добрым юношей – как же матери его не любить? Леди Арабелла и любила его всем сердцем, хотя испытывала что-то вроде разочарования при виде того, что он не настолько пошел в породу Курси, как ему бы следовало. Всем сердцем любила она его и потому уговорила свою невестку и всех молодых леди – Амелию, Розину и прочих – приехать в Грешемсбери в честь совершеннолетия наследника; и еще она, с некоторым трудом, но все-таки убедила Досточтимых Джорджа и Джона проявить такую же любезность. Лорд Де Курси в то время находился при дворе – во всяком случае, так он сказал, а лорд Порлок, старший сын, прямо заявил тетушке в ответ на приглашение, что не станет утруждаться из-за такой ерунды.
А еще приехали Бейкеры, и Бейтсоны, и Джексоны, – все они жили по соседству и домой вернулись к ночи. Явился преподобный Калеб Ориэл, священник, приверженец Высокой церкви, вместе со своей красавицей-сестрой Пейшенс Ориэл. Явился мистер Йейтс Амблби, стряпчий и комиссионер, а еще – доктор Торн и его племянница мисс Мэри, застенчивая маленькая скромница.
Глава II
Дела минувших дней
Коль скоро нашим героем является доктор Торн – или, вернее, моим героем (а все читатели вольны выбрать для себя героя сами) – и коль скоро мисс Мэри Торн предстоит стать нашей героиней (а выбор в этом отношении я не уступлю никому), необходимо их официально представить, описать и объяснить, кто они такие. Я вынужден извиниться за то, что роман начинается с двух длинных и скучных глав, битком набитых описаниями. Я вполне понимаю опасность подобного подхода. Поступая так, я грешу против золотого правила, которое требует показывать товар лицом, и мудрость эту в полной мере признают романисты, в том числе и я. Глупо ожидать, что кто-то станет продираться через книгу, которая предлагает так мало заманчивого на первых же страницах, но, как ни крути, иначе не получается. Вижу, что не выходит у меня убедительным образом заставить бедного мистера Грешема хмыкать, экать и мекать и неуютно ерзать в своем кресле, пока я не расскажу, отчего ему не сидится спокойно. Я не могу принудить своего доктора высказываться со всей откровенностью в присутствии важных особ, пока не объясню, что это в его характере. Отсюда следует, что мне недостает художественного вкуса, а также воображения и мастерства. Смогу ли я искупить эти изъяны честным и незатейливым рассказом – Бог весть.
Доктор Торн принадлежал к роду в каком-то смысле столь же почтенному и в любом случае столь же древнему, как и семья мистера Грешема – да что там, куда древнее, нежели даже семья Де Курси, похвалялся он. Об этой черте его характера упомянем в первую очередь, ведь пресловутая слабость особенно бросалась в глаза. Он приходился троюродным братом мистеру Торну из Уллаторна, барсетширскому сквайру, проживающему неподалеку от Барчестера, который хвастал, что его усадьба оставалась в собственности семьи и переходила от Торна к Торну дольше, нежели можно сказать о любой другой усадьбе или о любой другой семье графства.
Но доктор Торн был всего-навсего троюродным братом, и потому, хотя имел полное право говорить о принадлежности к этому древнему роду, никак не мог претендовать на какое-то положение в графстве кроме того, что сумеет сам себе обеспечить, если решит в нем обосноваться. Наш доктор осознавал эту истину лучше любого другого. Его отец, доктор богословия, приходился двоюродным братом покойному сквайру Торну и занимал высокий церковный пост в Барчестере; он уже много лет как умер. У него было двое сыновей: один выучился на врача, но второй, младший, которого отец прочил в юристы, так и не выбрал себе подходящего занятия. Этого сына исключили из Оксфорда – сперва временно, а потом и окончательно; он возвратился в Барчестер и стал для отца и брата причиной многих горестей.
Старый доктор Торн, священник, умер, когда братья были еще молоды, и ничего после себя не оставил, кроме домашней утвари и прочего движимого имущества стоимостью около двух тысяч фунтов, а завещал это все старшему сыну, Томасу, потратив не в пример больше на погашение долгов младшего. Вплоть до того времени семья священника и обитатели Уллаторна жили в ладу и дружбе, но месяца за два до смерти старика – а произошло это все примерно за двадцать два года до начала нашей истории – тогдашний мистер Торн из Уллаторна дал понять, что отказывается принимать в своем доме кузена Генри, которого считает позором семьи.
Отцы обыкновенно более снисходительны к сыновьям, нежели дяди – к племянникам или двоюродные и троюродные братья – друг к другу. Доктор Торн все еще надеялся на исправление своего отпрыска и считал, что глава семьи выказал неоправданную суровость, чиня тому препоны. И если отец горячо поддерживал своего беспутного сына, молодой медик поддерживал беспутного брата еще горячее. Доктор Торн-младший сам повесой не был, но, вероятно, в силу своей молодости не испытывал надлежащего отвращения к братним порокам. Как бы то ни было, он стоял за брата горой, и, когда старого пребендария известили, что присутствие Генри в Уллаторне нежелательно, доктор Томас Торн написал сквайру, что в подобных обстоятельствах его визиты тоже прекратятся.
Такой поступок благоразумным не назовешь, ведь юный Гален решил обосноваться в Барчестере главным образом потому, что рассчитывал на родственные связи с Уллаторном. Однако в ослеплении гневом он об этом не вспомнил; и на заре юности, и в зрелые годы Томас Торн в пылу гнева никогда не задумывался о том, о чем задуматься, безусловно, стоило. Это, вероятно, было не так уж и важно, ведь гнев его длился недолго и обычно развеивался быстрее, чем с уст слетали гневные слова. Однако с обитателями Уллаторна он рассорился достаточно прочно, чтобы серьезно повредить своим профессиональным перспективам.
По смерти отца двое братьев, стесненные в средствах, вынуждены были поселиться под одним кровом. В ту пору в Барчестере жила семья по фамилии Скэтчерд. В рассказе о тогдашних временах речь у нас пойдет только о двух ее представителях: о брате с сестрой. Они принадлежали к низшим слоям общества, брат работал наемным каменотесом, а сестра состояла в обучении у модистки, изготавливающей соломенные шляпки, и тем не менее они были люди в своем роде примечательные. Сестра славилась по всему Барчестеру как образец женской красоты определенного типа – цветущая, крепкая, кровь с молоком – и, что еще ценнее, слыла девушкой порядочной, поведения скромного и честного. Брат чрезвычайно гордился и ее красотою, и доброй славой, и возгордился еще более, когда узнал, что к ней присватался местный преуспевающий торговец, человек весьма достойный.
Роджер Скэтчерд тоже составил себе определенную репутацию, но не красотой и не благонравием. Он прославился как лучший каменщик в четырех графствах, а также как выпивоха, способный при случае перепить кого угодно в тех же краях. Надо сказать, что в своем деле он стяжал славу еще бо́льшую: он не только сам работал ловко, сноровисто и споро, но добивался того же и от других; под его началом каменщики становились искусными мастерами. Он обладал редким талантом понимать, к чему человек пригоден и куда его приставить; постепенно он сам научился просчитывать, на что способны пятеро, и десятеро, и двадцать, а под конец тысяча и две тысячи работников, причем просчитывал это почти без помощи пера и бумаги, которые так никогда толком и не освоил. Были у него и другие дарования и наклонности. Он умел вести речи, опасные для себя и других, умел убеждать, сам того не сознавая, и, будучи прирожденным народным трибуном, в смутные времена незадолго до Избирательной реформы он, вовсе не задаваясь такой целью, перебаламутил весь Барчестер.
А Генри Торну, при всех прочих его дурных свойствах, был присущ недостаток, который друзья его почитали наихудшим и который, пожалуй, оправдывал суровость обитателей Уллаторна. Генри Торн охотно якшался с простонародьем. Он не просто напивался – это еще хоть сколько-то извинительно, – но напивался в низкопробных кабаках с вульгарными пьяницами; об этом твердили и его друзья, и его враги. Сам молодой человек отрицал обвинение, высказанное во множественном числе, и уверял, что его единственный плебейский собутыльник – Роджер Скэтчерд. С Роджером Скэтчердом он и впрямь водил компанию и заметно поднабрался от него демократических замашек. А вот Торны из Уллаторна были тори высшей пробы.
В самом ли деле Мэри Скэтчерд сразу ответила респектабельному торговцу согласием, сказать не могу. После того, как произошли известные события, о которых вскоре пойдет речь, она утверждала, что нет, согласия она не давала. Брат ее уверял, что да, со всей определенностью предложение она приняла. Сам респектабельный торговец говорить на эту тему отказывался.
Несомненно одно: Скэтчерд, который в обществе своего приятеля-джентльмена про сестру обычно помалкивал, все-таки, не удержавшись, расхвастался о помолвке, когда, по его словам, она была заключена, а затем еще и превознес до небес красоту девушки. Скэтчерд, невзирая на свою частую невоздержанность, надеялся со временем выбиться в люди и считал будущий брак сестры небесполезным для собственных честолюбивых устремлений.
Генри Торн был давно наслышан о Мэри Скэтчерд и, конечно же, ее видел, но до сих пор его распутные посягательства на нее не распространялись. Однако стоило повесе узнать, что она честь по чести выходит замуж, как дьявол принялся подбивать его соблазнить чужую невесту. Пересказывать историю в подробностях нужды нет. Позже выяснилось, что Генри Торн прямо и недвусмысленно пообещал Мэри жениться на ней и даже дал ей брачное обещание в письменном виде – и таким образом добившись возможности видеться с нею наедине в ее редкие свободные часы, по воскресеньям или летними вечерами, обольстил бедняжку. Скэтчерд открыто обвинил его в том, что он одурманил девушку сонным зельем, и Томас Торн, рассмотрев дело, в конце концов обвинению поверил. В Барчестере стало известно, что Мэри беременна, а совратитель – Генри Торн.
Едва узнав позорную новость, Роджер Скэтчерд напился допьяна и принялся клясться и божиться, что убьет обоих. Однако в пылу гнева он решил начать с мужчины и разобраться с ним по-мужски. Когда Роджер отправился на поиски Генри Торна, из оружия при нем были только кулаки да увесистая дубинка.
В ту пору братья Торны жили вместе в фермерском доме неподалеку от города. Такое жилище практикующему врачу, конечно же, не подобало, но после смерти отца устроиться более приличным образом молодой доктор не смог и, стремясь по возможности держать брата в узде, предпочел поселиться там. Туда-то, на ферму, одним душным летним вечером и нагрянул Роджер Скэтчерд. Его налитые кровью глаза свирепо пылали, он бежал, не останавливаясь, от самого города, и теперь, разгоряченный и все еще под воздействием винных паров, не помнил себя от ярости.
У самой калитки дома, безмятежно покуривая сигару, стоял Генри Торн. Скэтчерд думал, что жертву придется разыскивать по всему саду, призывать громогласными криками и пробиваться к негодяю сквозь все преграды. А он – вот он, тут как тут, прямо перед ним.
– Ну, Роджер, как делишки? – обронил Генри Торн.
То были его последние слова. В ответ на оскорбителя обрушилась терновая дубинка. Завязалась драка, завершившаяся тем, что Скэтчерд сдержал обещание – во всяком случае, в отношении главного своего обидчика. Чем именно был нанесен роковой удар в висок, установить в точности так и не удалось: один медик утверждал, что окованной железом дубинкой в ходе борьбы, другой считал, что камнем, а третий предполагал, что молотком каменотеса. Впоследствии, кажется, доказали, что молотка Скэтчерд в ход не пускал, а сам он упорно настаивал, что не держал в руках никакого оружия, кроме дубинки. Однако Скэтчерд был пьян, и пусть даже он искренне хотел рассказать все как есть, он, возможно, толком ничего не помнил. А факты как таковые сводились к следующему: Торн был мертв, часом раньше Скэтчерд поклялся его убить и угрозу свою исполнил безотлагательно. Каменотеса арестовали и обвинили в убийстве. На суде все удручающие обстоятельства дела вышли наружу; он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к полугодовому тюремному заключению. Вероятно, наши читатели сочтут наказание чересчур суровым.
Томас Торн и фермер подоспели к месту событий вскорости после того, как Генри Торн рухнул на землю. Поначалу его брат был вне себя и жаждал отомстить убийце. Но когда вскрылись факты и Томас узнал, что послужило поводом для драки и что за чувства обуревали Скэтчерда, когда тот вышел из города с твердым намерением покарать соблазнителя, настроение доктора переменилось. То были тяжелые для него дни. Ему следовало сделать все, что в его силах, чтобы защитить память брата от позора, который тот сам на себя навлек; ему также следовало спасти или помочь спасти от несправедливого наказания бедолагу, пролившего кровь его брата, а еще ему следовало – или по крайней мере он так считал! – позаботиться о бедной погубленной девушке, которая заслуживала своей горестной участи не в пример меньше, нежели ее брат или брат доктора Торна.
А Томас Торн был не из тех, кто в подобной ситуации, особо не утруждаясь, исполнил бы только то, что велит долг – и не более. Он платил за защиту обвиняемого, платил за защиту памяти брата, платил за то, чтобы облегчить жизнь бедной девушке. Все это он делал сам и о помощи не желал и слышать. Он был один в целом свете – и на том стоял. Старый мистер Торн из Уллаторна охотно снова распахнул бы ему объятия, но наш герой вбил себе в голову, что именно суровость родича толкнула Генри на дурную дорожку, и посему не соглашался принимать от Уллаторна никаких одолжений. Мисс Торн, дочь старого сквайра, кузина Томаса гораздо старше его годами, к которой он некогда был очень привязан, послала ему денег; он вернул всю сумму в конверте без подписи. На те невеселые цели, что перед ним стояли, средств у него пока еще хватало. А что будет потом – на тот момент ему было все равно.
История наделала в графстве много шуму, мировые судьи разбирали факты со всей дотошностью, и дотошнее прочих – Джон Ньюболд Грешем, который в ту пору был еще жив. Неиссякаемая энергия и острое чувство справедливости, выказанные в этих обстоятельствах доктором Торном, произвели на мистера Грешема самое благоприятное впечатление, и когда суд закончился, старый сквайр пригласил его в Грешемсбери. Как следствие этого визита, доктор обосновался в деревне.
Но вернемся ненадолго к Мэри Скэтчерд. Судьба спасла ее от братней ярости, ведь того арестовали по обвинению в убийстве еще до того, как он успел добраться до бедняжки. Однако ближайшее будущее не сулило ей ничего, кроме горя. Хотя она имела все основания ненавидеть подлого соблазнителя, который обошелся с ней так бесчеловечно, для нее было только естественно думать о нем с любовью, а не с отвращением. У кого еще могла она искать любви – в ее-то бедственном положении? Потому, услыхав, что Генри Торн убит, она совсем пала духом, отвернулась лицом к стене и легла, приготовившись к смерти: к смерти двойной – для себя и для осиротевшего младенца в своем чреве.
И все ж таки, как оказалось, ей было еще ради чего жить – и ей самой, и ее ребенку. Судьба назначила Мэри уехать в далекую страну, стать достойной женой хорошего мужа и счастливой матерью многих детей. А еще не рожденной малютке судьба назначила… ну да не будем забегать вперед: рассказу о ее судьбе и посвящается настоящая книга.
Даже в эти горькие дни Господь поумерил ветер для стриженой овечки. Сразу после того, как до Мэри дошло страшное известие, к ее изголовью подоспел доктор Торн и сделал для нее больше, чем смогли бы любовник или брат. Когда дитя появилось на свет, Скэтчерд находился в тюрьме; ему оставалось отсидеть еще три месяца. История несчастной страдалицы была у всех на устах, и люди говорили: на той, с кем так жестоко обошлись, греха, в сущности, и нет.