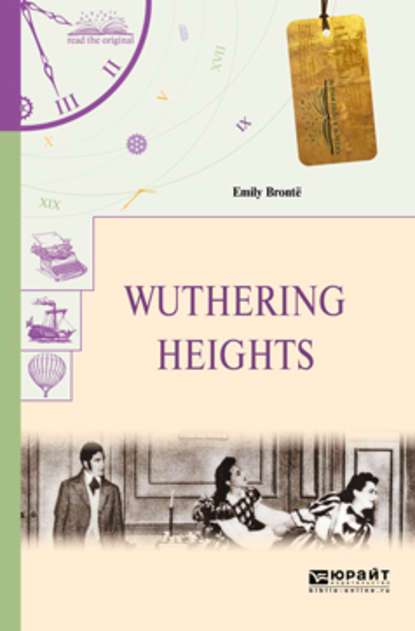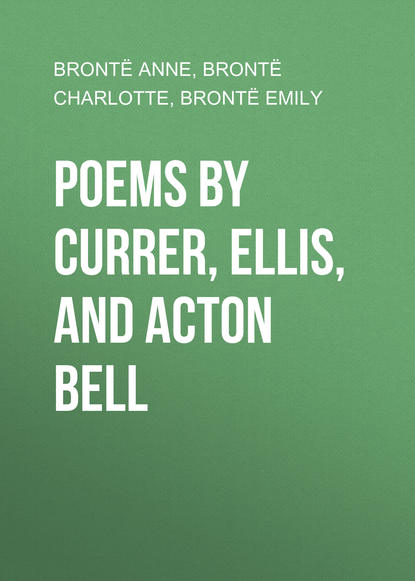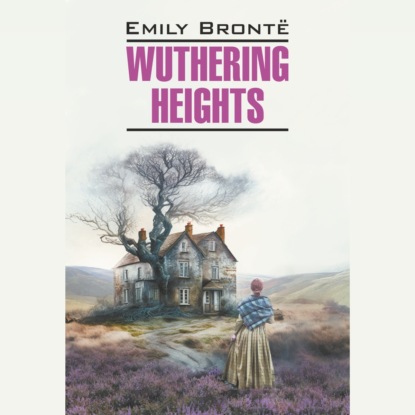Полная версия:
Эмили Бронте Грозовой перевал
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
“Нет! Я решился, и, видит Бог, я задуманное свершу! – возразил этот отчаявшийся человек. – Сделаю вам доброе дело вопреки вашей воле, а Хэртону подарю справедливость! И вам незачем ломать голову, как меня прикрыть, – Кэтрин не с нами больше. Никто из живых не пожалеет обо мне и меня не устыдится, пусть даже я сию минуту перережу себе глотку, – и настал час всему положить конец!”
Сражаться с ним – что с медведем, увещать его – что помешанного. Мне оставалось лишь подбежать к окну и предостеречь намеченную жертву, какая его ждет судьба.
“Лучше сегодня поищите себе пристанище не здесь! – крикнула я с немалым торжеством. – Господин Эрншо замыслил вас пристрелить, если станете ломиться в дверь”.
“А ну-ка открывай, ты…” – отвечал он, назвав меня изысканным словом, кое я не желаю повторять.
“Я вмешиваться не стану, – откликнулась я. – Заходите под пулю, если угодно. Я сделала что должно”.
С этими словами я захлопнула окно и возвратилась к очагу; мои скудные запасы лицемерия не дозволяли мне притвориться, будто я тревожусь из-за опасности, коя ему угрожала. Эрншо страстно меня обругал; заявил, что я до сих пор люблю злодея; и за выказанную мною низость обозвал всевозможными словами. Я же в тайниках души (и совесть ни единожды меня не укорила) рассуждала о том, какое это будет благословение длянего, избавь его Хитклифф от мучений, и какое будет благословение для меня, отправь он Хитклиффа в законное его обиталище! И пока я лелеяла эти помыслы, створка позади меня с грохотом упала на пол под ударом сей последней персоны, и в окно сунулся его пагубный черный лик. Решетка на окне была слишком частая, плечи у него не пролезали, и я улыбнулась в восторге от своей воображаемой безопасности. Волосы его и одежда от снега побелели, а острые людоедские зубы, обнаженные холодом и гневом, блестели во тьме.
“Изабелла, впустите меня, не то пожалеете!” – “ощерилсси” он, как выражается Джозеф.
“Я не могу свершить убийство, – ответила я. – Господин Хиндли стоит на страже с ножом и заряженным пистолетом”.
“В кухню впустите”, – сказал он.
“Хиндли там очутится прежде меня, – возразила я. – И что ж у вас за любовь-то такая немощная, раз вы снежка не стерпели! Никто не трогал нас и не вытаскивал из постелей при летней луне, но едва опять задул зимний ветер, непременно вам нужно бежать в укрытие! Хитклифф, я бы на вашем месте легла на ее могилу и подохла, как верная собачонка. Теперь-то мир не стоит жизни, не так ли? Вы очень доступно внушили мне, что Кэтрин – единственная ваша радость на земле; не постигаю, как вы намерены пережить утрату”.
“Он здесь, да? – вскричал мой компаньон, кинувшись к щели в окне. – Если рука пролезет, я его подстрелю!”
Боюсь, Эллен, ты сочтешь меня подлинной злодейкой, но ты всего не знаешь, а посему не суди. Я бы ни за что не подстрекала и не подталкивала к покушенью даже наего жизнь. Но я желаю ему смерти беспременно, а потому была охвачена испуганным разочарованием и оробела от ужаса пред последствиями моей язвительной речи, когда он бросился на Эрншо и вырвал оружие у того из руки.
Грохнул выстрел, а нож, отброшенный пружиною, вонзился в запястье своему владельцу. Хитклифф мощным рывком отнял смертоносное орудье, попутно взрезав Хиндли плоть, и сунул окровавленный пистолет в карман. Затем взял камень, разбил перегородку между окнами и впрыгнул в комнату. Противник его рухнул без чувств от ужасной боли и потери крови, что хлестала из артерии или крупной вены. Негодяй пинал и топтал его, снова и снова колотил головою о плиты, одной рукой между тем схватив меня, дабы я не призвала Джозефа. Явив нечеловеческое самоотреченье, он воздержался совершенно прикончить недруга; задохнувшись, наконец оставил свои занятья и отволок как будто бездыханное тело на коник. Там он оторвал рукав от сюртука Эрншо и со зверской грубостью перевязал рану, плюясь и ругаясь во время операции столь же энергично, сколь прежде пинал пациента. Обретя свободу, я, не теряя времени, побежала искать старого слугу; тот, мало-помалу уразумев суть моего торопливого повествованья, поспешил вниз, громко сопя и шагая через ступеньку.
“Чогой таперча деять? чогой таперча деять?”
“Делать вот что, – прогремел Хитклифф. – Твой хозяин лишился рассудка; если протянет еще месяц, я сдам его в сумасшедший дом. И за каким дьяволом ты передо мною запер дверь, беззубый ты пес? Хватит бубнить и мямлить. Поди сюда, я сам его выхаживать не стану. Смой тут; и со свечными искрами поосторожнее – тут бренди больше половины!”
“Дак вы его, сталбыть, ухайдакали?! – возопил Джозеф, в ужасе воздевая руки и взгляд. – Чогой ж енто деется! Осподи смилуйсси…”
Хитклифф толкнул его на колени в лужу крови и швырнул ему полотенце; Джозеф, однако, подтирать кровь не стал, а сложил руки и завел молитву, коя диковинным словоупотреблением рассмешила меня. В моем состоянии ничто меня не потрясало; собственно говоря, я была безрассудна – так порою злоумышленники безрассудны у подножия виселицы.
“А, тут же еще ты, – молвил тиран. – Считай, что сама напросилась. Давай-ка на пол. И ты сговаривалась с ним против меня, гадюка? Вот такая работа тебе и подобает”.
Он тряс меня, пока я не застучала зубами, и швырнул к Джозефу; тот, не торопясь, завершил моленья, а затем встал и поклялся, что сейчас же отправится в Усад. Господин Линтон – мировой судья, и пущай у него хоть пятьдесят жен помрет, а расследовать это дело он должон. В своей решимости Джозеф так упрямствовал, что Хитклифф почел за лучшее исторгнуть из моих уст живописанье произошедшего, – он возвышался надо мною, задыхаясь от злобы, а я в ответ на его вопросы неохотно обо всем поведала. Пришлось немало постараться, дабы уверить старика, что зачинщиком был не Хитклифф; вдобавок показанья у меня вырывали с трудом. Впрочем, господин Эрншо вскоре убедил слугу, что жив; Джозеф поспешил угостить его спиртным, и при посредстве оного хозяин вскоре зашевелился и пришел в себя. Хитклифф, понимая, что недруг его не ведает о том, как с ним обращались, пока он был без чувств, объявил, что Хиндли допился до белой горячки, сказал, что отвратительному его поступку вниманья более не уделит, и посоветовал отправляться в постель. К моей радости, сам Хитклифф, огласив сей здравый совет, оставил нас, а Хиндли растянулся перед камином. Я ушла к себе, изумляясь, до чего легко отделалась.
Нынче утром, когда я сошла вниз примерно за полчаса до полудня, господин Эрншо сидел у огня, смертельно больной; злой гений его, почти столь же суровый и страшный, стоял, опершись на каминную полку. Оба, похоже, трапезничать были не склонны, и я, подождав, пока на столе все остынет, приступила к еде одна. Ничто не препятствовало моему аппетиту; временами я с довольством и достоинством поглядывала на безмолвных моих компаньонов, и совесть, к моему утешению, не мучила меня. Доев, я решилась на необычайную вольность и приблизилась к огню, обошла кресло Эрншо и опустилась на колени в уголке подле него.
Хитклифф на меня не смотрел, и я, подняв голову, разглядывала его черты с немалой смелостью, точно они претворились в камень. Чело его, кое некогда я почитала столь мужественным, а ныне нахожу дьявольским, застила густая туча; глаза василиска почти угасли от бессонницы и, вероятно, рыданий, ибо ресницы были влажны; с губ соскользнула свирепая ухмылка, их запечатала гримаса невыразимой грусти. Будь это иной человек, я бы закрыла лицо пред подобным горем. Но то былон, и я возрадовалась; пускай и недостойно оскорблять падшего врага, я не могла упустить случая воткнуть в него дротик: лишь в минуты его слабости мне перепадало наслажденье отплатить злом за зло.
“Фу-ты, какой стыд, моя госпожа[9], – прервала его думы я. – Вы как будто в жизни Библию не открывали. Если Господь поразил ваших врагов, надлежит этим удовлетвориться. Низко и самонадеянно приумножать его страданья своими!”
Обыкновенно, Эллен, я бы на том и остановилась, – продолжала она, – но никакое бедствие, постигшее Хитклиффа, не принесло бы мне радости, если не я оное причинила. Пускай бы он страдал меньше, стань я сама причиною изнай он, что причиною стала я. О да, вот уж этим я ему обязана. Лишь при одном условии я надеюсь его простить. Взяв око за око и зуб за зуб, за каждую судорогу агонии отплатив судорогой, низведя его до себя. Раз он первым причинил боль, пускай первым молит о прощении, а затем… что ж, Эллен, затем я, быть может, и явлю ему несколько великодушия. Но мне решительно невозможно отмстить, а посему и простить я не могу. Хиндли захотел воды; я дала ему стакан и спросила, как он себя чувствует.
“Не так болен, как надеялся, – отвечал он. – Но и помимо руки каждый дюйм моего тела болит, словно я сражался с легионом мелких бесов!”
“Ну да, неудивительно, – заметила я. – Кэтрин прежде хвасталась, что убережет вас от физической пагубы, разумея под этим, что некие лица не обидят вас, боясь оскорбить ее. Хорошо, что люди не восстают из могилвзаправду, не то ночью она узрела бы отвратительную сцену! У вас грудь и плечи все в синяках и порезах, не так ли?”
“Не могу сказать, – отвечал он, – но о чем вы? Он посмел ударить меня, когда я пал?”
“Он топтал вас, и пинал, и колотил об пол, – прошептала я. – И пускал слюну, желая разорвать вас зубами, ибо он человек лишь наполовину, да и то едва ли, а в остальном дикий зверь”.
Господин Эрншо, как и я, перевел взгляд на лицо общего нашего недруга; тот же, поглощенный горем, словно бы ничего вокруг не замечал; чем дольше он стоял, тем яснее в чертах его проступала чернота его помыслов.
“О, если бы Господь даровал мне силы задушить его в предсмертной агонии, я бы умер с радостью”, – простонал нетерпеливец, заерзал, тщась подняться, и в отчаянии вновь упал в кресло, убедившись, что к бою не готов.
“Да нет, вполне довольно, что он убил одного из вас, – вслух возразила я. – В Усаде каждый знает, что сестра ваша была бы жива, если б не господин Хитклифф. Выходит, лучше пробуждать в нем ненависть, чем любовь. Я вспоминаю, как мы были счастливы, как счастлива была Кэтрин до его появленья, – и готова проклинать тот день”.
Вероятно, в этих словах Хитклифф яснее расслышал истинность смысла, нежели намерение той, кто говорил. Они пробудили его вниманье – я это поняла, ибо из глаз его в золу дождем полились слезы, и он с трудом втягивал воздух. Я посмотрела ему в лицо и презрительно рассмеялась. Помутившиеся окна ада на миг сверкнули мне в лицо; однако зверь, обыкновенно из них взиравший, до того был затуманен и затоплен, что я не побоялась пренебрежительно фыркнуть еще раз.
“Встань и убирайся с глаз моих”, – промолвил страдалец.
Мне, во всяком случае, почудилось, что он сказал так, хотя слова едва ли были разборчивы.
“Прошу извинить, – отвечала я, – но я тоже любила Кэтрин, а брат ее нуждается в попечении, каковое я предоставлю ему ради нее. Теперь она мертва, и я вижу ее черты в Хиндли: у него были бы точно такие же глаза, если б вы их не выцарапывали, отчего они почернели и покраснели; у него точно такие же…”
“Вставай, идиотка несчастная, пока я тебя не затоптал до смерти!” – рявкнул он и двинулся было ко мне – тогда и я отодвинулась.
“Впрочем, – продолжала я, изготовившись к побегу, – если б наша бедняжка Кэтрин доверилась вам и приняла нелепый, презренный, унизительный титул госпожи Хитклифф, вскоре она бы являла собою схожее зрелище! Вотона бы не стала молча терпеть вашу гнусность; ее ненависть и отвращенье не лишены были бы дара речи”.
Нас разделяли спинка коника и фигура Эрншо; посему Хитклифф не стал тянуться за мною, а схватил столовый нож и метнул мне в голову. Нож ударил ниже уха и оборвал мою фразу; однако, выдернув оружие из раны, я прыгнула к двери и бросила следующую реплику – надеюсь, она проникла поглубже его снаряда. Напоследок я успела увидеть, как он в ярости бросился за мной, но был остановлен объятьями хозяина дома; сцепившись, оба рухнули перед камином. В кухне я на бегу велела Джозефу спешить на помощь хозяину и сбила с ног Хэртона – тот в дверях вешал новорожденных щенят на спинке стула; охваченная благодатью, точно душа, избегнувшая чистилища, я бежала, прыгала и летела по крутой дороге; а затем, свернув прочь от ее извивов, помчалась прямиком через пустоши, скатываясь по склонам и вброд переходя болота, спеша, собственно говоря, к путеводным огням Усада. И пусть я лучше буду обречена веки вечные жить в аду, нежели еще хоть единую ночь проведу под крышей Громотевичной Горы».
Изабелла умолкла и глотнула чаю; затем поднялась, велела надеть ей шляпку и принесенную мною шаль, осталась глуха к моим мольбам побыть еще часок, взобралась на кресло, поцеловала портреты Эдгара и Кэтрин, таким же приветом наградила меня и сошла на двор к коляске в сопровождении Фанни, бешено тявкавшей в восторге от того, что ее хозяйка снова сыскалась. Изабелла укатила и больше не появлялась в округе; впрочем, едва страсти поутихли, между нею и хозяином завязалась регулярная переписка. Думается мне, она жила на юге неподалеку от Лондона; там спустя несколько месяцев после побега она родила сына. Его окрестили Линтоном, и с первых же дней она сообщала, что существо он болящее и капризное.
Господин Хитклифф, как-то раз повстречав меня в деревне, поинтересовался, где она живет. Я его просветить отказалась. Он отвечал, что сие несущественно, да только пускай она поостережется навещать брата; с братом ей быть негоже, раз уж он ее содержит. Я ему ни словечка не выдала, да только от других слуг он узнал, где Изабелла обретается и что у нее родилось дитя. И тем не менее он ей не докучал, за каковую терпеливость, думается мне, благодарить надобно его отвращенье. Встречая меня, он часто спрашивал, что там младенец; а узнав, как назвали ребенка, мрачно улыбнулся и отметил: «Они, значит, хотят, чтобы я и его ненавидел?»
«Мне думается, они хотят, чтоб вы о нем и не знали», – ответила я.
«Но я заполучу его, – сказал он, – когда захочу. На иное пусть и не рассчитывают!»
По счастью, мать ребенка скончалась, прежде чем наступил тот день, – спустя лет тринадцать после смерти Кэтрин, когда Линтону было двенадцать или чуть побольше.
Назавтра после нежданного визита Изабеллы мне не выпало случая побеседовать с хозяином: разговоров он избегал и никакой предмет обсуждать был не в силах. Когда же мне удалось добиться от него вниманья, я увидела, как он рад, что сестра оставила мужа, ненавидимого им с жаром, кой едва ли допускала мягкость натуры. Столь глубоко и остро было его омерзенье, что он избегал показываться там, где мог увидеть Хитклиффа либо о нем услышать. От горя и от сего чувства вкупе он сделался совершенным затворником: отказался от должности мирового судьи, даже в церковь бросил ходить, по любому поводу уклонялся от визитов в деревню и жил полным анахоретом, не преступая границ парка и угодий, а развлекал себя разве только одинокими прогулками по пустошам да визитами на могилу жены, большей частью вечерами или рано поутру, прежде чем выйдут на свет Божий другие скитальцы. Однако человек он слишком добрый, а посему глубоко несчастным пробыл недолго.Он-то не молился о том, чтоб душа Кэтрин преследовала его. Со временем пришли смирение да меланхолия, что слаще обыденной радости. Воспоминания о Кэтрин он лелеял с пылкой нежной любовью и надеждою на лучший мир, не сомневаясь, что туда-то она и отправилась.
Были у него и земные утешенья и привязанности. Несколько дней, говорю же, он не дарил вниманьем слабенькую наследницу усопшей; холодность сия истаяла, как апрельские снега, и не успела кроха пролепетать хоть слово или проковылять хоть шажок, она уже деспотической ручонкою правила его сердцем. Девочку нарекли Кэтрин; но он никогда не звал ее полным именем, как никогда не сокращал имя первой Кэтрин – вероятно, потому, что эдакая привычка водилась за Хитклиффом. Маленькая же неизменно была Кэти; так Эдгар обозначал различье между нею и матерью, но и общность с оной, и его любовь к дочери рождалась больше из любви к матери, нежели из собственного отцовства.
Я тогда все сравнивала его с Хиндли Эрншо да гадала, как объяснить удовлетворительно, отчего они вели себя противоположным манером в схожих обстоятельствах. Оба любящие мужья, оба привязаны к детям; я не постигала, отчего оба не ступили на один путь, добра либо зла. Но, рассуждала я, Хиндли, хоть и казался сильным и умным, выказался, увы, дурным и слабым. Едва судно его налетело на мель, капитан оставил мостик, а команду, что и не пыталась даже спастись от потопленья, охватили смятение да мятежи, и бессчастному судну не осталось ни капли надежды. Линтон же, напротив, явил подлинную доблесть верной и преданной души: он доверился Господу, и Господь утешил его. Один питал надежду, другой отчаялся; оба сами избрали свою судьбу и по праву обречены были нести ее бремя. Но вы, господин Локвуд, моих назиданий слушать не хотите; о событьях вы уж судите сами, вы на то способны не хуже меня, или же вам так мстится, а это все одно. Эрншо постиг конец, коего и следовало ожидать; завершилось все вскоре после кончины его сестры, едва ли полгода миновало. До нас в Усаде так и не дошло ясных сведений о том, как он жил перед смертью; я узнала то, что знаю, лишь придя пособить с устройством похорон. Моему хозяину весть принес господин Кеннет.
«Ну-с, Нелли, – промолвил он, верхом въехав к нам на двор однажды утром; час был чересчур ранний, и я не заподозрила дурных новостей сей же миг, – настал черед плакать нам с тобою. Как думаешь, кто от нас нынче улизнул?»
«Кто?» – всполошилась я.
«Так ты угадай! – отвечал он, спешившись и накинув поводья на крюк у двери. – И приготовь уголок передника; уж он тебе сгодится».
«Не господин же Хитклифф!» – вскричала я.
«Что?! а ты бы стала по нему плакать? – переспросил доктор. – Нет, Хитклифф – парень крепкий; он нынче попросту расцвел. Я только что от него. Лишившись лучшей своей половины, он полнеет не по дням, а по часам».
«Так кто тогда, господин Кеннет?» – досадливо спросила я.
«Хиндли Эрншо! – сказал он. – Хиндли, тебе давний дружок, а мне – злой на язык приятель; впрочем, на мой вкус, он давненько уж спятил. Ну вот! Я же говорил: будем слезы проливать. Веселей! Он помер, не изменив себе: напился по-королевски. Бедняга! Жалко его, конечно. Хочешь не хочешь, а заскучаешь о старом товарище, пускай он и безобразничал так, что во сне не приснится, да и плутовал со мною не раз. Ему же еле минуло двадцать семь; вы с ним однолетки – кто б мог подумать, что родились одним годом?»
Признаться, этот удар подкосил меня сильнее, чем потрясение от смерти госпожи Линтон, – стародавние друзья не отпускают мое сердце; я сидела на крыльце и рыдала, точно о кровной родне, и желала, чтоб господин Кеннет послал доложить о себе хозяину кого другого из слуг. Я невольно размышляла, все ли в этом деле чисто. Что ни делала, никак не могла отмахнуться от этой мысли, и до того она была неподатлива да утомительна, что я решила испросить дозволенья пойти в Громотевичную Гору и помочь с последним долгом умершему. Господин Линтон согласился с превеликой неохотою, но я красноречиво взмолилась за человека, что лежал там один-одинешенек; и прибавила, что прежний хозяин и названый брат на услуги мои имеет прав не меньше, нежели хозяин нынешний. В придачу я напомнила ему, что малолетний Хэртон – племянник его жены, а коли родни более близкого свойства у ребенка нет, ему, Эдгару, надобно стать Хэртону опекуном; и еще надобно разузнать, как обстоят дела с имуществом, и об интересах своего шурина позаботиться. Господин Линтон был тогда не расположен заниматься эдакими вещами, но велел мне поговорить с его поверенным и в конце концов отпустил. Поверенный его был и поверенным Эрншо; я зашла в деревню и попросила его меня сопроводить. Поверенный покачал головой и посоветовал Хитклиффа не трогать – мол, ежели вскроется правда, Хэртон, пожалуй, пойдет побираться.
«Его отец умер в долгах, – сказал поверенный, – все имущество заложено, и у прямого наследника одна надежда – что ему выпадет случай расположить к себе кредитора, дабы тот выказал ему снисходительность».
Придя в Громотевичную Гору, я объяснилась – так и так, хочу проследить, чтобы все устроилось пристойно, – и весьма огорченного Джозефа мое присутствие порадовало. Господин Хитклифф сказал, что не постигает, на что я тут сдалась, но я могу остаться и устроить похороны, ежели мне угодно.
«По праву, – заметил он, – тело этого болвана следует без церемоний похоронить на перекрестке. Я вечор оставил его на десять минут, и он успел запереть за мною все двери до одной и ночь напролет напивался до смерти, нарочно! Мы взломали дверь поутру, как заслышали тут лошадиный храп, – а он лежит на конике: хоть освежуй его, хоть оскальпируй – не проснется. Я послал за Кеннетом, и тот приехал, да не успел – скотина уже обернулась падалью; он стал мертв, и холоден, и окоченел – сама понимаешь, суетиться уже не было проку!»
Старый слуга подтвердил его слова, однако пробубнил:
«Унше б ему было самому за дохтуром пойтить! Я-то б за хозяем унше присмотрел – ничогой он был не мертвый, када я ушел, от вобще не упокойник!»
Я потребовала достойных похорон. Господин Хитклифф сказал, что и тут я могу поступать, как мне вздумается, да только пускай я не забываю, что за все из своего кармана платит он. Держался он сурово и небрежно, не выказывал ни радости, ни печали – скорей уж черствое удовлетворенье успешно выполненной тяжкой работой. Раз я мельком заметила в его лице эдакое даже ликованье – это когда тело выносили. Ему хватило лицемерия скорбно идти за гробом, а прежде чем шагнуть за дверь с Хэртоном, он поставил несчастного на стол и с необычайным смаком прошептал: «А теперь, мальчонка, тымой! Вот и поглядим, равно ли искорежит один и тот же ветер два разных древа!» Ничего не подозревающее дитя выслушало эту речь с удовольствием, подергало Хитклиффа за бороду и погладило по щеке; я же прозрела смысл и досадливо заметила: «Мальчик должен пойти со мною в Скворечный Усад, сэр. Вот уж кто в этом мире точно не ваш!»
«Это Линтон так говорит?» – осведомился Хитклифф.
«Разумеется – и мне велено ребенка забрать», – отвечала я.
«Что ж, – промолвил негодяй, – сию минуту мы спорить не станем, однако на меня напала охота попробовать себя в воспитании молодняка; ты уж намекни хозяину, что если у меня отнимут это дитя, придется мне заменить его своим. Не обещаю, что не стану бороться за Хэртона; однако своего непременно верну! Так и передай хозяину, не забудь».
Намека хватило – наши руки были связаны. Вернувшись, я передала суть Хитклиффовых слов, и Эдгар Линтон, и без того не питавший живого интереса к предмету, больше о вмешательстве не заговаривал. Да и, как ни крути, едва ли вышел бы толк.
Отныне гость стал в Громотевичной Горе хозяином; он прибрал к рукам всё и доказал поверенному – а тот, в свою очередь, господину Линтону, – что Эрншо заложил свои земли до последнего ярда под средства на свою страсть к азартным играм, а кредитором по закладной выступал он, Хитклифф. И таким вот манером Хэртон, коему быть бы нынче в округе первым джентльменом, очутился в беспросветной зависимости от закоренелого отцовского недруга, живет в собственном доме прислугою, даже не получая жалованья, и решительно не в состоянии поправить свои дела, ибо одинок и не подозревает, как его провели.
Глава XVIII
Двенадцать годков, что последовали за теми тягостными днями, продолжала свою повесть госпожа Дин, были счастливейшими в моей жизни; и покуда они текли, наша юная госпожа не приносила мне невзгод страшнее пустяковых болезней, кои принуждена была терпеть вместе со всеми детьми, богатыми и бедными равно. В остальном же, прожив первые полгода, она взялась расти, что твоя лиственница, и выучилась ходить и лопотать по-своему, не успели над прахом госпожи Линтон во второй раз зацвести пустоши. Эта обворожительная малышка вернула солнце в опустевший дом: лицом подлинная красавица, с прекрасными темными глазами Эрншо, но бледной кожей и мелкими чертами Линтонов и с их желтыми кудрями. Была она резва, но не груба, а в придачу наделена сердцем, кое способно было любить непомерно глубоко и чутко. Эта способность к сильным привязанностям напоминала ее мать, и однако дочь на нее не походила: умела быть мягкой и кроткой, точно голубица, говорила тихо и смотрела задумчиво; не впадала в ярость, сердясь, и не свирепела, любя, но любила крепко и нежно. Впрочем, надо признать, что достоинства ее оттенялись изъянами. Склонность дерзить, к примеру, и своеволие, что неизменно заводится у всякого избалованного ребенка, будь он благонравен или строптив. Ежели слуга ее раздосадует, только и слышалось: «Вот папе скажу!» А ежели тот упрекал ее хоть взглядом, у нее, можно подумать, сердечко разбивалось; не припомню, чтобы отец за всю жизнь одно суровое слово ей сказал. Все ее образованье он взял на себя и превратил в забаву. По счастью, была она любознательна, смышлена и ученицей обернулась способной – училась быстро и увлеченно, делая честь его преподаванию.