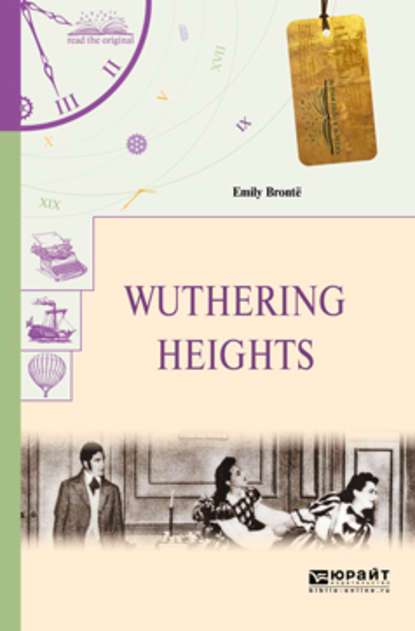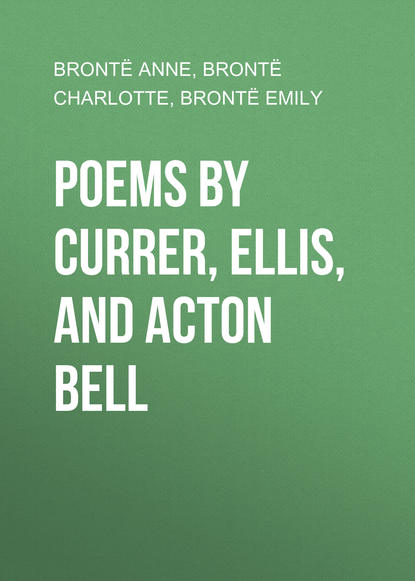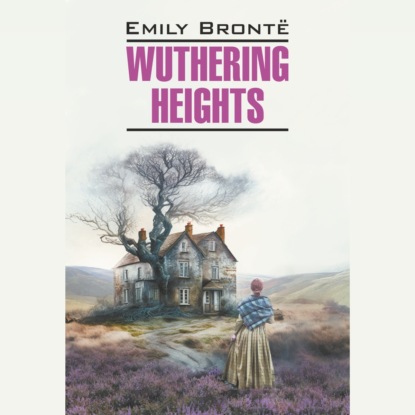Полная версия:
Эмили Бронте Грозовой перевал
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
«Ни на минуту», – откликнулась она.
«Ядолжен – Линтон вот-вот придет», – в тревоге настаивал непрошеный гость.
Он уже вставал, тем разнимая ее пальцы, – она же цепко хваталась за него, задыхаясь; в лице ее читалась безумная решимость.
«Нет! – завизжала она. – О нет, не уходи. Это последний раз! Эдгар нас не тронет. Хитклифф, я умру! Я умру!»
«Черт бы побрал этого болвана! Вот и он, – сказал Хитклифф, снова опускаясь в кресло. – Тише, милая моя! Тише, Кэтрин, тише! Я останусь. Если он меня пристрелит, я испущу дух с благословением на устах».
И они снова слились в объятии. Я слышала, как мой хозяин восходит по лестнице; по лбу моему тек холодный пот – ужас объял меня.
«И вы станете слушать ее бредни? – страстно вопросила я. – Она же сама не понимает, что несет. Вы погубите ее, потому как ей не хватает ума спастись самой? Ну-ка подымайтесь! Вы же освободитесь в мгновение ока. За вами еще не водилось столь дьявольских преступлений. Нам всем конец – и хозяину, и хозяйке, и прислуге».
Я заломила руки и вскрикнула; господин Линтон же, заслышав шум, ускорил шаг. Посреди своих треволнений я искренне рада была отметить, что Кэтрин уронила руки и свесила голову.
«Она в обмороке или умерла, – решила я. – Оно и к лучшему. Гораздо лучше ей умереть, чем жить бременем и нести горе всем вокруг».
Эдгар, побелев от изумления и ярости, ринулся на незваного гостя. Уж не знаю, что он сбирался сделать; тот, однако, мигом прекратил все изъявления чувств, сгрузив хозяину на руки безжизненное, по виду судя, тело.
«Посмотрите! – сказал он. – Вы же не зверь. Сперва помогите ей – а потом говорите со мною!»
Затем он ушел в салон и сел там. Господин Линтон позвал меня, и с превеликим трудом, перебрав немало средств, мы все-таки привели ее в чувство; однако очнулась она в смятении – вздыхала, стонала и не узнавала никого. Эдгар в страхе за жену позабыл о ее ненавистном друге. Я – отнюдь нет. Едва представился случай, я пошла к Хитклиффу и умолила его уйти; заверила, что Кэтрин полегчало, и обещала, что поутру оповещу его о том, как она провела ночь.
«Я не откажусь выйти за дверь, – отвечал он, – но останусь в саду; и, Нелли, завтра не забудь сдержать слово. Я буду вон там, под лиственницами. Не забудь! или я нанесу еще один визит, будет Линтон дома или нет».
Он быстро взглянул сквозь приоткрытую дверь спальни и, уверившись, что я вроде бы сказала правду, избавил дом от злополучного своего присутствия.
Глава XVI
Около полуночи родилась Кэтрин, с коей вы познакомились в Громотевичной Горе, – слабенький семимесячный младенчик; а спустя два часа ее мать скончалась, так толком и не придя в чувство, дабы заскучать по Хитклиффу или признать Эдгара. Горе утраты, что пережил этот последний, – предмет столь болезненный, что и говорить о нем не стоит; все дальнейшее показало, сколь глубока была скорбь. Великолепно довершало положенье то, что Эдгар остался без наследника. Вот отчего я плакала, глядя на хилую сиротку, и про себя ругмя ругала старого Линтона, что (сугубо по склонности натуры) завещал поместье своей дочери, а не таковой своего сына. Бедной дитятке никто не порадовался. В первые свои часы она криком могла хоть уморить себя до смерти – никто бы не встревожился ни капельки. Позднее-то мы эдакую небрежность исправили; однако ребенок одиноко пришел в сей мир и, пожалуй, уйдет из него так же.
Утро – за окном было погоже и солнечно, – умягченное ставнями, прокралось в тишину комнаты и ровным, нежным своим сияньем пропитало диван и того, кто там лежал. Эдгар Линтон умостил голову на подушке, закрыв глаза. Молодые красивые его черты мертвенностью своей да неподвижностью едва ли уступали облику фигуры, что лежала рядом; однакоего лицо полнилось безмолвием мучительного горя, ее же – совершенным успокоением. Лоб ее разгладился, веки затворились, на губах застыла улыбка; она была прекраснее любого ангела небесного. Вместе с нею я погрузилась в безмерный покой; я взирала на сию безмятежную картину Божественного отдохновенья, и душа моя проникалась беспримерной святостью. Машинально я повторила слова, что промолвила она несколькими часами ранее: «Удалилась и возвысилась над нами несравненно! Осталась она на земле или вознеслась в небеса, душа ее ныне вернулась домой к Господу!»
Может, это я такая странная, сказать не берусь, но редко случается, чтоб я не была счастлива, бдя в покоях смерти, – разве что службу эту со мною делит скорбящий, охваченный безумием или отчаяньем. Вечный покой видится мне, коего не нарушить ни земле, ни преисподней, и я прозреваю посулы бесконечных иных миров, где нет смертной тени; обещанье Вечности, где в длительности своей безбрежна жизнь, в сострадании своем – любовь, в полноте своей – радость. В тот день я заметила, сколь себялюбива даже любовь господина Линтона – зачем же он так сожалеет, что Кэтрин обрела благословенную свободу? Жила-то она своенравно да нетерпеливо, не спорю, можно и усомниться, достойна ли она покойного убежища. В часы хладнокровных размышлений усомниться можно – но не в ту минуту подле ее тела. Оно само распространяло умиротворенье, словно обещая такую же тишь прежней его насельнице.
Вот вы верите, что эдакие люди в загробном мире счастливы, сэр? Я бы многое отдала, чтоб узнать.
Отвечать на вопрос госпожи Дин я отказался – он мне виделся еретическим. Она же продолжала:
Коли поглядеть, как Кэтрин Линтон прошла свой путь земной, боюсь, мы не вправе полагать, будто она счастлива; впрочем, предоставим Кэтрин ее Творцу.
Хозяин как будто уснул, и вскоре после восхода я отважилась выйти из комнаты и прокрасться наружу, на чистый освежающий воздух. Слуги решили, будто я хочу стряхнуть дрему после долгого бденья; на деле же я главным образом полагала увидеться с господином Хитклиффом. Ежели он всю ночь провел под лиственницами, суматоха в Усаде до него не донеслась – разве только он мельком заприметил посыльного, что галопом помчался в Гиммертон. Но ежели он подходил ближе, по метаньям огней и хлопкам двери на двор, пожалуй, должен был уразуметь, что в доме не всё благополучно. Я желала, но страшилась его отыскать. Знала, что ужасную весть надлежит поведать, и жаждала разделаться с этим поскорее; но вот как сказать, не знала. Я его нашла – он на несколько ярдов удалился в парк; стоял, прислонясь к старому ясеню, без шляпы, и волосы его пропитались росою, что сбиралась на ветвях, расцветших почками, и со стуком падала вокруг. Так он простоял долго – я видела, как пара дроздов носилась туда-сюда в каких-то трех футах от него, деловито строя гнездо, а Хитклиффа полагая разве что бревном. При моем приближении дрозды упорхнули, а он поднял глаза и заговорил. «Она умерла! – сказал он. – Дабы это узнать, не пришлось ждать тебя. Убери свой платочек – нечего передо мной сопли распускать. Черт бы вас всех побрал! Ей ваши слезы без надобности!»
Рыдала я о ней и о нем равно; мы порою жалеем созданий, что не питают чувств ни к себе, ни к прочим. Едва взглянув ему в лицо, я поняла, что весть о катастрофе уже до него донеслась, и глупая мысль посетила меня: мне примстилось, будто сердце его унялось и он молится, ибо губы его шевелились, а взгляд вперялся в землю.
«Да, она умерла! – отвечала я, подавляя рыдания и отирая щеки. – Ушла, надеюсь, на небеса, где, быть может, все мы с нею встретимся, ежели услышим предостереженье, оставим зло и пойдем по пути добра!»
«Аона предостереженье, значит, услышала? – осведомился Хитклифф, пытаясь исторгнуть из себя усмешку. – Умерла как святая? Давай-ка расскажи мне по порядку. Как умерла?..»
Он хотел было промолвить имя, да не смог; стиснув губы, он безмолвно боролся с душевной мукой, немигающим свирепым взглядом отталкивая меж тем мое сочувствие. «Как она умерла?» – в конце концов договорил он, принужденный, невзирая на твердость свою, нащупать опору за спиною; после эдакого сраженья он не властвовал над собой и дрожал весь до кончиков пальцев.
«Несчастный! – подумала я. – Сердце и нервы у тебя не хуже, чем у собратьев твоих по роду людскому! Чего ж ты так усердно их скрываешь? Гордость твоя не ослепит Господа! Ты Его подзуживаешь терзать их, пока не сорвет с твоих уст униженный крик».
«Тихо, как ягненочек! – вслух отвечала я. – Вздохнула, потянулась, как ребенок, что очнулся и вновь засыпает; пять минут спустя я почувствовала, как сердце у нее разок стукнуло, – и всё!»
«А она… поминала меня?» – спросил он, замявшись, точно страшился, что ответ мой отягощен будет подробностями, коих ему не снести.
«Разум к ней так и не вернулся; она никого не узнавала с той минуты, как вы ее оставили, – сказала я. – Она лежит, нежно улыбаясь; последние помыслы возвратили ей радость стародавних дней. Жизнь ее завершилась ласковой грезой – пусть в ином мире она и пробудится так же сладостно!»
«Пусть она пробудится в муках! – вскричал он, страшно разгорячившись, топнул ногою и застонал во внезапном приступе необузданной страсти. – Ты подумай, а? лгунья до последнего мига! Где она? Нетам… не на небесах… не исчезла… где же? О! ты сказала, что мои страданья безразличны тебе! И я возношу лишь одну молитву – твержу ее, пока не онемеет язык, – Кэтрин Эрншо, да не упокоишься ты, пока я жив; ты сказала, что я тебя убил, – ну так являйся мне! Если не ошибаюсь, убитые ведь не покидают своих убийц. Я знаю, что призраки взаправду бродят по земле. Пребудь со мною вечно… прими любой облик… сведи меня с ума! только не бросай меня в этой бездне, где мне тебя никак не найти! О Господи! это невыразимо! Я не могу жить без моей жизни! Я не могу жить без моей души!»
Он треснулся головой об узловатый ствол и, воздев взгляд, завыл – не человеком, но свирепым зверем, коего ножами да копьями пыряют до смерти. На древесной коре я разглядела кровавые брызги; в крови были его рука и лоб; вероятно, сцена, представшая мне, повторяла другие сцены, разыгранные в ночи. Едва ли она пробудила во мне состраданье – смотреть было отвратительно; однако же не хотелось эдак его оставлять. Впрочем, едва овладев собою и заметив, что я смотрю, он громоподобно повелел мне удалиться, и я повиновалась. Ни утихомирить его, ни утешить мне не хватило бы уменья!
Похороны госпожи Линтон назначили на ближайшую пятницу; до того гроб стоял в большой гостиной – открытый, убранный цветами и ароматной листвою. Линтон бессонным стражем проводил с нею дни и ночи; и – обстоятельство, сокрытое от всех, минуя меня, – Хитклифф по меньшей мере ночи проводил снаружи, равно чураясь отдыха. Я с ним не сообщалась; однако понимала, что он замышляет войти, коли удастся; и во вторник, вскоре после темна, когда хозяин мой в полном изнеможении вынужден был удалиться передохнуть на пару часов, я открыла окно, упорством Хитклиффа побужденная даровать ему случай напоследок сказать прощай поблекшему образу его идола. Случаем сим он не пренебрег воспользоваться, осторожно и быстро; до того осторожно, что не выдал себя ни малейшим шумом. Я бы и вовсе не узнала, что он побывал в доме, кабы не заметила беспорядок в оборках вкруг мертвого лица да завиток светлых волос, перевязанных серебряной нитью, – приглядевшись, я опознала в них прядь из медальона у Кэтрин на шее. Хитклифф открыл медальон и выбросил содержимое, заменив его собственной черной прядью. Я перевила оба локона и вложила их в медальон вместе.
Господина Эрншо, разумеется, звали проводить останки сестры до могилы; он не прислал объяснений, а сам не пришел; посему, за исключеньем мужа, на похороны явились только съемщики да слуги. Изабеллу не пригласили.
К удивленью деревенских, Кэтрин предали земле не в церкви под резным памятником Линтонов и не снаружи подле ее собственной родни. Могилу вырыли на зеленом склоне в уголке церковного двора, где стена так низка, что с пустошей ее берут штурмом вереск да черника; и почти вся она заросла пецицей. Ныне там же покоится и муж Кэтрин; у обоих в головах непритязательные надгробья, а в ногах лежат простые серые плиты.
Глава XVII
В ту пятницу погожие деньки закончились на месяц. Ввечеру погода переменилась: южный ветер стих, задул северо-восточный и принес перво-наперво дождь, а затем мокрый снег и снегопад. Назавтра и в голову уже прийти не могло, что нам выдались три летние недели: примулы и крокусы спрятались под зимнею поземкой, умолкли жаворонки, а молодые листочки на чрезмерно поспешивших деревьях умерли и почернели. И каким унылым, и холодным, и тягостным подкралось к нам это завтра! Хозяин мой остался в спальне; я же заняла опустевший салон, превратила его в детскую; там и сидела, на колене баюкая плаксивую новорожденную куколку, качала ее и тем временем глядела, как неостановимые снежные хлопья растут сугробами за незашторенным окном; и тут вошел некто, задыхаясь и смеясь! На миг гнев мой пересилил изумленье. Я решила было, что это одна из служанок, и вскричала: «Ну-ка прекрати свои хаханьки! Да как ты смеешь; что господин Линтон скажет, ежели услышит?»
«Прошу прощения! – отвечал мне знакомый голос. – Но я знаю, что Эдгар в постели, и не смогла удержаться».
С этими словами говорящая шагнула к огню, еле переводя дух и ладонью зажимая бок.
«Я бежала всю дорогу из Громотевичной Горы! – продолжала она, помолчав. – Лишь временами летела. Не счесть, сколько раз падала. Ох, все болит! Не тревожься! Объясненье воспоследует, едва я в силах буду его дать; только будь добра, сходи, вели заложить коляску до Гиммертона и прикажи слуге поискать у меня в шкапу какой-никакой одежды».
В салон вошла госпожа Хитклифф. Над ее затрудненьем смеяться не приходилось: волосы струились на плечи, истекая снегом и водою; одета она была в обыкновенный свой девичий наряд, сообразный больше возрасту ее, нежели положенью, – короткое платьице с короткими же рукавами, а на голове и шее ничегошеньки. Платье было из легкого шелка и влажно ее обнимало; ноги прикрыты лишь тоненькими туфлями; прибавьте к сему глубокий порез ниже уха, только из-за холода не кровоточивший обильно, побелевшее лицо в царапинах и синяках, и фигуру, что от изнеможения еле держалась на ногах, – и вы, думается мне, поймете, отчего первый мой испуг не слишком-то унялся, едва мне выдалась минутка ее разглядеть.
«Дорогая моя юная госпожа, – вскричала я, – ни шагу не сделаю и ни слова не стану слушать, покуда вы не снимете с себя всю одежду и не наденете сухое; и уж точно вы не поедете нынче ни в какой Гиммертон, а посему и закладывать коляску не надобно».
«Я, разумеется, поеду, – отвечала она, – если не будет коляски – пойду пешком; но я не возражаю одеться поприличнее. И… ой, смотри, по шее потекло! От огня щиплет».
Она не подпускала меня к себе, пока я не выполню ее приказаний; лишь когда я велела кучеру приготовиться и послала служанку за потребной одеждой, Изабелла соизволила разрешить мне перевязать ей рану и помочь переодеться.
«А теперь, Эллен, – промолвила она, когда мои труды завершились, а сама она устроилась в мягком кресле перед камином с чашкою чая, – сядь против меня да унеси младенца бедной Кэтрин; мне неприятно на него смотреть! Не думай, будто Кэтрин мне безразлична, раз я так глупо себя повела, войдя сюда: горько плакать мне тоже довелось – о да, и резонов у меня имелось поболе, чем у прочих. Мы расстались, не примирившись, как ты помнишь, и за это я себя не прощу. Но, на все сие невзирая, я не желала сочувствовать ему – жестокому зверю! Кстати, дай-ка мне кочергу! Это последняя его вещь, что осталась при мне. – Она сняла с безымянного пальца кольцо и швырнула на пол. – Я его размозжу! – продолжала она, с ребяческой злостью по нему колотя. – А затем сожгу! – И она подняла и кинула изувеченное кольцо в угли. – Вот тебе! если он доберется до меня снова, пускай новое покупает. Он вполне способен явиться за мной сюда назло Эдгару. Я не смею оставаться – не хватало только, чтобы в злую его голову проникла подобная идея! А вдобавок Эдгар не был ко мне добр, правда? Я не стану молить его о помощи; и новых бед ему не принесу. Нужда побудила меня искать здесь убежища; однако, не узнай я, что Эдгара не встречу, осталась бы в кухне, умылась бы, согрелась, велела тебе принести то, что мне требуется, и снова ушла бы куда угодно, лишь бы меня там не нашел мой клятый… этот сущий гоблин. Ах, как он ярился! А если бы он меня поймал! Жаль, что Эрншо с ним не тягаться силою: я бы не бежала, пока не узрела, как его стирают в порошок, если б Хиндли был на то способен!»
«Госпожа, давайте-ка помедленнее, – перебила я, – у вас платок собьется, которым я вам перевязала лицо, и опять потечет кровь. Выпейте чаю, отдышитесь и бросьте смеяться – смех, увы, неуместен под этой крышей и в вашем положении!»
«Бесспорная правда, – отвечала она. – Ты послушай это дитя! Воет и воет без умолку – убери его от меня на час, я дольше не останусь».
Я позвонила и препоручила младенца заботам служанки; а затем спросила, что подвигло Изабеллу бежать из Громотевичной Горы в столь невероятном состоянии и куда она сбирается, раз не желает остаться с нами.
«Я должна и желала бы остаться, – отвечала она. – Хотя бы ободрить Эдгара и позаботиться о ребенке; а сверх того Усад – мой истинный дом. Но говорю же, он мне не позволит! Думаешь, он стерпит, глядя, как я полнею и веселею, – стерпит мысль о том, что мы безмятежны, не захочет отравить наш уют? Ныне я довольствуюсь тем, что он питает ко мне безусловное отвращенье и глубоко негодует, едва заслышит или завидит меня: появляясь ему на глаза, я замечаю, как мускулы его лица невольно кривит ненависть – отчасти потому, что он знает, сколько у меня резонов питать это чувство к нему, отчасти же – из вековечной антипатии. Ненависть его весьма сильна – я вполне уверена, что он не станет преследовать меня по всей Англии, если мне удастся улизнуть; а посему я должна убежать как можно дальше. Я оправилась от давних своих грез о том, как он меня убьет: пусть лучше он убьет себя! Он действенно погасил мою любовь, и теперь мне покойно. Я еще помню, как любила его, и умею смутно вообразить, как любила бы его по-прежнему, если… нет, нет! Даже холь он меня и лелей, дьявольская его натура как-нибудь выказала бы себя. Кэтрин знала его так близко – удивительно извращенный вкус побуждал ее столь высоко его ценить. Чудовище! лучше бы его стерли из жизни земной и из моей памяти!
«Ну полно, полно! Он же все-таки человек, – сказала я. – Будьте снисходительнее; на свете встречаются люди и похуже!»
«Он не человек, – возразила она, – и на снисходительность мою правом не располагает. Я подарила ему сердце, а он взял его, и задавил до смерти, и швырнул мне обратно. Люди сердцами чувствуют, Эллен; он уничтожил мое, и я более не властна питать к нему чувства; и не стану, пусть даже он плачет и стонет до смертного часа и рыдает над Кэтрин кровавыми слезами! Нет уж, ни за что я не стану! – И тут Изабелла заплакала; однако тотчас смахнула влагу с ресниц и продолжила: – Ты спросила, что подвигло меня наконец-то бежать? Я принуждена была попытаться, ибо успешно пробудила в нем гнев, что слегка превзошел обыкновенную его злобу. Дабы докрасна раскаленными щипцами трепать нервы, требуется больше хладнокровия, нежели для удара по голове. Он взбесился до того, что отбросил дьявольское свое благоразумие и перешел к убийственным побоям. Я испытала удовольствие, выведя его из терпения: удовольствие же пробудило во мне инстинкт самосохранения, и я попросту удрала на волю; если я вновь окажусь в его руках, он может замечательно мне отмстить.
Вчера, как ты знаешь, господин Эрншо должен был пойти на похороны. Для сей цели он оставался трезв – ну, более или менее: лег в постель не в шесть утра обезумевшим и встал не в полдень пьяным. Вследствие чего пробудился в самоубийственном расположении духа, для церкви подходящим не более, чем для танцев, никуда не пошел, а вместо того сел у огня и принялся стаканами глушить джин или бренди.
Хитклифф – не могу промолвить имя без содроганья! – не появлялся в доме с прошлого воскресенья и до сего дня. Ангелы питали тело его или же его подземная родня, сказать не могу; но с нами он не садился за стол почти неделю. Возвращался на заре, поднимался к себе в спальню, запирался там – можно подумать, кому-то в голову взбрело бы возжелать его общества! Там он и проводил время, молясь, как методист; да только божество, к коему он взывал, – бесчувственный прах и пепел, а Господь, когда и удостаивался обращенья, любопытным манером путался с черным его отцом! Завершив свои вычурные моленья – а длились они обыкновенно, пока он не хрипнул, а голос не застревал в глотке, – он снова удалялся, и всякий раз прямиком в Усад! Удивительно, что Эдгар не вызвал констебля и не предал незваного гостя в руки закона! Мне, хоть я и горевала по Кэтрин, никак невозможно было не почитать это избавленье от унизительного гнета за праздник.
Присутствие духа отчасти ко мне вернулось, и я уже научилась выслушивать нескончаемые Джозефовы диатрибы, не рыдая, а по дому ступать не столь пугливым воришкой. Тебе непостижимо, что я плакала от слов Джозефа, однако он и Хэртон – омерзительные компаньоны. Я бы предпочла Хиндли и его ужасные речи, нежели “малка хозяя” и его стойкого соратника, этого гнусного старика! Когда Хитклифф дома, я нередко вынуждена искать прибежища среди них на кухне либо голодать в промозглых необитаемых покоях; когда же Хитклиффа нет, как всю прошедшую неделю, я устраиваю себе стол и кресло в углу у очага, а господин Эрншо пускай занимает себя, чем ему вздумается; он же моему обустройству не мешает. Он нынче приутих и не шумит, если его не раздосадовать; стал угрюмее, и унылее, и не столь гневлив. Джозеф уверяет, что хозяин бесспорно переменился, что Господь коснулся его души и он теперь спасен, “аки огнем”. Подобные перемены к лучшему меня озадачивают; впрочем, это дело не мое.
Вечор я сидела в своем уголке и читала старые книги едва ли не до полуночи. Так тягостно было бы взойти наверх, когда снаружи воет вьюга, а мысли то и дело обращаются к церковному двору и свежей могиле! Я не смела отвести глаза от страницы – вместо нее пред взором тотчас возникала эта грустная картина. Против меня, подперев голову рукою, сидел Хиндли – вероятно, раздумывал о том же предмете. Пить он перестал, чуть-чуть не доведя себя до неразумия, и часа за два или три не пошевельнулся и ни слова не промолвил. Во всем доме не слышалось ни звука – лишь временами стонал ветер, сотрясая окна, тихонько потрескивали угли да изредка щелкали щипцы, когда я обрезала свечной фитиль. Хэртон и Джозеф, надо полагать, крепко спали. Было очень, очень грустно, и за чтеньем я вздыхала, ибо казалось, будто вся радость испарилась из этого мира и никогда не вернется.
Меланхолическое молчанье в конце концов было прервано стуком щеколды в кухне: Хитклифф раньше обычного вернулся со своего бдения – надо полагать, из-за внезапной пурги. Кухонная дверь оказалась заперта, и мы услышали, как он идет вкруг дома, дабы войти в другую. Я вскочила с безудержным выраженьем своих чувств на устах, отчего компаньон мой, взиравший на дверь, обернулся и на меня посмотрел.
“Я продержу его на дворе пять минут, – объявил он. – Вы не против?”
“Ничуть, хоть на всю ночь его там оставьте, – отвечала я. – Вперед! вставьте ключ в замок и задвиньте засовы”.
Эрншо осуществил все это, не успел пришлец добраться до парадной двери; затем взял стул, поставил за стол против меня, перегнулся через спинку и вгляделся, ища в моих глазах сочувствие жгучей ненависти, что пылала в глазах у него; с виду и в сердце своем он походил на убийцу, посему сочувствия отыскал недостаточно, но хватило, дабы найденное побудило его заговорить.
“Мы с вами, – произнес он, – в большом долгу пред человеком за этой дверью! Не будь мы оба трусы, мы бы сплотили наши силы и вернули этот долг. Вы мягкотелы, как и ваш брат? Готовы терпеть до последнего и ни единожды не попытаться отплатить?”
“Я уже устала терпеть, – отвечала я, – и была бы рада возмездию, если б оно не возвратилось ко мне рикошетом; но коварство и жестокость – обоюдоострые копья; кто до них опустится, будет изранен больнее, чем его недруг”.
“Коварство и жестокость – справедливый ответ на коварство и жестокость! – вскричал Хиндли. – Госпожа Хитклифф, я прошу вас не вмешиваться, сидеть тихо и ни слова не говорить. Ответьте мне – хоть это-то вы можете? Я убежден, что завершенье бытия сего зверя подарит вам удовольствия не меньше, нежели мне; он доведет до смертивас, если вы его не опередите; и он погубит меня. Будь проклят этот адский злодей! Стучится в дверь, будто он здесь уже хозяин! Обещайте придержать язык, и не успеют пробить часы – а до часу ночи трех минут всего недостает, – как вы станете свободной женщиной!”
Он извлек из-за пазухи орудия, кои я описывала тебе в письме, и захотел было погасить свечу. Я же ее отняла и схватила его за руку.
“Я не придержу язык! – сказала я. – Не трогайте его. Пусть дверь останется закрыта, и сидите тихо!”