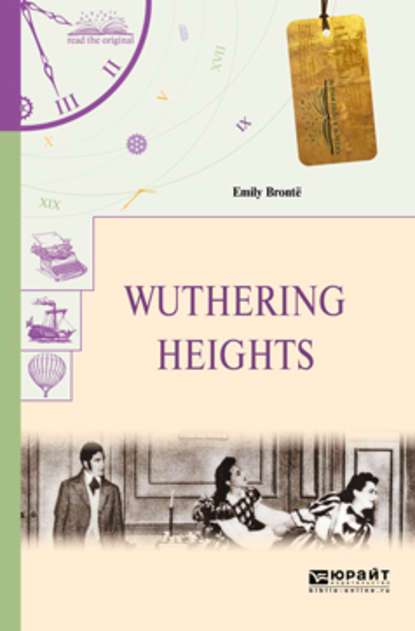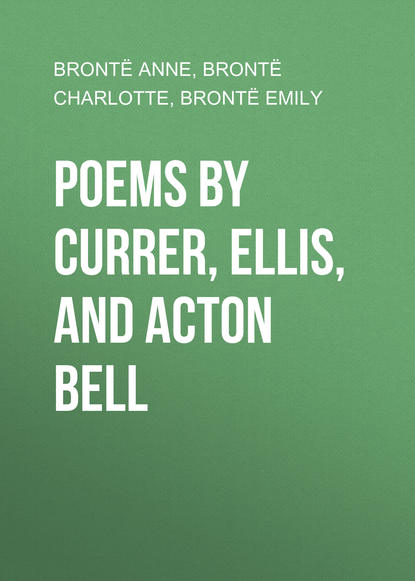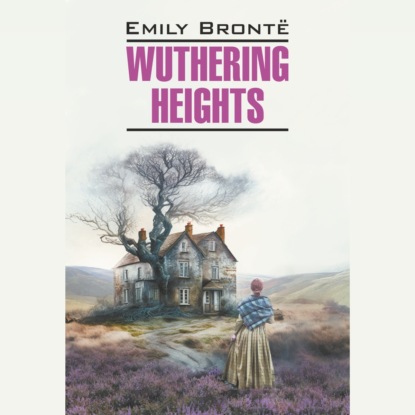Полная версия:
Эмили Бронте Грозовой перевал
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
МИЛАЯ ЭЛЛЕН, – так оно начинается, – вечор я приехала в Громотевичную Гору и впервые услышала, что Кэтрин заболела и болеет по сию пору. Полагаю, мне не пристало писать ей, а брат мой сердится либо расстроен и на мое письмо не ответил. Однако я должна кому-нибудь написать, и, кроме тебя, иного выбора у меня нет.
Передай Эдгару, что я весь мир бы отдала, лишь бы вновь увидеть его лицо, – что сердце мое вернулось в Скворечный Усад спустя сутки после отъезда и пребывает там поныне, полнясь теплотою к нему и к Кэтрин! Однако я за своим сердцем последовать не могу (эти слова подчеркнуты), не стоит меня ждать, и пускай они выводят отсюда любые заключенья, только не кивают ни на слабую волю мою, ни на недостаток привязанности.
Все прочее предназначено тебе одной. У меня к тебе два вопроса, и первый таков: как ты умудрилась, обитая здесь, сохранить обыкновенное состраданье, свойственное человеческой природе? В тех, кто окружает меня, я не нахожу с собою ничего общего.
А второй вопрос, живо меня интересующий: господин Хитклифф – он человек? И если так, безумен ли он? А если нет – дьявол ли? Я не стану делиться резонами, что побуждают меня к расспросам, но молю объяснить, если можешь, за что такое я вышла замуж; расскажи, когда навестишь меня, а навестить ты меня должна, Эллен, и очень скоро. Не пиши, просто приходи и принеси мне что-нибудь от Эдгара.
А теперь ты узнаешь, как приняли меня в новом доме, каковым, вынуждена полагать, станет мне отныне Громотевичная Гора. Лишь забавы ради я размышляю о недостаче в окружении меня удобств; они не занимают моих мыслей, разве что в те минуты, когда их не хватает. Я бы смеялась и танцевала от счастья, ограничься мои горести лишь этим и обернись все прочее жестоким сном!
Солнце закатилось за Усад, едва мы свернули к болотам, – по видимости, пробило шесть вечера; спутник мой полчаса медлил, наипристальнейше осматривая парк, и сады, и, вероятно, дом; посему уже стемнело, когда мы спешились в мощеном дворе и твой прежний сотоварищ, слуга Джозеф, с маканой свечою выступил нам навстречу. Приветствовал он нас любезностью, коя не сделала ему чести. Первым делом он поднес свечу к моему лицу, злобно прищурился, выпятил нижнюю губу, а затем отвернулся. Увел лошадей в конюшню и вновь явился запереть ворота, словно мы живем в древнем замке.
Хитклифф задержался с ним побеседовать, а я вошла в кухню – убогую неопрятную дыру; ты бы ее, пожалуй, не узнала – она сильно переменилась с той поры, когда пребывала в твоем ведении. У очага стояло дикое дитя, крепкое членами и грязное нарядом, а глаза его и рот напоминали Кэтрин.
«Эдгару он по закону племянник, – рассудила я, – да отчасти и мне; надо пожать ему руку и… да – надо его поцеловать. Вернее будет с самого начала завязать добрую дружбу».
Я приблизилась и, попытавшись пожать ему пухлый кулачок, сказала: «Добрый вечер, дружочек».
Ответом мне была непостижимая невнятица.
«Будем с тобой дружить, Хэртон?» – попробовала я продолжить беседу.
Упорство мое вознаградили проклятьем и угрозой натравить на меня Душегуба, если не «отвяжусь».
«Эй, Душегуб, подь сюды! – прошептал малолетний злодей, и на его зов из своего логова в углу восстал бульдог-полукровка. – Ну, таперча отвяжетесь?» – повелительно вопросил мальчик.
Из любви к жизни я повиновалась: вышла за порог подождать остальных. Господина Хитклиффа было не видать, а Джозеф – я сходила за ним в конюшню и попросила проводить меня в дом, – поглядел на меня, что-то сам себе побубнил, сморщил нос и отвечал: «Мым! Мым! Мым! Енто же ж какому хрястьянину тако слухать? Щобечет да чвирикает! Вы чогой бакулите-т, я не пмаю?»
«Я говорю, зайди со мной в дом!» – закричала я, сочтя его глухим, однако испытывая омерзенье от его грубости.
«Вот уж нет уж! Делов у мя», – отвечал он и вновь принялся за работу, меж тем двигая челюстью-кувалдой и озирая мое платье и лицо (первое чрезмерно изысканно, но последнее, без сомнения, скорбно, как слуге и желалось) с царственным презреньем.
Обогнув двор и ступив через калитку, я отыскала другую дверь, куда взяла на себя смелость постучаться в надежде, что ее откроет слуга поучтивее. После краткой тишины мне отворил высокий костлявый человек без платка на шее и в целом весьма неопрятный; черты его терялись в косматой копне волос, что свисали до плеч; иего глаза тоже походили на призрак Кэтрин, только из них испарилась всякая красота.
«А вам тут чего надо? – угрюмо вопросил он. – Вы кто такая?»
«Меня звали Изабелла Линтон, – отвечала я. – Мы с вами прежде встречались, сэр. Я недавно вышла за господина Хитклиффа, и он привез меня сюда – надо полагать, с вашего дозволенья».
«Так он вернулся?» – спросил затворник, сверля меня взглядом, точно оголодавший волк.
«Да… мы возвратились только что, – сказала я, – но он оставил меня у дверей кухни, а когда я вошла, на страже стоял ваш мальчик и спугнул меня посредством бульдога».
«Хорошо, что этот проклятый негодяй сдержал слово!» – проворчал хозяин моего будущего дома, обшаривая глазами темноту у меня за спиной в надежде обнаружить там Хитклиффа; затем он произнес монолог, полный брани и угроз «извергу» на случай, если бы тот его обманул.
Я раскаялась, что постучала в эту дверь, и уже склонялась ускользнуть, пока он не бросил сыпать ругательствами, но осуществить свое намерение не успела – он велел мне войти, а потом закрыл и вновь запер дверь. Внутри жарко горел очаг, и никакого больше света не было в громадной комнате, где пол окрасился ровной серостью; некогда блиставшие оловянные блюда, что в детстве притягивали мой взор, занавесились схожим манером, потускнев и запылившись. Я спросила, нельзя ли позвать служанку, дабы она сопроводила меня в спальню. Господин Эрншо не удостоил меня ответом. Он расхаживал взад и вперед, сунув руки в карманы, и, по видимости, совершенно обо мне позабыл; задумчивость его была так глубока, а облик так мизантропичен, что я опасалась вновь его обеспокоить.
Ты не удивишься, Эллен, если я скажу, в каком унынии – хуже одиночества – сидела у сего негостеприимного очага и вспоминала, что в четырех милях от меня стоит чудесный мой дом, а в нем живут единственные люди на земле, коих я люблю; и однако четыре эти мили – все равно что Атлантический океан: мне их никак не преодолеть! Я раздумывала, к кому податься за утешеньем, и – ни в коем случае не говори ни Эдгару, ни Кэтрин – превыше всех печалей в душе моей поднималась скорбь отчаяния от того, что никто не может быть и не будет мне союзником против Хитклиффа! Я искала укрытия в Громотевичной Горе едва ли не с радостью, ибо спаслась бы здесь от уединенья с ним; однако он знал, средь каких людей нам предстоит поселиться, и вмешательства их не боялся.
Так я сидела и размышляла в продолжительной меланхолии; часы пробили восемь, затем девять, а компаньон мой все расхаживал по комнате, уронив голову на грудь и не произнося ни слова – лишь стон или горький вскрик порою вырывался из его груди. Я прислушивалась к дому, надеясь различить женский голос, а в остальном предавалась ужасным сожаленьям и страшным предчувствиям, кои в конце концов заговорили вслух неодолимыми вздохами и рыданьями. Я не замечала, сколь откровенно горюю, пока Эрншо не застыл, прервав размеренную свою ходьбу, и не уставился на меня в изумлении человека, только что очнувшегося от сна. Воспользовавшись преимуществом его вниманья, вновь обращенного на меня, я вскричала: «Я долго ехала, утомилась и хочу лечь в постель! Где служанка? Скажите, где мне ее отыскать, раз она сама ко мне не идет!»
«Служанки у нас нет, – отвечал он. – Прислуживайте себе сами!»
«И где же мне спать?» – прорыдала я; усталость и злосчастье сокрушили во мне всякое понятие о самоуважении.
«Джозеф вам покажет, где спальня Хитклиффа, – сказал он. – Откройте вон ту дверь – он за нею».
Я уже хотела было повиноваться, но тут он удержал меня и наистраннейшим тоном прибавил: «Уж будьте добры запереть замок и задвинуть засов – не пренебрегайте ими!»
«Хорошо, – ответила я, – но зачем, господин Эрншо?» Меня ничуть не согрела мысль о том, что я нарочно запрусь в спальне с Хитклиффом.
«Вот, глядите! – сказал он, из-под жилета извлекая пистолет необычайной конструкции, со складным обоюдоострым ножом, притороченным к стволу. – Великий соблазн для отчаявшегося, не так ли? Что ни ночь, не могу себя остановить – беру пистолет, иду наверх и проверяю, заперта ли у него дверь. Если однажды найду ее открытою, Хитклиффу конец; я это делаю неизменно, пускай даже минутою раньше припомню сотню причин удержаться; какой-то бес толкает меня подорвать собственные мои планы и его прикончить. Вы ради любви сражайтесь с бесом сколько сможете; придет час, и Хитклиффа не спасут все ангелы небесные!»
Я с любопытством оглядела пистолет. Страшная мысль посетила меня: сколь могущественна я стану, обладая подобным оружием! Я взяла пистолет у него из руки и пощупала лезвие. На миг лицо мое исказилось, и Эрншо воззрился на меня потрясенно: он узрел не ужас, но алчность. Затем ревниво отнял у меня пистолет, убрал лезвие и вновь спрятал оружие.
«Можете ему рассказать, мне все равно, – сказал он. – Предостерегите его, стойте на страже. Вы, я вижу, знаете, в каких мы тут отношеньях; он опасен, но вас это не страшит».
«Что он вам сделал? – спросила я. – Какое зло причинил – отчего вы так страшно его ненавидите? А не мудрее изгнать его из дома?»
«Нет! – прогремел Эрншо. – Если Хитклифф захочет оставить меня, он покойник; уговорите его попытаться – и вы убийца! А мне терятьвсё без надежды вернуть? А Хэртону идти побираться? Ох, проклятье! Я все верну; я заполучу и его золото; а затем и его кровь; а душа его пусть катится в преисподнюю! Приняв такого гостя, ад почернеет вдесятеро!»
Ты, Эллен, описывала мне обычаи прежнего своего хозяина. Он явно на грани безумия; во всяком случае, таков он был вечор. Подле него я дрожала от страха; в сравнении с ним неотесанная угрюмость слуги согревала мне душу. Эрншо снова мрачно заходил туда-сюда, а я подняла щеколду и улизнула в кухню. Джозеф склонялся к очагу, глядя в большой котел, что висел над огнем; поблизости на конике стояла деревянная миска толокна. Содержимое котла закипело, и Джозеф повернулся, дабы запустить руку в миску; я догадывалась, что сии приготовленья назначены к нашему ужину, и, поскольку проголодалась, желала, чтобы ужин наш вышел съедобен, а посему, резко вскричав: «Кашу я приготовлюсама! – убрала миску подальше и принялась снимать шляпку и амазонку. – Господин Эрншо, – продолжала я, – велит мне самой себе прислуживать; так я и поступлю. Я не стану изображать пред вами леди, а то, боюсь, умру с голоду».
«Осподи семогучий! – пробормотал Джозеф, усевшись и растирая ноги в вязаных чулках от колена до лодыжки. – Ежли изнову приказы заполадилисси – токмо я к двум хозяям присноровилсси, дак мне ще ихозяю на голову, – пора отсюдова тягу давать. Во ж не гадал со старого дома уйтить, да, чай, енто невдолге».
На сетованья его я внимания не обратила, а живо приступила к работе, со вздохом подумав о временах, когда это было бы веселою забавой, но понуждая себя поспешно изгнать эти помыслы. Память о прошлом счастии мучила меня, и чем настойчивей грозила опасность вызвать к жизни его призрак, тем стремительнее ложка кружила в котле и быстрее летели в воду пригоршни толокна. Джозеф взирал на мою манеру стряпни, все сильней негодуя.
«Ты гля-ка! – возопил он. – Хэртон, сёдни те каши не хлебать; тутось одни комья с куку мою. Гля-ка сызнова! Дак вы б тада сю мису тудось шваркнули! Молоко сымите – и хорош. Стукает и стукает! Как и дно-т не отпало!»
Каша, признаю, и в самом деле оказалась комковатая, когда я разлила ее по мискам; на столе их стояло четыре, и еще галлонный кувшин молока с маслобойни; Хэртон схватил его и принялся пить, обливаясь из широкого носика. Я усовестила его и велела налить в кружку, заявив, что не смогу притронуться к жидкости, с коей обошлись так неряшливо. Старый циник решил смертельно обидеться на эту щепетильность; он снова и снова заверял меня, что «малой ничем не плошей» меня «и такой же безукорный здравьем», и недоумевал, как это я ухитряюсь быть такой надменной. Малолетний негодник меж тем все сосал и с вызовом сверлил меня взглядом, пуская слюни в кувшин.
«Я отужинаю в другой комнате, – сказала я. – У вас нет здесь того, что почитается за салон?»
«Салон! – презрительным эхом откликнулся Джозеф. – Салон! Не, салонов тутось нетути. Не по ндраву нашенское обчество – йдите к самому; не по ндраву обчество самого – йдите к нам».
«Тогда я пойду наверх, – отвечала я. – Покажи мне спальню».
Я поставила миску на поднос и сама принесла себе молока. Обильно поворчав, слуга поднялся и вперед меня свершил восхожденье; поднялись мы к чердакам, по пути он то и дело открывал двери и заглядывал внутрь.
«От вам орница, – сказал он наконец, толкнув болтающуюся на петлях доску. – Так-сяк, коли волите тутось каши похлебать. В уголку зерна вона куль, долею не пачканный; ежли вам пужливо лепый изуряд замурзать, шалю подстелите».
«Орница» оказалась кладовою, сильно пахнувшей солодом и зерном, каковых многообразные мешки громоздились вдоль стен, окружая широкую пустоту посередине.
«Ты что такое говоришь, человек?! – вскричала я, сердито к нему обернувшись. – Здесь люди не спят. Я хочу увидеть свою спальню».
«Сыпа-альню! – повторил он насмешливо. – Спальниц тутось боле нетути – моя он тама».
И он указал на второй чердак, от первого отличавшийся лишь тем, что стены были меньше загромождены, а у одной стояла большая и низкая кровать без полога с темно-синим стеганым одеялом.
«А твоя мне на что сдалась? – огрызнулась я. – Господин Хитклифф-то, надо думать, не живет под самой крышею, правда?»
«А! Так вы осподинаХытклиффа спальницу хочите? – вскричал он, словно это открылось ему только что. – Чогой же враз бы не сказать? Я б вам тады мигом ответил, не кочевряжасси, что вам тудась ходу нетути – у его там завсегда на замке, никогой не пущает».
«Прекрасный у вас дом, Джозеф, – не сдержалась я, – и приятные насельники; и мне видится, что сгущенная эссенция всего безумия мира обосновалась в моем мозгу в тот день, когда я связала с ними свою судьбу! Сейчас, однако, сожаленья делу не помогут – есть и другие комнаты. Бога ради, поспеши и устрой меня где-нибудь!»
На мои заклинанья он не отвечал, лишь упрямо заковылял по деревянным ступеням и задержался перед помещеньем, кое, заключила я, судя по этой заминке и более высокопробной мебели, было в доме лучшим. Там имелся ковер – хороший, однако узор скрывала пыль; камин с экраном, распадавшимся на куски; красивая дубовая кровать с пышным малиновым пологом весьма дорогой ткани и современной выделки; впрочем, с пологом обращались дурно: сорванные с колец подзоры свисали гирляндами, а железный стержень, кой они унизывали, с одной стороны прогнулся дугою, отчего занавесь опустилась до самого пола. Кресла тоже пострадали, и многие серьезно; стенные панели обезображены глубокими вмятинами. Я сбиралась с духом, дабы войти и присвоить эту комнату себе, но тут мой бестолковый проводник объявил: «А тутось самого спальница». Ужин мой к тому времени остыл, аппетит пропал, а терпение лопнуло. Я потребовала, чтобы мне сию же секунду предоставили убежище и отдых.
«Дак де ж? – запричитал набожный старик. – Боже нас ублагослови! Пройсти Осподи! Кудась вы, к дьяволу, водворитесси? несговорная вы безглуздая гундосница! Вы токмо Хэртонову спальницу ще не видали! Се дыры в дому обзыркали, ужо некуда иттить!»
Я так рассердилась, что швырнула поднос со всем содержимым на пол; а затем села на вершине лестницы, закрыла лицо руками и заплакала.
«Эва! эва! – вскричал Джозеф. – Ай да оспожа Кэти! ай да оспожа Кэти! Как бы сам-т на черепках не мякнулсси, то-т мы послухаем; уж мы се тада узнаем. Зряшная вы шушваль дурная! Унше б вы до Рожества голодали, что драгие дары Оспода нашего наземь швыркнули в эдаком страшенном гневу! Токмо погодьте, недолго вам ще каблучить. Вы чогой се мышляете, Хытклифф вам попустит енту блажь? Во бы он таперча поглядал на вас в эдаком-то духе! Во бы я посмотрел».
И, сыпля упреками, он ушел в свое логово внизу и свечу забрал с собою, а я осталась в темноте. Обильно поразмыслив после глупой своей выходки, я вынуждена была признать, что потребно придушить гордость, проглотить ярость, встряхнуться и уничтожить оных плоды. Тотчас мне негаданно прибыла подмога в облике Душегуба, в коем я признала теперь сына нашего старого Прохвоста: щенячество свое он провел в Усаде, а потом отец подарил его господину Хиндли. Полагаю, и он признал меня: в знак приветствия носом потерся о мой нос и кинулся поспешно пожирать овсянку; я меж тем ощупью пробиралась со ступеньки на ступеньку, поднимая черепки и платком вытирая с перил молочные брызги. Едва мы успели завершить свои труды, в коридоре раздались шаги Эрншо; помощник мой поджал хвост и распластался по стене; я спряталась в ближайшем дверном проеме. Собачьи старанья избежать хозяина не увенчались успехом, о чем я догадалась по топотку вниз по лестнице и долгому жалобному визгу. Мне повезло больше: Эрншо миновал меня, вошел к себе в спальню и захлопнул дверь. Тут же появился Джозеф с Хэртоном – слуга пришел уложить мальчика в постель. Я укрылась у Хэртона в спальне, и старик, увидев меня, промолвил: «Я смекаю, таперча в дому и вам простору станет, и ордости вашей. Пусто, хучь сё забирай для ся и Того, хто ноне и прысно третьим в ентом поганом обчестве!»
Я с радостью воспользовалась преимуществом его намека и, едва упав в кресло у огня, уронила голову и заснула. Сон мой был глубок и сладок, но завершился чересчур скоро. Разбудил меня господин Хитклифф; он только вошел и в ласковой своей манере осведомился, что я тут делаю. Я объяснила, отчего полуночничаю – оттого, что ключ к нашей комнате лежит у него в кармане. Местоименье «нашей» оскорбило его смертельно. Он поклялся, что комната не моя и моей никогда не будет, и что он… я, впрочем, не стану повторять его слова и описывать обиходные его поступки; добиваясь моего омерзенья, он воистину находчив и неутомим! Порой я взираю на него, и изумленье притупляет мои страхи; однако, уверяю тебя, тигр или ядовитый змей не внушал бы мне подобного ужаса. Он поведал мне о недуге Кэтрин, упрекнул моего брата в том, что вызвал сей недуг, и пообещал, что, пока он не в силах дотянуться до Эдгара, страдать за оного буду я.
О да, я его ненавижу… я измучена… до чего я была глупа! Не смей и думать хоть полслова об этом шепнуть в Усаде. Я стану ждать тебя каждый день… не разочаруй меня! ИЗАБЕЛЛА.


Глава XIV
Едва прочтя сию эпистолу, я отправилась к хозяину и объявила, что сестра его прибыла в Громотевичную Гору и прислала мне письмо, в коем печалится о положении госпожи Линтон и выражает страстное желанье увидеть брата; и прибавила, что, быть может, он безотлагательно передаст ей со мною что-нибудь в знак прощенья.
«Прощенья! – сказал Линтон. – Мне нечего прощать ей, Эллен. Можешь нынче пополудни навестить Громотевичную Гору, если хочешь, и передать, что я не сержусь, мне только жаль, что я ее потерял; а сверх того, я не верю, что она будет счастлива. О моем к ней визите, однако, и речи не может быть; мы навеки разлучены, а если она и впрямь желает мне угодить, пускай убедит злодея, за коего вышла, уехать из страны».
«И вы не напишете ей записочки, сэр?» – умоляюще спросила я.
«Не напишу, – отвечал он. – Нужды нет. Мои сношенья с семейством Хитклиффа будут скупы, как и его сношенья с моею семьей. Их попросту не будет!»
Холодность господина Эдгара опечалила меня несказанно; и всю дорогу от Усада я ломала голову, как передать его слова подушевнее и как смягчить его отказ черкнуть в утешенье Изабелле хотя бы пару строк. Думается мне, она караулила с утра: мощеной дорожкой шагая через сад, я увидела, как она смотрит в окно, и кивнула; она же попятилась, будто страшилась, что ее заметят. Я вошла не постучавшись. Не бывало на свете картины непригляднее, чем этот некогда радостный дом! Правду сказать, на месте молодой госпожи я бы хоть подмела у камина и обмахнула пыль со столов. Но она уже причастилась всепоглощающему духу окружающего запустенья. Красивое личико ее было бледно и безучастно; волосы распрямились; одни локоны вяло повисли, другие небрежно обвивались вкруг головы. Платья она небось не снимала с вечера. Хиндли не было. Господин Хитклифф сидел за столом, листая какие-то бумаги в записной книжке, но поднялся, когда я вошла, вполне дружелюбно спросил, как у меня дела, и предложил присесть. Он один в этом доме смотрелся пристойно; и, по-моему, в жизни своей не выглядел так хорошо. Обстоятельства шибко переменили их положенье, и чужак почел бы Хитклиффа за прирожденного джентльмена, а супругу его – за совершеннейшую маленькую грязнулю! Она кинулась поздороваться и протянула руку за ожидаемым письмом. Я покачала головой. Она не поняла намека, шагнула за мною к буфету, куда я направилась положить чепец, и шепотом принялась выпрашивать у меня то, что я принесла, и срочно. Хитклифф догадался, что означают ее маневры, и сказал: «Если ты что-то Изабелле принесла (а ты, несомненно, принесла, Нелли) – отдай ей. Незачем секретничать; между нами секретов не водится».
«Да нет, я ничего не принесла, – отвечала я, решив, что лучше сразу объявить правду. – Мой хозяин велел сказать сестре, что сейчас ей не стоит ждать от него посланья или визита. Он просил передать, что любит вас, мэм, желает вам счастья и прощает за то горе, что вы причинили; однако он полагает, что ныне его дому надлежит прервать всякие сношенья с этим домом, ибо из поддержанья таковых не выйдет ничего хорошего».
Госпожа Хитклифф, слегка задрожав губою, вернулась на скамью под окном. Муж ее перешел ко мне, воздвигся у очага и принялся засыпа́ть меня вопросами о Кэтрин. Я поведала о ее недуге то, что сочла пристойным; сведенья же об истоках болезни он почти полностью выжал из меня пристрастным допросом. Я винила хозяйку – и справедливо – за то, что сама на себя навлекла беду; в конце я выразила надежду, что Хитклифф последует примеру господина Линтона и станет избегать дальнейших вмешательств в жизнь семьи этого последнего, к добру или к худу.
«Госпожа Линтон едва начала поправляться, – сказала я. – Прежней уже не станет, но жизнь ее спасена; а вы, коли взаправду ею дорожите, отныне избегайте ее, а лучше уезжайте-ка за границу; и дабы вы о том не сожалели, я уведомлю вас, что нынче Кэтрин Линтон не похожа на вашу старую подругу Кэтрин Эрншо, как эта вот юная леди не похожа на меня. Облик ее изрядно переменился, нрав и того пуще; а тот, кто по надобности вынужден быть подле нее, сохранит свою любовь лишь воспоминаньями о Кэтрин, коей она некогда была, да простой человечностью и чувством долга!»
«Это отнюдь не исключено, – отметил Хитклифф, с усилием разыгрывая невозмутимость. – Отнюдь не исключено, что хозяину твоему ничего не осталось, кроме простой человечности и чувства долга. Но ужель ты полагаешь, будто я оставлю Кэтрин на потребу егодолгу и человечности? Сравни мои чувства к Кэтрин с его. Прежде чем ты покинешь этот дом, я должен взять с тебя обещанье, что ты устроишь нам с нею встречу; согласись или откажись, я с Кэтрин все равно увижусь! Что скажешь?»
«Скажу, господин Хитклифф, – отвечала я, – что это лишнее, и через мое посредство вы с нею не увидитесь никогда. Еще одна ваша стычка с хозяином ее попросту убьет».
«Поспешествуй нам – и стычки можно избегнуть, – продолжал он, – а возникни опасность такого поворота, принеси он в ее жизнь хоть одну лишнюю тревогу – ну, полагаю, я вправе буду пойти на крайние меры! Жаль, тебе недостает искренности сознаться, станет ли Кэтрин сильно горевать, потеряв его; я сдерживаюсь, ибо опасаюсь, что да. И в этом, как видишь, различье наших чувств; поменяйся мы местами, я ненавидел бы его, от ненависти исходил бы желчью, но ни за что не поднял на него руку. Не веришь? Да и пожалуйста! Я бы никогда не лишил Кэтрин его общества, если б она его желала. Угасни ее расположение, я тотчас вырвал бы сердце у него из груди и выпил бы его кровь. Но до той поры – и если ты сомневаешься, ты меня не знаешь, – до той поры я бы медленно умирал, прежде чем коснулся хоть волоса у него на голове!»
«И тем не менее, – перебила я, – совесть дозволила вам совершенно погубить все надежды на полное ее выздоровленье: вы вернулись, вы напомнили ей о себе теперь, когда она вас почти забыла, и ввергли ее в новую бурю расстройства и разлада».
«Полагаешь, она почти забыла меня? – переспросил он. – Нелли, ну что ты! ты же знаешь, что нет! Ты знаешь не хуже меня: единожды подумав о Линтоне, она думает обо мне тысячу раз! В самые горестные времена у меня было такое подозренье; прошлым летом оно терзало меня по приезде сюда, но лишь ее заверенья вынудили бы меня признать сию страшную мысль за истину. И тогда Линтон был бы ничто, и Хиндли – ничто, и все грезы, что грезились мне. Два слова составили бы мое будущее:смерть и ад; потеряй я ее, жизнь моя обернулась бы преисподней. Я думал, будто привязанность Эдгара Линтона она ценит выше моей; я был глупец. Люби он всем своим ничтожным существом, и за восемьдесят лет не одарил бы ее такой любовью, какой я одарю за день. А у Кэтрин сердце огромно, как мое; скорее море поместится вон в то корыто, нежели он присвоит ее любовь единолично. Да ну! Он едва ли многим ей дороже, нежели ее собака или лошадь. Ему не по характеру быть любимым, подобно мне; как ей любить в нем то, чего нет?»