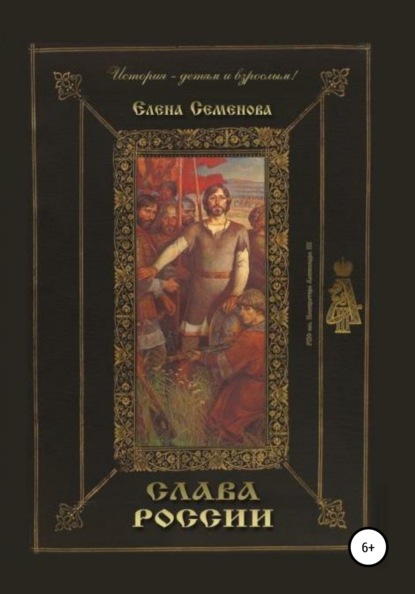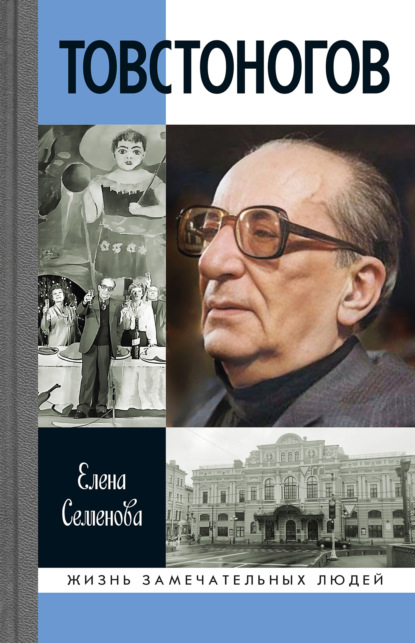Полная версия:
Елена Владимировна Семёнова Претерпевшие до конца. Том 2
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

МОЛОХ
Глава 1. Пролог
Серые существа, похожие на людей, с кувалдами и ломами, они стекаются дружными колоннами с разных сторон. Они оживлены и радостны, они предвкушают торжественный миг. И новогодний мороз нисколько не остужает их задора…
Что нужно им? Зачем стекаются они сюда? Прежде стекались в эти дни ко вратам древней обители богомольцы. На Рождество столь много бывало их, что полным-полны стояли древние храмы, и от этого особенно торжественной становилась служба.
В погожие летние дни также стекались горожане на живописный москварецкий берег – гуляли под сенью величавых стен.
Но нынешние пришельцы нисколько не походили на прежних людей, будто другого племени были они, племени, ещё не достигшего высоты эволюции, замершего на полпути. У прежних людей никогда не бывало таких огрубелых, словно высеченных наспех из камня лиц, таких пугающе пустых глаз, таких тяжёлых взглядов… Зачем же пришли они? Для чего понадвинулись стаей, ощетинившись ломами и лопатами? На какого неведомого врага вооружились?
Замер монастырь, не понимая, что же творит людской муравейник у его гордых башен, у неприступных стен, переживших на своём веку войны и разрухи, пожары и бедствия. Замер, не веря надвигающейся грозе. И трудно было поверить ей 560-летней обители! В середине четырнадцатого века Преподобный Сергий благословил своего племянника Феодора, духовника князя Дмитрия Донского, «поставить монастырь на Москве, зовомое от древних Симоново на реке на Москве». И, вот, на высоком левом берегу Москвы-реки, среди лугов и лесов стала подниматься новая обитель. Именно в её ограде суждено было упокоиться славным останкам Пересвета и Осляби.
Десятилетия спустя в Симонове был воздвигнут великолепный Успенский собор. В монастыре начинали свой подвиг иноки Кирилл и Ферапонт, позже основавшие знаменитые Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри.
В XVII веке Симонов, ставший богатейшей обителью Москвы, превратился в настоящую крепость, благодаря выстроенным Фёдором Конём высоким стенам и уникальным башням. Самая крупная из них, «Дуло», многогранная, с накладными лопатками, с рядами бойниц и шатровым завершением, в веке XIX стала излюбленной смотровой площадкой Лермонтова…
Век за веком рос монастырь, сохраняя в себе отпечатки русской истории, становясь всё прекраснее. В 1593 году над западными воротами была возведена церковь в честь Спаса Преображения в память успешного отражения нападения крымских орд под главенством хана Казы-Гирея. В конце XVII столетия зодчие Парфен Петров и Осип Старцев выстроили одно из самых замечательных произведений русского зодчества – здание трапезной палаты, к которой пристроили жилые палаты для царя Федора Алексеевича, любившего бывать в этом монастыре и подолгу жившего в нем.
Наконец в XIX веке архитектор Тон возвёл огромную, высотой в сорок четыре сажени, колокольню, не имевшую равных в Первопрестольной.
Редкий монастырь мог состязаться великолепием с веками слагавшимся ансамблем Симонова. Это чудо русского зодчества было одной из главных жемчужин Москвы. Но для чёрных глаз новых властителей России не было ничего нестерпимее, нежели свет этой красоты, самим существованием своим свидетельствующей о начале божественном… И врагом, на которого стягивались серые орды, был не какой-нибудь лихой супостат, а монастырские стены и храмы, безмолвно ожидающие своей участи и всё ещё надеющиеся на проблеск разума в обезумевших людях.
Но куда там! Ведь неделя за неделей неистовствовали газеты, науськивая серое племя: только одно и мешает установлению для вас земного рая – очаг мракобесия среди обступивших его заводов! Уничтожить его, и возвести на расчищенном месте дворец культуры при заводе имени товарища Сталина! И тогда свет культурной жизни прольётся на вас!
И уверовало серое племя, которому столь мало нужно было, чтобы – уверовать, которому довольно было лишь указать врага, чтобы оно бросилось яростно истреблять его, пролагая путь в «светлое будущее». «Построим на месте очага мракобесия очаг пролетарской культуры!» – под таким лозунгом шагает племя: разрушать…
К разрушению звали с Семнадцатого года. «Мы до сих пор не можем победить египетские пирамиды. Багаж древности в каждом торчит, как заноза древней мудрости, и забота о его целости – трата времени и смешна тому, кто в вихре ветров плывет за облаками в синем абажуре неба… …Нужен ли Рубенс или пирамида Хеопса? Нужна ли блудливая Венера пилоту в выси нашего нового познания?.. …Нужны ли старые слепки глиняных городов, подпертых костылями греческих колонок?.. ..Ничего не нужно современности, кроме того, что ей принадлежит, а ей принадлежит только то, что вырастает на ее плечах… …Современность изобрела крематории для мертвых, а каждый мертвый живее даже гениально написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем один грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысяча кладбищ. Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи как мертвое и устроить одну аптеку. Цель будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства… И наша современность должна иметь лозунг: «Все, что сделано нами, сделано для крематория»… …Скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Василии Блаженном. Стоит ли заботиться о мертвом? Всякое собирание старья приносит вред. Я уверен, что если бы был своевременно уничтожен русский стиль, то вместо выстроенной богадельни Казанского вокзала возникла бы действительно современная постройка», – так витийствовал ещё в Девятнадцатом глава художественного отдела Моссовета Казимир Малевич.
И мечты его воплощались в жизнь. Сперва нерешительно, непоследовательно. При Наркомпросе были собраны лучшие специалисты в области искусства, дабы выявить и поставить на учёт памятники старины, обеспечить их дальнейшее существование. Отбираемые у церкви монастыри и храмы переводились в разряд музеев. Так, в Симонове был открыт музей русской воинской славы с богатейшей коллекцией древнего оружия.
Забота об историко-культурном наследии легла, в первую очередь, на плечи искусствоведов и реставраторов, не жалевших сил для спасения вверенного им бесценного достояния. Двенадцать лет длилась изматывающая борьба… И был краткий миг, в который показалось, что здравомыслие всё-таки возьмёт верх. Но уже в двадцать шестом году эта робкая надежда погасла. В тот год Президиум Моссовета постановил: «Предложить всем отделам Московского Совета препятствовать изысканию новых памятников старины». И с двадцать седьмого пока ещё медленно, раскачиваясь, началось наступление. Первой мишенью для удара выбрали изящные Красные ворота, возведенные при императрице Елизавете по проекту архитектора Ухтомского. Газеты подняли шум, якобы мешают они трамвайному движению. Само собой, защитники старины отчаянно доказывали необходимость сберечь памятник, но варвар одержал победу…
Ещё год спустя волна начала подниматься и в провинции. В Центральных государственных реставрационных мастерских не успевали разбирать заявки властей разного уровня на снос десятков храмов: из Суздаля и Кашина, Ростова и Кинешмы, Мурома и Соликамска, Переславля и Великого Устюга, Калязина, Юрьева-Польского, Ярославля, Владимира, Костромы…
Гибла, гибла безвозвратно русская культура! Одолевал враг, по печальному выражению Пришвина. И ни искры жалости не пробивалось к созданию гения человеческого, к красоте.
Племя коммунистов, кажется, было вовсе чуждо чувству красоты. Случается, что люди рождаются калеками – без слуха, без зрения, без руки… Без ума, наконец. У племени коммунистов отсутствовало чувство красоты, и это увечье объединяло их в новую, ранее невиданную общность…
Страшен был вид этих не знающих красоты людей. Особенно для человека, вслед Достоевскому веровавшему, что именно она спасёт мир, и оттого, однажды познав её всей душой, посвятившего всего себя её спасению.
Много лет назад двенадцатилетний сын безземельного крестьянина-ремесленника увидел шатровый деревянный храм, подобно древней ели устремлённый к небу. Храм так поразил мальчика, что он добился у местного священника разрешения провести обмеры храма, чтобы открыть для себя секреты старых мастеров.
А тремя годами позже состоялась первая встреча его с творением зодчего, который навсегда станет для него самым любимым – Болдинским монастырём Фёдора Коня… Дух захватило оттого, что купола шатровой Введенской церкви вздымались выше сосновых куп! И не мог охватить разум, как в этой крохотной деревеньке люди подняли такие громады камня под небеса и придали им красоту?.. Красота и тайна, наполнявшая её, завораживали юношу.
С зарисовками этих двух храмов юный Пётр Барановский явился в Московское строительно-техническое училище. Когда в Московском археологическом обществе, объединившем любителей старины, он показал свои эскизы, ученые мужи ахнули и написали юноше поручительную бумагу с тем, чтобы он смог произвести в полном объеме обмеры болдинских древних сооружений. За произведённые работы, доклад и свой первый проект реставрации Барановский получил от общества премию в четыреста рублей пятирублевыми золотыми монетами.
Так началось служение красоте. Свою работу Пётр Дмитриевич сравнивал с работой доктора. Не врача, просто лечащего тело, а именно доктора, умеющего понять душевное состояние пациента, выявить глубинную причину болезни. Для Барановского памятник никогда не был просто камнем или деревом, но живым, одушевлённым существом, которое он чувствовал. Это глубокое чутьё, помноженное на исключительную эрудицию, память, трудолюбие, сделало его новатором в реставрационном деле. Его методы реставрации не имели аналогов.
Врачевание требует чистоты: как на объекте реставрации, так и рядом с ним. А ещё – в человеческих отношениях. Никакой брани, никакого панибратства, уважение к человеческой личности, к своему делу и к воссоздаваемому шедевру – подходя к работе с такой меркой, он обращал её в священнодействие.
Чем сильнее был разрушен памятник, тем дороже был Петру Дмитриевичу, подобно тому, как матери из всех детей бывает наиболее дорог самый слабый и болезненный. И тем больнее было созерцать по пришествии «новой эры», как беспощадно уничтожается то, что было так дорого его сердцу.
Археологический институт он окончил уже после революции, вернувшись с фронта в чине подпоручика инженерных войск. И сразу по защите диссертации представилось труднейшее и важнейшее дело – восстановление разорённого при подавлении перхуровского восстания Ярославля. Ровно девять лет потребовалось, чтобы воссоздать разрушенные большевистской артиллерией памятники. Реставрируя их, Барановский успел исследовать, обмерить, зафиксировать в фотографиях, частично отреставрировать или выполнить проекты восстановления памятников деревянного зодчества в Угличе, Ростове Великом, Мологе…
Предчувствуя нависшую над памятниками угрозу, Пётр Дмитриевич спешил составить подробные обмеры и описания их, дабы по ним потомки смогли бы воссоздать утраченную красоту.
Едва работы в Ярославле были налажены, Барановский поспешил в Болдино и приступил к восстановлению любимого с отроческих лет монастыря. В те же годы он исследовал московские памятники, участвовал в Северодвинской экспедиции Грабаря, посещая в ходе неё почти все города и веси по беломорскому берегу и берегам Северной Двины от устья до верховий. После этого путешествия Пётр Дмитриевич добился разрешения на создание музея архитектуры под открытым небом в Коломенском, куда стал бережно перевозить памятники деревянного зодчества русского севера.
Занимаясь реставрацией Коломенского, Барановский провёл обследование памятников близлежащих уездов Московской губернии, откуда на свои средства перевёз в создаваемый музей многие экспонаты.
В двадцать третьем году Пётр Дмитриевич был срочно командирован Грабарём в Новгород – для спасения ещё не изъятых церковных ценностей. По возвращении из Новгородской экспедиции он составил для Совнаркома записку с предложением о создании музеев на базе закрываемых монастырей: в ту пору это было единственным шансом спасти их. Идею было позволено воплощать в жизнь, и Барановский развернул кипучую деятельность, один лишь географический размах которой поражал воображение многих: Ярославль и Боровск, Москва и Юрьев-Польский, Александров и Калуга, Соловки и Пинега, Шуя и Кижи, Углич и Дорогобуж – всюду дотянулась заботливая рука доктора-реставратора.
До последнего года ещё удавалось противостоять беспощадному натиску варваризации. Но к концу Двадцать девятого начался доселе невиданный обвал, грозящий смести на своём пути всё. В считанные недели случились события, каждое из которых без преувеличения было трагедией.
Власти разгромили Болдинский музей, арестовав его директора Бузанова. При разгроме оказалась частично утрачена музейная коллекция и большинство фотографий, сделанных внуком историка Михаила Погодина, нанятым Барановским для документирования музея. Вскоре после этого фотограф был «вычищен» как «классово чуждый».
Начиная с 1925 года, Пётр Дмитриевич вел реставрацию Казанского собора на Красной площади, последнего шедевра Фёдора Коня, выстроенного по почину и на средства Дмитрия Пожарского и ставшего главным памятником войне 1612 года. И вдруг остановили работы, и разразился Моссовет решением: снести Казанский собор и Воскресенские (Иверские) ворота с часовней…
Целая делегация профессоров и академиков во главе с Грабарём и Щусевым, придя к Кагановичу, доказывали, что подобное варварство нельзя оправдать, что обречённые сносу памятники обладают исключительными эстетическими достоинствами.
– А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь, – безапелляционно парировал Лазарь Моисеевич.
Защитникам старины уже не позволялось протестовать. Объявленные печатью «вредителями», они вынуждены были умолкнуть и в ужасе созерцать невиданный в истории по масштабам акт вандализма.
На пороге нового года по новому стилю был уничтожен полутысячелетний Чудов монастырь… Власти понадобилось место для военной школы. Судьба святыни решалась столь спешно, что почти не осталось времени спасти хоть что-то. Перед сносом администрация Кремля вызвала художника Павла Корина для демонтажа наиболее ценных фресок, однако не дала ему завершить работу. Собор был уничтожен вместе с фресками. В самый последний момент Пётр Дмитриевич успел на себе вынести из него мощи святителя Алексия Московского…
Не успелось ещё прийти в себя от этой тяжелейшей для русской культуры утраты, как оглоушила очередная чёрная весть: двенадцатого января в Люберцах под колёсами поезда погиб Дмитрий Дмитриевич Иванов, создатель Оружейной палаты, совсем недавно смещённый с должности. Сколько сил потратил этот человек на то, чтобы отстоять от продажи за границу музейные ценности! Но, вот, после недолгого затишья решено было возобновить эту практику. Музеям спустили жёсткие разнарядки на сдачу ценностей в миллионы рублей золотом. Дмитрий Дмитриевич ещё пытался протестовать, доказывая: «Вред от утраты факторов культуры в особенности злополучен именно теперь, когда все силы должны быть направлены на индустриализацию. Не случайность, что некоторые из музеев Америки растут теперь больше, чем все музеи Европы, взятые вместе. Дело в том, что для индустриализации всякой страны кроме усовершенствования машины требуется в первую очередь усовершенствование человека». Но напрасно… Смещённый с должности, тяжело больной, измученный старик, полный тревоги за родных, он не нашёл иного исхода из создавшегося отчаянного положения…
Иванов погиб двенадцатого, а на другой день, в старостильный новый год, из созданного им музея состоялась крупнейшая выемка ценностей. И в этот же чёрный день должен был кануть в небытие Симонов…
Совсем недавно Петра Дмитриевича вызвали в Моссовет и попросили дать небольшой список наиболее ценных памятников архитектуры Москвы.
– Для чего он вам? – спросил Барановский.
– Начинаем реконструкцию столицы, хотим сохранить все уникальное.
Список был составлен из одиннадцати памятников архитектуры: Симонов монастырь, Сухарева башня, храм Василия Блаженного… На вопрос, какой из памятников, не считая Кремля, он поставил бы на первое место, Барановский, не задумываясь, ответил:
– Симонов монастырь. Равных ему в Москве нет…
Теперь стоя на пронизывающем ветру, но не чувствуя холода, Пётр Дмитриевич не сводил глаз с прекрасного ансамбля, точно вбирая в себя его чудный образ, запоминая каждую деталь и в то же время прощаясь.
Десятилетия требовались древним людям, чтобы воздвигнуть на диво всему человечеству величественные здания. В двадцатом веке человечество достигло вершины прогресса – возможности в считанные минуты обратить во прах эти плоды неустанных трудов своих пращуров.
Решительно ни одна страна мира, ни один народ, исключая разве что турок, не надругалась так над собственной историей и культурой. Варвары! Невозможно без содрогания было созерцать, как разводили они костры вокруг осаждённой крепости, пели революционные песни, отпускали похабные шутки – готовились к «работе»! Для них организованы были полевые кухни и медицинские пункты – труд разрушения требовал всесторонней поддержки… Откуда взялись они? Ведь не из неведомых стран и континентов завезли их! Нет! У них русские имена и русский, пусть и огрублённый, примитивный язык. Русскими были их родители. В России родились и выросли они. Откуда же эта безумная ненависть? Издревле русский человек с особой чуткостью понимал красоту, оттого так и заботился об украшении своей земли, не жалея кровной копейки…
Знать, верно утверждение, что пролетариат не имеет национальности. Тот, прежний русский человек, возрастал на лоне природы, среди лесов и лугов, где прекрасно и одухотворено всё. Но работники фабрик и заводов не познали этой красоты, и, духовно ограбленные, увечные, ярились теперь разрушать её. На её месте они увидят понятное себе – например, кинотеатр…
Из Успенского собора вышли сосредоточенные сапёры. Заложили взрывчатку… Суетившаяся дотоле толпа притихла, замерла – никто не желал пропустить исторического мгновения. Тягостно провыл ветер, прокочевал меж древних башен, отслужил панихиду…
Наконец, сигнал был дан, и уже в следующее мгновение раздался грохот. Громадный пятиглавник тяжело и испуганно ухнул, подобно человеку, получившему удар ножом под рёбра в тёмном переулке, и начал оседать, скрываясь в клубах пыли, провожаемый скорбными башнями, до последнего не верившими в возможность такого исхода, и ликующим пролетариатом, отмечающим очередное начало «новой эры»…
Глава 2. Поминки по утраченному
Тот взрыв не только в соборе прогремел, но в сердце. Правда, оно крепче каменной кладки оказалось и зачем-то не разорвалось… Лишь чёрно-малиновые круги перед глазами пошли, и сами самой подкосились ноги, заставив пасть на колени перед казнённой святыней, ткнуться пылающим лбом в ледяной снег.
Сергей не пошёл бы в тот день к Симонову – слишком страшно было созерцать его гибель. Но на старом кладбище были похоронены мать Лиды, её дед, бабка, другая родня. Узнав о предстоящем сносе, она решила, во что бы то ни стало, перевезти прах дорогих людей в Донской монастырь. Разрешение помог выхлопотать Пряшников, также приехавший помочь в печальном деле.
Раскопка могил была назначена на семь утра. Ничей прах не был пощажен, а ведь на Симоновом покоились люди выдающиеся: князь Симеон Бекбулатович, прихотью Ивана Грозного игравший роль Царя, младший сын Дмитрия Донского Константин, князья Мстиславские, Урусовы, Юсуповы, Сулешевы, Бутурлины, Татищевы, Новосильцовы, Нарышкины, Шаховские, Вадбольские, граф Федор Алексеевич Головин и его сын адмирал Николай Федорович, дядя Пушкина Николай Львович, композитор Алябьев, коллекционер Бахрушин…
Бесстрастные писари вели протокол: «Вскрыт первый гроб. В нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета. Череп наклонен на правую сторону. Руки сложены на груди… На ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части сапог хорошо сохранились, но нитки, их соединявшие, сгнили…» К чему, вообще, был нужен протокол этим людям? Ведь ничуть не собирались они позаботиться о новом месте упокоения останков, но сметали их в общую яму, чтобы затем на изломанных костях возводить «очаг пролетарской культуры». С ужасом заметил Сергей, что участники раскопок не брезгуют прихватывать себе из могил «трофеи» – от сохранившихся вещей до костей покойников…
От всего происходящего мутило. И уж совсем невмоготу стало, когда добрались до фамильной могилы Аксаковых, которых вместе с поэтом Веневитиновым милостиво разрешили перенести на Новодевичье. С этой могилой, где упокоились отец и оба сына Аксаковых, гробокопателям пришлось повозиться. Над нею росла огромная, раскидистая берёза, покрывавшая всё захоронение. Когда оно было разрыто, то оказалось сложным извлечь останки грудной части Сергея Тимофеевича – именно из неё, из самого сердца произрастал корень берёзы… Но изрубили его, и извлекли, отняли у земли прах, занесли в протокол…
– Зря ты пришёл, – сказала Лида, когда останки её родных были погружены на нанятые подводы. – Мы бы управились без тебя, а тебе всё это видеть не стоило. Иди домой, а на Донском мы сами…
Эта женщина не ошибалась никогда. Ему, действительно, не следовало приходить и уж во всяком случае, дожидаться конца драмы. Но когда жена вместе с сыном и Стёпой отправились в Донской, Сергей понял, что уйти не может, не может малодушно бросить монастырь в его последние часы. С того дня гул взрыва и вид руин на месте Успенского собора беспощадно преследовали его. Казалось, что эти руины погребли под собой всякую надежду, погребли труды стольких лет…
С начала 20-х Сергей входил в общество «Старая Москва», которое возглавлял крупнейший москвовед Петр Николаевич Миллер, не мысливший свою жизнь без России и Москвы, досконально знавший историю всех столичных районов, улиц, большинства домов. Членами «Старой Москвы» являлись крупнейшие учёные, исследователи, деятели искусства: М.И. Александровский, К.В. Базилевич, П.Д. Барановский, А.А. Бахрушин, С.К. Богоявленский, А.М. Васнецов, Н.Д. Виноградов, В.А. Гиляровский, В.В. Згура, М.А. Ильин, А.В. Орешников, К.В. Сивков, Д.П. Сухов, П.В. Сытин, М.А. Цявловский, А.В. Чаянов… Эти люди собирались даже в голодные московские зимы: сидели в шубах, согреваясь чаем с чёрным хлебом и ставшим редким лакомством сахаром, и читали рефераты по старой Москве для приходивших слушателей…
К 1927 году в составе «Старой Москвы» работало одиннадцать комиссий. Среди них: протокольная, кладбищенская, комиссии по регистрации архитектурных памятников, по составлению исторического атласа Москвы, экскурсионная, библиографическая, мемуарная, издательская… Когда возникла угроза уничтожения ряда московских кладбищ, кладбищенская комиссия и Союз писателей осенью 1926 года образовали «Временный Комитет по охране могил выдающихся деятелей», первое заседание которого состоялось третьего марта 1927 года под председательством Миллера. В результате были приведены в порядок могилы Хераскова и Чаадаева в Донском монастыре, «Литераторские мостки» на Пятницком кладбище, разысканы могилы художника Саврасова, писателей Астырева, Соловьева-Несмелова, Успенского, Разоренова и других.
Годом позже под председательством Петра Николаевича была учреждена Пушкинская комиссия, поставившая своей задачей дальнейшее выявление пушкинских мест столицы и конкретизацию круга московских знакомств поэта.
«Старая Москва» занималась организацией выставок и конференций, краеведением, археологическими раскопками, издательской деятельностью. Вся деятельность её была посвящена сохранению исторической памяти и народному просвещению. Члены общества, среди которых было немало молодёжи, узнав о планах сноса того или иного памятника, спешили замерять его и фотографировать. Они же неустанно протестовали против нарастающего вала вандализма…
Но получив тавро «вредителей» – замолчали и самые смелые. С конца Двадцать девятого началось подавление всех краеведческих и общественных организаций, связанных с историей и культурным наследием. Под ударом оказались Общество истории и древностей российских, Общество любителей старины, Общество изучения русской усадьбы, Институт истории РАНИОН… Их судьба была уже предрешена, равно как и судьба «Старой Москвы», угасавшей на глазах.
Чувство безысходности всецело завладело Сергеем. Он не мог заставить себя вновь включиться в работу – обмерять, писать доклады по очередным обречённым памятникам и вести их мартиролог. Не выдерживала душа, опускались руки. И как-то само собой находилось утешение в исконном способе размыкания тоски…
Вьюжным февральским днём Сергей сидел в полупустой пивной, доканчивая взятый графин водки. Этим утром ему случайно попался на глаза четвёртый номер подлейшего кольцовского «Огонька» с фотографией обломка симоновской колокольни на обложке и восторженными статейками… Сколько привелось читать подобных за последнее время! Так и исходились советские газеты: «Москва не музей старины… Москва не кладбище былой цивилизации, а колыбель нарастающей новой, пролетарской культуры». «Улица, площадь не музей. Они должны быть всецело нашими. Здесь политически живёт пролетариат. И это место должно быть очищено от… векового мусора – идеологического и художественного». «Гигантские задачи по социалистическому строительству и новому строительству Москвы… требуют чётко выраженной классовой пролетарской архитектуры». «Давно пора поставить вопрос о создании в плановом порядке комплексного архитектурного оформления города, отражающего идеологию пролетариата и являющегося мощным орудием классовой борьбы»…