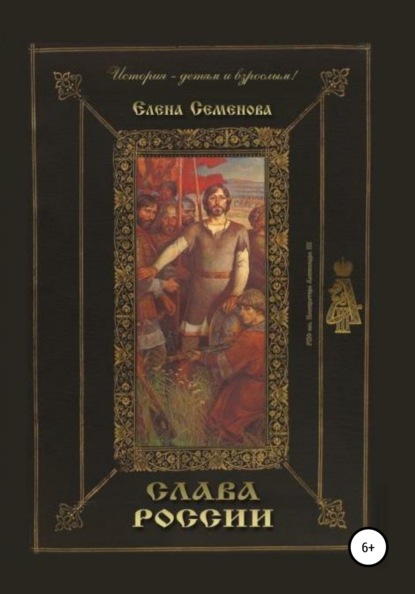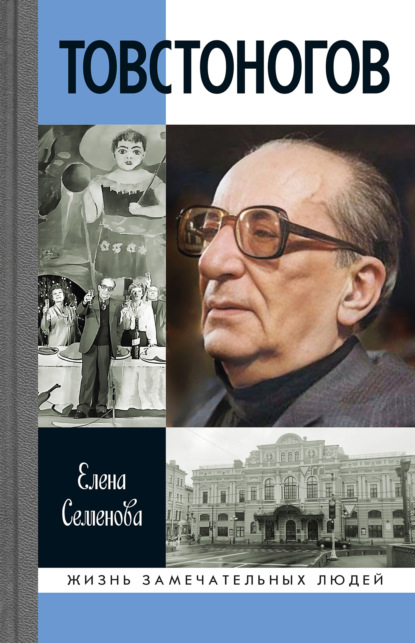Полная версия:
Елена Владимировна Семёнова Претерпевшие до конца. Том 1
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

ОМУТ
Глава 1. Дом
Ничего нет прекраснее июньского утра. Самого раннего, когда, лишь немного вздремнув короткой ночью, солнце дарит свои первые, ещё робкие, ещё матерински-нежные, не обещающие дневного жара лучи. Когда воздух чист и пропитан росистой свежестью и ароматами трав настолько, что не хватает лёгких, чтобы вобрать его, и, кажется, что лопнет грудь от восторженно-упоённого вздоха. Когда дневная суета ещё не вторглась разноголосым гомоном в величавую тишь первозданного царства природы, и лишь щебет птиц услаждает слух…
– Бог ты мой, как же хорошо! – шумно выдохнул Родион, ненасытно озираясь кругом, оглядывая дорогие сердцу места. – Ну, что молчишь? – толкнул локтём сидевшего подле приятеля.
– Да… Красиво у вас… – только и ответил Никита. И явно не было ему никакого дела до раскинувшихся кругом красот, а лишь до одного – добраться бы скорее до дома и окунуться лицом в подушку. И проспать до обеда, а то и долее. И то сказать – почитай сутки без сна. И который час мчали и мчали по ухабистым дорогам. Предлагал Никита заночевать в городе, прежде чем в дальнейший путь пускаться. Но Родион упёрся – ни мгновения не хотел терять. Домой! Как можно в городе ночевать, когда до дома, вон – рукой подать? Да уже бы и там были, кабы не полетела рессора у чёртовой коляски. И не пришлось ожидать починки. Ах, и не стоило б вовсе с коляской возиться – верхом давно бы уже дома были! Но… Но такой прогулки Никита бы уж точно не одобрил. Это Родион, с малых ногтей к лошадям приученный, мог сутки мчать во весь опор, а Никита – дело другое. В артиллерии родимой, пожалуй, и потолковее Родиона он, но наездник никудышный. Вот, и пришлось в коляске трястись.
– Красиво… – фыркнул Родион. – Ты б хоть глаза разомкнул. Офицер! Сутки лишь без отдыха, и уже спишь на ходу!
– Поди теперь не война, – зевнул Никита.
Родион махнул рукой: безнадёжен был друг закадычный, совершенно безнадёжен. И снова вбирал сладость утреннего воздуха. Вот, мелькнут дни июньские, и уже помину от этой сладости не останется – спеши, лови мгновенья эти! И трепетало сердце от вида родных поворотов, перелесков, лугов. Ничего-то не менялось здесь! Та же милая безмятежность… И всё-то знакомо, и со всем-то дорогие сердцу воспоминания связаны.
Вон, в том лесу, что на горизонте в молочной дымке синеет непреступной крепостной стеной с острыми башнями, однажды наспор провёл один целую ночь. Якобы случайно отстав от сельской ребятни, с которой пошёл по грибы, укрылся в чаще так, что едва не заблудился на самом деле. По счастью, сумел развести костёр, а то бы, пожалуй, замёрз ночью или стал волчьей добычей. Волки-то кружили всю ночь, завывали. Так страшно было, что вскарабкался на дерево и просидел до света без сна на ветке, обхватив руками ствол. Правда, после о страхе своём никому не обмолвился, а держался героем. Мол, что нам ночь в лесу! Что нам звери дикие! Подумаешь! Пусть их девчонки боятся, а Роде Аскольдову всё нипочём!
Мальчишки деревенские уважительно смотрели, зато отец такого задал жару, что волки и впрямь меньшим страхом показались. Грозил всю ночь искавший непутёвое чадо родитель посадить его под замок – книжной премудрости обучаться вместо того, чтобы по лесам да болотам, как мужицкий сын, целыми днями пропадать. Но, по счастью, от такой страшной кары избавила мать, всегда умевшая смягчить крутой нрав отца.
Николай Кириллович Аскольдов был человеком суровым и властным. Подчас до деспотизма. Эти качества, однако, сочетались в нём с широтой кругозора, благодаря которой ещё задолго до столыпинской реформы он не боялся нововведений и успешно внедрял их на своих землях. Отец был убеждённым консерватором в политике, но в вопросах экономических отличался взглядами передовыми. А его суровость ничуть не мешала ему быть доступным для всякого нуждающегося и без малейшей заносчивости общаться с мужиками. В его отношении с ними никогда не было показного либеральничания, панибратства, а всегда сохранялась дистанция, сопряжённая с неизменно уважительным отношением отца к человеческой личности.
В молодые годы Николай Кириллович мечтал о карьере на поприще военном. Но едва дослужившись до поручика, вынужден был оставить службу из-за сильнейшего ревматизма, который с той поры уже не покидал его в протяжении всей жизни. Как ни жаль было утраченной мечты, а не таков был отец, чтобы погрузиться в тоску. Его энергичный, волевой характер требовал действия. Требовал живой, серьёзной работы. Дела.
Делом этим стало имение Глинское, унаследованное от бабки и порядком запущенное, когда Николай Кириллович с молодой женой и новорожденной Лялей обосновались в нём.
Первым делом отец перестроил дом. Старого, полуразрушенного, Родион уже не застал. В его памяти жил лишь один Дом. Бревенчатый, облицованный тёсом, выкрашенным тёмно-коричневой краской, с высоким крыльцом, украшенным затейливым кружевом резьбы, по которой нашлись в деревне дюжие мастаки. Точно так же разукрашены были ставни и наличники.
Дом походил на средневековый русский терем. Именно таким желал видеть его отец. Он не был просто кровом, местом обитания, стенами и крышей, а живым, одушевлённым существом. В нём всегда царил уют и теплота. От изразцовых голландок, от кремовых занавесок на широких окнах, благодаря которым комнаты всегда были залиты светом, от массивной мебели тёмного дерева и старых портретов…
Двухэтажный дом венчала небольшая мансарда, где хранились массивные сундуки со старыми вещами, и где так чудно было прятаться в детстве, мечтая о приключениях и зачитываясь романами Жюля Верна, Вальтера Скотта, легендами о рыцарях круглого стала, дивными шотландскими балладами, в которых всё было проникнуто завораживающей ребячью душу тайной!.. Роде представлялось, что и в лесах, раскинувшихся вокруг усадьбы, непременно должны жить духи и другие существа, о которых повествовали легенды. Он даже пытался тайком искать их, но, увы, безуспешно.
Отец желал, чтобы Родя больше времени уделял литературе серьёзной, наукам. Но науки были нестерпимо унылы, и нерадивый ученик снова скрывался на чердаке, уносясь в чудесные, неведомые миры. Он то грезил о морских путешествиях, то представлял себя благородным рыцарем, буквально задыхаясь от жажды подвигов и приключений.
Прочитав очередную книгу, Родя пересказывал её деревенским приятелям, и начиналось не менее упоительное – игра! На ролевые игры его фантазия была неистощима. Ведь только в этих играх он, мальчишка, мог почти взаправду превратиться в доблестного рыцаря или отважного следопыта.
Отца сердили подобные легкомысленные забавы. Николай Кириллович считал, что сыновья с малых ногтей должны приучаться к порядку, к труду. Старший, Митя, радовал его, унаследовав серьёзность и вдумчивость. Он не носился с сельской ребятнёй, не пропадал целыми днями в поисках приключений, не бродил по болотам в компании верного пса… Зато всегда сопровождал отца в поездках. Во время жатвы вместе с ним целыми днями мог проводить в поле. Не отлынивал от уроков. О Роде же отец говорил безнадёжно:
– Пустопляс! Не будет из него толку!
Помощники Николаю Кирилловичу были нужны. Широк был его размах. Отставной поручик, он весь свой воинский огонь, несомненно выведший бы его в генералы, тратил на устроение хозяйства. Самолично вычитал все труды по агрономии, какие смог достать, пристально изучил зарубежный опыт, совершив даже поездку в Германию, и твёрдо, последовательно начал внедрять разнообразные новшества. Закупленные им сорта зерновых культур и овощей, обещавшие наилучшие урожаи, уже в первые два года с лихвой оправдали надежды. Обработка земли, уход за растениями, удобрение почвы – всё было отныне поставлено на научную основу. Удалось и труд людей организовать наилучшим образом.
Позднее свой опыт отец изложил в специальной докладной записке, которую составил для комиссии по земельной реформе.
Не доверяя управляющим, он предпочитал всем заниматься лично. Несмотря на преследовавшие его суставные боли, Николай Кириллович не давал себе отдыху. Он вникал во всё, и, казалось, ничего не могло укрыться от его острого, зоркого глаза. Мужики побаивались его, но уважали. За отсутствие барства, за то, что работал не менее их, не гнушаясь подчас и тяжёлого, «небарского» труда, за ум и справедливость. Никто из мужиков не смел обманывать отца, точно зная, что никакой подвох от него не укроется. И что сам он никогда не удержит причитающегося им по праву.
Крестьянам было, за что уважать отца. Это его трудами появилась в Глинском школа. Поддержание самого здания, его отопление и прочие хозяйственные заботы взяли на себя по уговору сами мужики, а жалование учителю положил Николай Кириллович.
Так, в Глинском появился молодой, приятной наружности, интеллигентный человек. Алексей Васильевич Надёжин. Он часто бывал в доме, где всегда был званым гостем. Его подвижный ум, начитанность, остроумие и природное благородство манер располагали к нему. Родион любил, когда Алексей Васильевич приходил в гости. Любил слушать его всегда содержательные, яркие рассказы. Молодой учитель был не лишён литературного таланта. Мать не раз спрашивала его, не пишет ли он тайком. Алексей Васильевич отвечал отрицательно, но при этом отчего-то смущался…
Надёжин любил музыку, а потому никогда не пропускал музыкальных вечеров, которые регулярно устраивала мать. Родион удивлялся тому, как отрешённо слушал он играемые матерью или тётей Мари композиции. Не шевелясь. Как будто и не дыша. Весь обратившись в слух. Сам Родион, к стыду своему, слушал музыку лишь из вежливости. Не обладая слухом вовсе, он не мог постичь её красоты и скучал в ожидании окончания «концерта», после которого неизменно следовал чай и долгие беседы, слушать которые было куда интереснее музыкальных этюдов…
Однажды за рояль по многочисленным просьбам сел и сам Алексей Васильевич. Оказалось, что он не только прекрасно играл, но и обладал замечательно красивым, бархатным голосом. Оценить исполнение Родя, впрочем, порядочно не мог, зато поразился теперь уже тому, как внимала романсу тётя Мари… Словно вся душа её переворачивалась в этот момент. Никто кроме Роди не заметил тогда этого, а он потом не раз вспоминал лицо тётки и смутно догадывался, отчего оно было таким.
Вскоре тётя Мари покинула имение, отправившись сестрой милосердия на Русско-Японскую войну. В Глинское она возвратилась лишь годы спустя и устроила здесь медицинский пункт для крестьян, работая в нём ежедневно сама. Так, с её помощью была разрешена ещё одна задача: налаживание медицинской помощи. Теперь людям не нужно было, кроме как в случаях тяжких недугов, требующих операций и нахождения в стационаре, ездить в отдалённую больницу.
Неудивительно, что пользующийся заслуженным авторитетом Николай Кириллович был избран предводителем уездного дворянства. Работы прибавилось. Теперь совсем мало оставалось времени у него на музыкальные вечера и прочие радости. Вечно он был погружён в свои заботы, никогда не оставаясь праздным. И в годы эти, вне дома проведённые, так и вспоминался: сосредоточенный, хмурый, сидящий в небольшом, немного темноватом кабинете с постукивающими старинными английскими часами с боем, за массивным тёмного дерева столом со множеством ящиков… Перед ним расходная книга, какие-то бумаги. И что-то пишет он, и нервно передёргивает плечами, случись кому-то отвлечь его. И морщится время от времени от редко покидающих его болей.
Иногда, впрочем, обычная отцовская суровость и собранность смягчалась и рассеивалась. В те редкие часы, когда он позволял себе отдых. Например, на охоте. Или за вечерней беседой и шахматной партией, которую приходил с ним разделить Алексей Васильевич.
Охоту отец любил всегда. Большой собачей, он держал в доме по пять-шесть собак, в обращении с которыми был куда нежнее, чем с людьми. С этими псами он верхом отправлялся в лес два-три раза в год. Сразу словно молодея, обретая юношескую удаль. Брал с собой и сыновей. Однажды уехали втроём далеко – ночевали в чистом поле, под открытым небом. И отец, преображённый вольным воздухом, на который вырвался от своих нескончаемых дел, рассказывал о своих кадетских и юнкерских годах. Когда бы всегда он был таким! Но, увы, весёлого, удалого охотника вновь сменял «помещик Костанжогло»…
Гораздо чаще отца вспоминалась мать. Полная противоположность мужу, она вся была – радость жизни. Лето её. В ней, матери четырёх детей, жило что-то детски-весёлое, лёгкое. Может, поэтому она так редко бранила детей, понимая их и живо откликаясь на различные придумки. Когда отец уезжал, Дом наполнялся весельем и безудержными играми. И никто не одёргивал, не требовал порядка, не подавлял чеканными командами. Отец был воплощённым порядком. Законом. Мать – любовью. Никогда ни на кого не повысила она голоса, ко всем была участлива и добра. И этой любовью укрощала она даже самые сильные вспышки гнева Николая Кирилловича. Спасая от него тех, на кого этот гнев был обращён, и успокаивая, утишая его самого. Мать с детства являлась для Роди образом миротворицы. И её огорчённое лицо было для детей куда более серьёзной укоризной и наставлением, нежели гневные тирады отца.
Мать… Вот, она идёт по весеннему саду, утопающему в пене нежно-розовых и белых яблоневых соцветий… На ней лёгкое белое платье и ажурная белая же шаль, словно сотканная из цветочных лепестков. А в руках её ветка сирени. Она задумчива и чему-то тихо улыбается. И столько ласки, столько высокой, чистой красоты в её образе, что четырёхлетний Родя подбегает к ней, обнимает её ноги, прижимается щекой к шёлковому подолу. И, вот, он уже на руках её, и она кружит его, говоря что-то и целуя…
И отчего счастье, словно хищник добычу, всегда подкарауливает беда? Та беда налетела нежданно, всех больнее ударив отца. Забрав у него главную надежду. Любимого старшего сына…
Митя заболел неожиданно и, несмотря на старания врачей, угас в один год. В этот год он должен был по воле отца поступать в кадетский корпус. Теперь Родиону надлежало заменить его. Мать не хотела расставаться с единственным оставшимся сыном, но Николай Кириллович, почерневший от горя, но не потерявший стальной твёрдости характера, уже принял решение. А решение отца являлось неоспоримым, как приговор высшей инстанции.
Так, в 1904 году Родион не без горечи покинул родной Дом. Отец сам отвёз будущего кадета в Москву, где жил его младший брат Константин. Дядю Котю отец не жаловал за богемный, оторванный от почвы образ жизни, который тот вёл. Дядя был известен, как большой ценитель искусств и литератор, поэт, писавший под псевдонимом довольно неплохие вирши. Он был своим человеком среди московских и столичных писателей, заядлым театралом. Ходили слухи о его бурном романе с некой артисткой, что особенно возмущало отца, видевшего в этом позор семьи. Немногим меньше возмущала его страсть брата к азартным играм. И всё же, несмотря на размолвки, приезжая в Москву, Николай Кириллович останавливался в просторной квартире брата на Большой Спасской.
Впервые переступив порог этой квартиры, Родя был поражён её убранством. В квартире преобладал восточный стиль. Ковры, подушки, оттоманки, всевозможные орнаменты и разные затейливые безделицы. Отец морщился, сквозь зубы ругая дядю мотом и пустоплясом. Сам дядя, кажется, вполне искренне радовался гостям.
Несмотря на столь рассеянный образ жизни и слабый характер, Константин Кириллович был весьма милым человеком. Высокий, плотный, с приятно округлым, холёным лицом, облачённый в длинный до пола восточный халат, он излучал довольство и безмятежность. Был весел, радушен и хлебосолен. Гостей тотчас водворили в лучшую комнату, расторопный лакей был послан за угощениями, и вскоре стол уже ломился от яств, к которым Николай Кириллович едва притронулся. За обедом дядя Котя говорил, не умолкая. О новостях культурной жизни обеих столиц, о том, как давно мечтает наведаться в Глинское, о том, какова была погода этой зимой в Париже… Обо всём-то знал этот бонвиван. Со всеми-то был знаком. А только делать что-либо сам не желал и не умел, находя удовольствие в прожигании жизни.
За неделю отец показал Роде главные московские достопримечательности: Кремль, Третьяковскую галерею, Симонов и Новодевичий монастыри, Воробьёвы горы… Большой театр, балет в котором смотрели из ложи…
– Карсавина! Богиня! – восторженно говорил дядя, готовый в ближайшем антракте бежать с огромным букетом роз к знаменитой танцовщице, гастролировавшей в те дни в Москве.
А отец всё морщился. То ли от приступов ревматизма, то ли от неумеренности восторгов по адресу «какой-то артистки»…
Родя был едва в себе от нахлынувших впечатлений. Москва поразила его своей красотой, пестротой, величием, сочетавшимся с домашностью, с чем-то глубоко родным. Никогда не видел он столь людных улиц, такого количества церквей, такой разнообразной публики. И года не хватит, казалось, чтобы все чудеса перевидать в этом чудном городе!
А, меж тем, неделя, положенная на знакомство с городом, пролетела, и отец повёз Родю в Первый Московский кадетский корпус, где ему предстояло держать вступительные экзамены.
Корпус, основанный фаворитом императрицы Екатерины Великой Зоричем, располагался в Лефортово, в Головинском дворце, перед которым зеленела чудная Анненгофская роща, вскоре безжалостно уничтоженная обрушившимся на Москву ураганом.
В дверях новоприбывших приветствовал старый швейцар в красной, украшенной гербами ливрее с многочисленными крестами и треуголке.
Отчего-то вдруг оробев, Родя вошёл следом за отцом в огромный, двухсветный вестибюль, в обе стороны из которого тянулись две широкие, мраморные лестницы, украшенные висевшими на стенах касками французских кирасир, захваченными в 1812 году. Пройдя в приёмную комнату, Родя стал с любопытством рассматривать писанные маслеными красками портреты царей и других высокопоставленных лиц. Кроме них стены украшали белые, мраморные доски с именами бывших кадет, получивших высшее боевое отличье – Орден св. Георгия Победоносца.
Всё в корпусе было исполнено величия минувших славных веков. И это величие само по себе заставляло подобраться, оставив за порогом детское озорство.
Вступительный экзамен по Закону Божьему, арифметике, русскому, французскому и немецкому языкам не был сложен, но отец серьёзно беспокоился, зная недостаточную подготовленность Роди, вечно отлынивавшего от занятий и предпочитавшего урокам игры с мальчишками. Сам же Родя относился к испытанию вполне беспечно, что ещё больше нервировало Николая Кирилловича. Однако же, всё разрешилось благополучно. До высоких баллов было, конечно, весьма далеко, но набранных всё же достало для поступления. Отец вздохнул с облегчением и впервые за прошедшее со смерти Мити время повеселел. Впереди был ещё целый месяц воли в родном Глинском, и в этот месяц Родя, не обращая внимания на родительский гнев, всецело отдавался играм и любимым романам, напрочь забыв о величественном корпусе. Отец, в конце концов, смирился:
– Ладно уж, тешься напоследок. В Корпусе-то тебя быстро порядку научат…
Пятнадцатого августа кадет Родя Аскольдов снова ступил в стены Корпуса, чтобы остаться в них на долгие семь лет. В первый же день он получил свою первую форму: мундир чёрного сукна с красным воротником и золотым галуном на нём, такого же сукна шинель с красными петлицами и брюки, кожаный лакированный пояс с медной бляхой, на которой был изображен государственный орёл, окруженный солнечным сиянием, и фуражку с красным околышем и черным верхом. Надев полученную амуницию, Родя окончательно почувствовал, что начинается совсем новый этап его жизни, что беззаботное детство осталось в прошлом.
Первое время Родя чувствовал себя в Корпусе крайне неуютно. Если с такими неудобствами, как огромная холодная спальня на тридцать человек с жёсткой кроватью и тонким одеялом, он легко мирился (к физическим лишениям надо привыкать, чтобы быть таким, как любимые герои), то вечная муштра и строгая дисциплина угнетали его. Ведь даже в мелочах не оставляли никакой свободы: руки ночью и то требовали держать поверх одеяла! А ещё эта барабанная дробь или вой сигнальной трубы, беззастенчиво прерывавший сладкий сон… И ведь по команде этой нужно было молниеносно вскочить и успеть до второго сигнала умыться, одеться, начистить до блеска сапоги и пуговицы… За малейшую неряшливость следовало наказание в виде стояния под лампой во время «перемен». Сколько бесценных минут было проведено под этой ненавистной лампой!
Привыкшему к вольной сельской жизни мальчику нелегко было мириться с бессмысленным, как ему казалось вначале, диктатом. Он отличался превосходной физической подготовкой, хорошей усидчивостью, замечательной находчивостью, но полную дисциплинированность не смогли привить ему даже семь лет кадетства. Офицер-воспитатель усмехался в усы:
– Вам бы, Аскольдов, в партизанский отряд, а не в кадеты!
Так чем худо? Денис Давыдов тоже партизаном был. А от сухого регулярства какая польза? Мертвечина и только!
Качества, сердившие педагогов, помогли Роде снискать большую любовь и уважение товарищей. В Корпусе наибольшим уважением неизменно пользовались кадеты, отличавшиеся физической силой и ловкостью. Если силой кое-кто и мог превзойти кадета Аскольдова, то уж в ловкости он мог дать фору любому. Слабосильных и жаловавшихся в Корпусе презирали, открыто недолюбливали «зубрил», примерно налегающих на науки, щёголей, любимцев начальства. Самым большим преступлением считалось выдать товарища, донести. За такое уличённому устраивали «тёмного»: набрасывали сзади шинель, били и разбегались, оставшись неузнанными.
Зато обмануть преподавателя считалось изрядным удальством. Поэтому дерзость и независимость Роди также принесли ему почёт в кругу друзей. Правда, его слава первого озорника служила ему худую службу, так как добрую половину совершавшихся в Корпусе проделок немедленно приписывали ему. Зачастую Родя знал подлинных виновников, но выдать товарищей было никак нельзя. И во имя товарищества утекали новые и новые минуты под лампой, терялись отпуска.
К счастью, не всё время в Корпусе было отнято занятиями. Оставались ещё прогулки и свободное время. Гуляли в дворцовом парке, упирающемся в Яузу, и прилегающим к дворцу большим плацам. Летом играли в лапту и городки, зимой катались на санках с высоких гор, построенных на берегу ближайшего пруда, ходили на лыжах, бегали на коньках.
А после прогулок желающие могли по выбору обучаться музыке и пенью, переплётному, столярному, токарному и другим ремёслам. Родя избрал ремесло столярное. Работа с деревом напоминала ему родное Глинское. К тому же выяснилось, что он обладает весьма недурными способностями резчика.
По субботам и в предпраздничные дни кадет, имевших родных или знакомых в городе, отпускали в отпуск. Родя отправлялся в эти дни либо к дяде Коте, либо вместе с другом Никитой Громушкиным – к его матушке Прасковье Касьяновне, жившей на знаменитой своими церквями Ивановской горке, аккурат на стыке Петропавловского переулка и Яузского бульвара. Прасковья Касьяновна сама пекла кулебяку или расстегаи, покупала им разных сластей: миндального печенья, фиников, винных ягод и пастилы, медовых пряников и конфет – и начинался пир горой. Иногда просто отправлялись в кондитерскую, либо ехали на Воробьёвы горы, любимое место гуляний москвичей. Сюда приходили семьями со своими самоварами, закуской, удобно устраивались на траве и проводили по целому дню. Под горой слышались песни, играла гармоника, водились хороводы.
Прасковья же Касьяновна вела мальчиков к Крынкину, где круглый год подавалась свежая зелень и клубника, вызревавшая в специальных теплицах. А к тому – артишоки, дыни, арбузы… Всё это диво выращивалось здесь же, на другом берегу Москвы-реки, на Пышкинских огородах, расположенных на богатых пойменных землях. Хозяин в белой черкеске лично встречал гостей при входе, а с ним – половые в белых же поддевках. Сама ресторация представляла собой большой деревянный терем, неуловимо напоминавший Роде родной дом. С террасы открывался прекрасный вид, полюбоваться на который можно было сквозь подзорные трубы и бинокли. Весело было наблюдать за гуляньями внизу по склону. Среди деревьев мелькали маленькие яркие фигурки, взлетали на качелях, играли в горелки и прятки… Прасковья Касьяновна непременно и сама спускалась по склону в лес, где мальчики могли вдоволь нарезвиться. А ещё при ресторане держались катера и моторные лодки, на которых можно было переправиться на другой берег и Болотную площадь. Поездки к Крынкину особенно полюбились Роде и Никите.
Прасковья Касьяновна была очень набожна, её хорошо знали во многих московских монастырях и храмах, встречали, как родную. Однажды, на пасхальной неделе, поехали в Кремль и, помолившись в Успенском соборе, поднялись на звонницу Ивана Великого.
У Роди захватило дух. Москва лежала перед ним как на ладони – где-то там, внизу. Шумливая, разноцветная, хлебосольная и тёплая – словно кустодиевская купчиха в цветастом полушалке… А кругом струилась небесная синева, разбавленная рыхлым пухом облаков. И хотелось взмыть в неё, и всю землю оглядеть с этой высоты! И ноги не держали уже, и, казалось, ещё миг – и оторвутся они от земли!