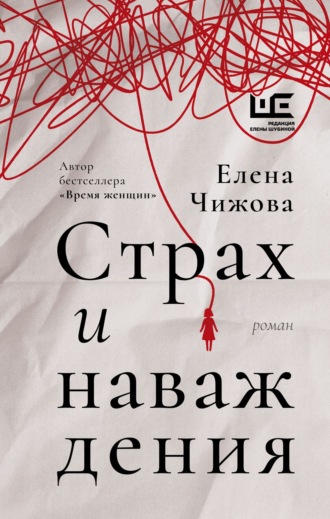
Елена Чижова
Страх и наваждения
Склоняясь к последней версии, я расположила ее посредине: на одинаковом расстоянии как от огульных отрицателей, так и от завсегдатаев панических сайтов; наделив изрядной долей здравого смысла – чего в те дни не хватало многим.
Одним словом, эта женщина мне нравилась. По-видимому, я ей тоже. Иначе не объяснить, по какой такой причине она из всей бесконечной череды покупателей выбрала меня.
Тем вечером – я уже готовилась ко сну, хотела лечь пораньше, чтобы утром, на свежую голову, дописать статью для журнала, над которой корпела уже вторую неделю; до пандемии такая работа заняла бы максимум дня три – надела ночную рубашку и вышла в кухню, проверить, не горит ли конфорка: в те тревожные весенние месяцы я взяла себе за правило перед сном проверять газ. Убедившись, что все конфорки благополучно выключены, я машинально открыла шкафчик и вспомнила, что не купила кофе. Ладно бы хлеб или молоко – но какая же работа без кофе!
Был поздний час, основной поток покупателей уже иссяк. Она сидела за кассой, по обыкновению спустив голубоватую санитарную маску под подбородок; ее крупные, изрезанные морщинами руки лежали на неширокой приступочке между монитором и денежным ящиком: казалось, глубоко о чем-то задумавшись, она забыла его закрыть. Я выложила кофейную пачку на ленту – тем самым отвлекая ее от мыслей, в которые она погрузилась, пользуясь отсутствием покупателей.
Понятия не имею, что ее к этому подвигло, может быть, мой старый плащ, который я накинула второпях, – но вместо того, чтобы произнести дежурную фразу: «Пакет? Товары по акции?» – она, запустив руку куда-то под кассу, предложила мне набор куриных крылышек. Помню, как она сказала:
– Восемьдесят процентов уценка. – И, смущенно улыбнувшись, объяснила, что взяла два набора для себя, но одной-де столько не съесть.
Дома, сорвав упаковку, я обнаружила, что курятина, которой она так щедро со мною поделилась, слегка подванивает, и, разумеется, выбросила куриный набор в помойку – но о покупке не пожалела: меня до глубины сердца тронула ее неожиданная забота.
С тех пор, заходя в магазин, я первым делом ищу глазами ее жесткий костистый профиль; крупные руки (последнее время моя кассирша работает в перчатках); узковатые, широко расставленные глаза: мне приятно видеть, как в этих усталых глазах вспыхивают искры узнавания, когда – рассчитавшись с очередным покупателем и произнеся заученное: «Всего доброго. Ждем вас снова» – она поднимает взгляд на меня.
В романе в магазин вошла моя героиня.
Вот она входит и видит знакомую кассиршу, сидящую за кассой – самой дальней от входной двери. С пустой корзинкой в руке она движется вдоль полок, внимательно и придирчиво разглядывая чайные пачки. Ей нужен именно чай, причем не рассыпной, а в пакетиках: кто знает, в каком ее поселят отеле (выбор отеля – прерогатива устроителей). Если повезет, у нее в номере будет электрический чайник. Вечером, когда, усталая, она вернется к себе в номер, можно сесть в кресло и выпить чашку чаю… Сигареты она спросит у кассы. Она думает: надо взять блок. В поездке столько не понадобится, но пусть останутся про запас. Подходя к кассе, она заранее улыбается. Ожидая, что знакомая кассирша улыбнется ей в ответ и они перекинутся парой доброжелательных фраз. Например, о погоде – о том, что в этом году выдалась не слишком холодная зима, да и лето не такое уж жаркое, во всяком случае, не сравнить с прошлым, когда те, кто оставались в городе, маялись от духоты; или о макаронах: ходят слухи, что макаронные изделия вот-вот подорожают.
Но взгляд, поднятый на нее, пуст – будто их разделяет не прозрачный экран (эффективное средство борьбы с коварным вирусом), а глухая кирпичная стена; вперясь глазами в эту стену, кассирша смотрит отрешенно, словно, пока они не виделись, на нее обрушилось какое-то страшное горе, чья-то безвременная смерть. Однако надо работать, обслуживать покупателей – для нее все они на одно лицо.
Героиня слегка растеряна. Скрывая свои истинные чувства, она рыскает глазами, отмечая форменную куртку, пошитую из хлопковой ткани; скрадывающую природную костистость тела, придающую телу не свойственную ему обтекаемость. И в то же время покорность неподъемному горю, которое эта несчастная женщина вынуждена поднять, положить на плечи и нести.
– Оплата наличными или по карте? – взгляд кассирши уже не пустой, а напряженный.
В смущении, ежась под колючим взглядом, героиня просит блок сигарет. Называет марку.
Не удосужившись заглянуть в металлический короб, где сетевые магазины обязаны держать сигареты, кассирша отвечает:
– Этих нету. – Вернее, буркает, глядя мимо, поверх ее головы.
– Пожалуйста, посмотрите там, – вежливо, но настойчиво (хотя настойчивость ей не свойственна) героиня указывает пальцем на короб над соседней неработающей кассой.
Кассирша неохотно встает, достает четыре пачки, возвращается на рабочее место и коротко объявляет:
– Это всё. Пробивать?
Героиня хочет попросить: пожалуйста, посмотрите там – и указать на самую дальнюю от входной двери кассу, но продавщица ее опережает:
– Зайдите завтра. Или на днях.
После этих слов ничего не остается, кроме как промямлить:
– Не могу, завтра я улетаю.
Пропустив объяснение мимо ушей, кассирша подтягивает повыше маску и, шевеля скрытыми под слоем складчатой синтетической ткани губами, равнодушно бросает:
– Этих пачек вам хватит. – После чего обращается к следующему покупателю, пожилому дядьке. Стоя в очереди за героиней, тот шумно вздыхает, выражая явное неудовольствие задержкой, случившейся по ее вине.
Героиня думает: командировка рассчитана на четыре дня; сигарет действительно хватит. Но кассирша – она-то откуда это знает?..
Мои мысли прервал звонок. Звонил телефон – мелодией дочери. Я решила не отвечать, продолжить работу, полчаса погоды не сделают, закончу и перезвоню.
Мелодия длилась. Отвечая на зов неизбывной материнской тревоги – а вдруг что-нибудь срочное? – я потянулась за телефоном. Но мелодия уже смолкла.
С тех пор, как дочь от меня ушла – переехала в съемную квартиру, прошло немногим больше года. Этого хватило, чтобы осознать: время – умелая акушерка, обрезающая пуповины. Все, что меня окружает, покрылось патиной пустоты. Пустота бездетной жизни отдает горечью, я глотаю ее с каждой ложкой супа, сваренного по привычке. Горечь – приправа к моей ежедневной трапезе: пряные травы ее молодого отчуждения вперемешку с перечной мятой моего одиночества. Теперь, когда она навещает меня от случая к случаю, мне трудно верить, что она – моя дочь. Порой, глядя на нее, я кажусь себе самозванкой. Я бы многое отдала, чтобы доказать себе и миру, что я – та самая женщина, которая ее родила.
Но дело не только в ней. Все последние недели я чувствовала смутную, безотчетную тревогу, которая накатывала приступами – накатит и отпустит. Первый случился в январе, ближе к концу новогодних праздников (на площади перед моим домом еще стояла искусственная елка, украшенная гирляндами и шарами; на самом крупном, закрепленном на высоте человеческого роста, чем-то красным вывели цифру: 2022). В один из таких тревожных дней, не придумав ничего лучшего, я сняла пятьдесят тысяч со своего рублевого счета. Сама не знаю зачем. Тем же вечером я возвращалась домой из театра – давали новый, но уже успевший нашуметь спектакль с участием знаменитой актрисы; ее нарочитая, на мой вкус, игра оставила меня равнодушной; зато весьма заинтересовала другая актриса, мне неизвестная, занятая в первом акте.
Подойдя к своей парадной, я приложила к входному устройству таблетку-ключик. Железная дверь запищала. Мне показалось, слишком громко. Я оглянулась, как беззащитный человек, которого подстерегает невидимая опасность: кто-то, кого я не заметила, притаился во тьме – под аркой или там, за гаражами… Спасаясь от незримой, словно разлитой в холодном воздухе, опасности, я рванула дверь на себя.
За моей спиной она затворилась почти бесшумно (сработал безотказный доводчик). Пересчитывая торопливыми шагами ступени, я вспомнила: в каком-то северном языке, кажется у эскимосов, существует сорок названий снега… А у нас? Есть ли в русском языке что-нибудь такое же – обыденное, привычное, ежедневное, но при всем при этом имеющее множество самых разных названий?..
С этой мыслью я вошла в лифт. Тот самый, новый, современный, который нам, сирым и убогим жильцам, достался от щедрот государства. Прежний, забранный в сетчатую клетку, двигался судорожными толчками – этот скользил ровно и бесшумно, как трамвай по рельсам. (В юности мне снился один и тот же сон: будто я захожу в лифт, нажимаю на кнопку, кабина приходит в движение – я теряю счет этажам; гулкий скрежет – удар! – сломив сопротивление ветхих деревянных стропил и железной кровли, лифтовая кабина вырывается в открытое небо… Всякий раз я просыпалась в холодном поту.)
С потолка, сквозь вентиляционную решетку тянуло слабым сквозняком – едва уловимый приток свежего воздуха не перебивал плотной духоты, стоявшей в замкнутом пространстве. Пытаясь расправить легкие, я сделала глубокий вдох – мой взгляд остановился на зеркале, прикрепленном к задней стенке лифтовой кабины. Ранним вечером, когда я уходила из дома, зеркало было целым. Сейчас по его поверхности бежали мелкие трещины – как по стеклу автомобиля, попавшего в аварию; в автомобильной промышленности такие стекла используют нарочно, чтобы выпавшими осколками водителю не изрезало лицо.
Вглядываясь в свое бегущее мелкими трещинками отражение, я подумала: происходит что-то неладное. Вот только с кем? Со мной или…
В следующий миг, когда я – мне казалось – подобралась к ответу, белые створки дрогнули и разошлись. Стоя в открытом проеме, я чувствовала себя моллюском, с которого сорвали раковину – мою последнюю защиту от невидимого, подступающего все ближе и ближе Зла.
Шорох за стеной; тихое, но внятное похрустывание – меня пугают и настораживают звуки. Даже привычные, как этот тихий, едва различимый хруст, исходящий от старинной иконы, которая висит в моем рабочем кабинете. Разумеется, я знаю, так хрустит сухое дерево. Знаю, но не могу ничего с собой поделать: эти вкрадчивые звуки, как нарочно, выступают вперед – на поверхность моего измученного сознания, словно надпись на стене: мене, текел, фарес – можно закрыть на них глаза: покрепче зажмуриться, делая вид, что этой надписи не существует; но нельзя не прочесть.
Чтобы перебить докучливые звуки, я приноровилась слушать аудиокниги. Понятия не имею, кто их записывает и потом выкладывает на ютуб. Если судить по многочисленным комментариям (время от времени я, от нечего делать, их почитывала, всякий раз зарекаясь и нарушая зарок), для кого-то эти – кстати сказать, вполне профессиональные записи – всего лишь развлечение в часы досуга или приятный фон, позволяющий скоротать домашние хлопоты; для меня они стали истинным спасением: неотъемлемой частью одинокой жизни, которую я вынуждена вести. Спасением и суровой необходимостью: с некоторых пор мне стало трудно читать. Ах, какое же это отвратительное чувство! – открываешь книгу, бежишь глазами по строкам и понимаешь, что тебе не сосредоточиться. С аудиозаписями этого и не требуется. Надо лечь и закрыть глаза – размеренные голоса чтецов (я предпочитаю мужские) сделают все сами.
Впрочем, и тут не все гладко. Какую книгу ни выберу, не могу дослушать до конца. На первых порах, когда только-только осваивалась, я думала: все дело в выборе – чем хвататься за первое попавшееся, надо поискать что-нибудь стоящее; авторов, чьими книгами я когда-то зачитывалась. Тем более что выбор велик. Но со временем, после множества неудачных попыток поняла – авторы, будь они хоть сильные, хоть слабые, не виноваты. То, что мне мешает, не дает спокойно слушать, таится не в книгах.
Свернувшись на диване калачиком, я погружалась в темную прохладу слов; глубокие и точные слова бодрят и в то же время утешают – дают надежду на благополучный исход усилий, которые мне приходится прилагать, чтобы смириться с жизнью… Я слушаю, я уже почти смирилась.
Это обыкновенно случалось ближе к середине – я чувствовала, как в глубине моей души возникает необъяснимый страх. Даже в тех нередких случаях, когда мне доподлинно известна судьба героев: бедный князь Мышкин закончит свои дни в дорогой швейцарской лечебнице; Иозеф Кнехт нырнет в глубокое озеро, питаемое ледниковой водой, откуда ему не суждено будет вынырнуть, – разумеется, я к этому готова, но у меня больше не осталось сил, чтобы вновь это пережить. Что уж говорить о неизвестных авторах! Здесь мой безотчетный страх принимал форму подозрения: а вдруг этот самый автор, которому я искренне и безоглядно доверилась, все испортит, не справится с сюжетом; еще один поворот событий – и все будет кончено… Не для автора и его героев. А для меня.
Сколько раз, пытаясь себя преодолеть, я старалась сделать над собой усилие; но все мои усилия приводили к обратному: те же самые слова, которые я, давая автору фору, наделяла глубоким смыслом, звенели у меня в ушах, как пустые консервные банки, словно кто-то (не автор – автор ни при чем), кто-то, чьего имени я не знаю, связал их крепко-накрепко веревкой и развесил на заборе. Заслышав такое пустозвонство, моя душа отлетала, как вспугнутая птица. Я поспешно выключала запись, так и не узнав, что будет с героями потом.
До вчерашнего дня мне казалось, будто книги, которые я не дослушала, – нерожденные дети. Есть такое понятие: «замершая беременность». Я мучила себя нелепым вопросом: беременность – но чья?
Возвращаясь к роману.
Фоном моего незаконченного романа был ковид. И одновременно его внутренним стержнем, на который я нанизывала характеры главных и второстепенных персонажей; их родственные и иные связи; принятые ими решения, основанные не столько на логике и опыте, сколько на нервных всплесках умственной активности, как бывает сплошь и рядом, – со всеми вытекающими последствиями, вплоть до роковых; и все это вперемешку с моими страхами – прежними и новыми, накопленными за это пагубное время, то ввергавшее нас в ступор, похожий на оцепенение, то, напротив, стремительное, слизывающее месяц как неделю, а неделю – как один день.
С упорством колченогого извозчика, хлещущего старую, вконец изработавшуюся лошадь, я охаживала свое хромое воображение. Пока однажды не набрела на мысль.
Случилось это поздним летом.
В тот день – вдыхая запахи осени, наступающей на пятки короткому северному лету: травы, вянущей вдоль обочин, духовитого подлеска, обманчиво сухого мха, у корней которого набухает влагой ожившая грибница, – я шла по размытой последними летними дождями лесной дороге и вспоминала медсестер, работающих в красных зонах. Их интервью изредка выкладывали на ютубе. Не сговариваясь, они рассказывали одну и ту же историю: пациент с восьмидесятипроцентным поражением легких с тобой разговаривает, просит поддернуть простыню или поправить съехавшую набок подушку – не осознавая, что умирает и через минуту-другую умрет.
Или через час, или к вечеру, или через сутки…
Чувствуя приближение того, что несведущие люди называют вдохновением, я села на ствол упавшего дерева; отрешенным, механическим жестом достала из пачки сигарету – и, распустив натянутые до предела вожжи, предоставила тексту писать самоё себя.
Собираясь в дорогу, моя героиня не догадывается, что заражена. (Тест на ковид, который, согласно действующим правилам, она прошла за 48 часов до вылета, дал отрицательный результат – на ранней стадии болезни такое бывает.)
Симптомы есть, но слабые: то руки задрожат, то на несколько мгновений спирает дыхание; то голова вдруг закружится; то кинет в жар, то в холод. Прислушиваясь к себе, героиня отмечает: что-то с ней не так. Но объясняет это предотъездной лихорадкой, с которой до пандемии она умела справляться; видно, потеряла навык. Словом, делает вид, что волноваться не о чем – стоит сесть в самолет, и все переможется.
Вот она спускается в магазин и в парадной встречает знакомую соседку; та смотрит на нее пустым невидящим взглядом. Словно не на нее, а сквозь. События, которые за этим следуют (история с почтовым конвертом; странное, необъяснимое поведение кассирши), только укрепляют ее смутные подозрения. Героиня пытается их развеять, не осознавая, что видит все в ином, смещенном свете, придающем всякому событию, предмету или разговору двойной, а то и тройной смысл; и дело не в этих женщинах (сами по себе они ничего не означают), а в том, что сквозь прорехи в живой обыденности, она уже различает, хотя и смутно, приметы «той» жизни, в существовании которой можно убедиться, приложив ухо к телефонной трубке.
Речь, разумеется, о стационарном телефоне, а не о современном, мобильном, который я достаю из сумки, чтобы позвонить дочери. И обнаруживаю непринятый вызов. Абонент «Наденька». Под этим уменьшительным именем скрывается моя институтская подруга. В последний раз мы виделись накануне пандемии, с тех пор только перезванивались.
– Можешь себе представить, я сломала зуб.
– Надеюсь, не передний? – я уточняю сочувственно. С передним пришлось бы тащиться к стоматологу. Верный способ подцепить злосчастный ковид.
– Слава богу, нет.
– А еще какие новости?
– Кроме зуба?.. – Подруга дышит в трубку. – Вроде никаких.
– Но это же хорошо? – Прижимая телефон к уху, я выхожу в прихожую. На верхней полке шкафа-купе прозябает мой синий, видавший виды чемодан – верный друг, с которым мы рука об руку, точнее, рука об ручку, объехали чуть ли не полмира. В памяти смартфона остались фотографии городов. Время от времени я их рассматривала. Внимательно, как в юности, когда, листая глянцевые, доставшиеся по случаю журналы, не могла поверить, что все эти лондоны, нью-йорки и парижи – не чья-то злая выдумка. Теперь, когда десятки городов, где я – если верить смартфону – побывала, слились в памяти, мне еще труднее в это поверить.
– Как посмотреть… Каждый сломанный зуб – шаг, приближающий меня к смерти, – подруга смеется заразительно.
– Не только тебя.
– А еще кого?
– Меня…
Моя подруга фыркает:
– И каким это образом мой сломанный зуб приближает тебя к смерти?
– Все в жизни связано.
– С моим зубом? – она переспрашивает заинтересованно.
Однажды Надя огорошила меня странным вопросом: «Как думаешь, есть ли жизнь после смерти?» Приняв ее вопрос за шутку, я отделалась чем-то несерьезным, вроде: умрем – узнаем. Но она и не думала шутить: «Когда умрем, будет поздно. Такие важные дела надо продумывать заранее». – «А то – что?» – «Как это – что! Представь, ты умерла. Вопрос: как понять, что ты уже умерла?» – «Зеркальце приложат, не знаю, пульс пощупают…» – я пожала плечами. – «Они-то пощупают, – Надя развернула шоколадную конфету, встала и отошла к книжному шкафу. Я ждала, что сейчас она предъявит мне какого-нибудь умника-философа – из тех, что раскалывают подобные вопросы, как орешки. Но она, положив конфету за щеку, вздохнула и сказала: – Не им, а тебе! Как тебе понять?..»
Сейчас, обсасывая ее вопрос, как приторную конфету, я стою у шкафа-купе, задрав голову, пытаясь вспомнить, когда я в последний раз доставала чемодан… В позапрошлом феврале. По интернету бродили слухи, но кто в здравом уме придает значение слухам: где мы, а где Китай… Это потом все стали говорить, что жизнь разделилась на «до» и «после».
Локдаун объявили в мае. На другой день, раздвинув портьеры, я выглянула в окно. То, что открылось глазам, меня изумило: пустая, безлюдная улица. Словно пандемия – не оккупант, захватывающий город (постепенно: дом за домом), а нейтронная бомба, которой нас пугали в советском детстве: гибнут только люди; дома, машины, деревья остаются в целости и сохранности.
Через неделю, когда схлынула первая волна ужаса, я вышла из дома – шла, вдыхая напряжение, разлитое в воздухе, стараясь ни к кому не приближаться. Не я одна. Редкие прохожие, завидев меня издалека, старались обойти стороной. Будто нас, жителей этого прекрасного города, поразило редкое психическое расстройство – навязчивый страх прикосновений, побуждающий шарахаться друг от друга; и по возвращении тщательно дезинфицировать руки. Бог мой, с какой поспешной готовностью мы прятались в скорлупу своих жилищ, пресекая все прежние, привычные, десятилетиями длившиеся связи – словно уже догадываясь, что пандемия создаст для нас новые, куда более прочные, неразрывные, когда каждый для каждого может стать основной причиной смерти. Создаст, но одновременно и подточит – как усердная мышь своими острыми зубками подтачивает старую деревяшку – ту, казалось бы, неразъемную связность жизни, когда одно событие вытекает из другого.
Репортажи из «красных зон» походили на вести с фронтов. В глазах бойцов, кто возвращались с переднего края, вспыхивали искры отчаянья. Их отчаянные крики кружили над городом, бились в наглухо занавешенные окна: не теряйте бдительности! Невидимый враг хитер и коварен! В те дни многим из нас казалось, будто мы влипли в историю, которую знаем по учебникам, по рассказам выживших очевидцев, по воспоминаниям родителей. Все, случившееся давно и с другими, повторялось, как в дурном сне: это долго не продлится, надо потерпеть – месяц, два, в крайнем случае три; сомкнем ряды, сплотимся против маловеров, сеющих панику.
Кто мог знать, что не влипли, а влипаем…
Впрочем, бытовало и другое мнение. Не помню, кто из наших самых бойких, записных, спикеров первым запустил эту пластмассовую утку, заявив во всеуслышание, что пандемия есть не что иное, как ослабленный суррогат третьей мировой войны (нечто вроде прививки или вакцины, предотвращающей злокачественное течение болезни или, по меньшей мере, снимающей самые тяжкие ее последствия), – так или иначе, это парадоксальное суждение проникло в эфир, завоевав довольно существенное число сторонников, которые наперебой и на полном серьезе утверждали, что, поскольку прежний мировой порядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны, дал глубокую трещину, породив тем самым чертову тучу противоречий, не разрешимых дипломатическими средствами, – значит, новая война неизбежна, так уж лучше в форме пандемии, нежели в той, которую военные эксперты называют «горячей стадией». За зыбкими рассуждениями теплилась робкая надежда: дескать, еще легко отделались.
– Тебе хорошо, у тебя дочь. – Моя телефонная собеседница оставляет тему зуба, перейдя к более насущной: к невестке, с которой у них вечные терки. Жалуется с тем же пылом, с каким в молодые годы жаловалась на свекровь.
Давать советы личного характера не в моем характере. Но ради старой подруги я готова сделать исключение.
– Поставь себя на ее место.
– На чье?
– Ты же не хочешь превратиться в свою свекровь.
– Значит, я превращаюсь? – В ее голосе крепнет напряжение. То самое, разлитое в воздухе. Как в первые недели локдауна. – А ты? Ты во что превращаешься?
– Ни во что. – Я чувствую волну озноба, впрочем, не такую высокую, чтобы извиниться и завершить разговор. – Просто… схожу с ума.
Напряженная связующая нить ослабевает. В голосе, доносящемся из трубки, непритворное сочувствие; искреннее, озабоченное.
– Ты… это осознаешь?
Подоплека понятна: человек, если он и вправду сходит с ума, этого не осознает. Сам факт осознания свидетельствует о ментальном здоровье – по крайней мере, увеличивает шансы выздоровления.
– Мало того, наблюдаю за процессом.
Если она спросит: как наблюдаешь? – я отвечу: с растущим интересом.
Но вопрос поставлен иначе:
– Снаружи или изнутри?..
Зябкая волна нарастает – кажется, меня вот-вот захлестнет. Пытаясь справиться с неровным сбившимся дыханием, я открываю чемодан. Пустой изнутри, снаружи он покрыт слоем пыли…
Почему я не заметила этого раньше, когда снимала чемодан с полки?
Я думаю: не заметила – и что? Я не Юлий Цезарь, чтобы делать четыре дела сразу: разговаривать на отвлеченные темы, следить за дыханием, разбираться с бунтующим организмом, мечтать о глотке воды…
– У тебя что, воду отключили? – голос в трубке слабый, словно доносится издалека.
– Вчера.
Зачем я так сказала? Чтобы та, с кем я сейчас разговариваю (делая вид, будто это не я, а моя героиня) – чтобы Надя не подумала, будто я и вправду схожу с ума. Придется объяснять: дескать, это не я, я более или менее в порядке – что по нынешним временам уже немало. Учитывая все происходящее.
– И как ты с этим живешь?
Мне хочется спросить: а ты? Но я боюсь. Мы не виделись целых два года – кто знает, что она ответит.
– Не живу. Выживаю. – Я отвечаю уклончиво. Пусть думает, что мой ответ касается воды. Чистой, а не этой, ржавой, которая льется на наши головы. Наши бедные, несчастные головы…
– Ты звонила в аварийку? Если авария, пусть устраняют…
– А вдруг уже включили?
– Как это – вдруг? Погоди, а ты сейчас где?
– Дома, – в моем ответе сквозит неуверенность, но она этого не слышит. Говорит: – Так пойди и проверь.
Я иду в кухню. Открываю водопроводный кран – струя с шумом вырывается наружу. Словно это не кран, а водопад в глубине моей одинокой пещеры.
– Вот. Оказывается, все хорошо. Ты зря паниковала.
Мне хочется сказать: не зря. Но я говорю:
– Утром я улетаю.
– Куда?
Я мысленно листаю фотографии, хранящиеся в смартфоне. Наудачу выбираю одну. На меня смотрит сморщенная мордочка гаргульи. Этих каменных уродов рассаживали по стенам готических соборов с двоякой целью: отвести потоки дождевой воды от фундамента и одновременно показать всякой бесчинствующей нелюди, что в конечном счете случается с теми, кто сознательно вредит людям.
– Круто. А ты уже там бывала?
Видимо, да – иначе откуда взяться фотографиям. Хотя и это не доказательство: все снимки в моем смартфоне пустые, меня там нет. Терпеть не могу фоткаться на фоне достопримечательностей: типа, я и собор Парижской Богоматери; я – и Британский парламент; я – и Голова Кафки.
Вчера, идучи по городу, я вглядывалась в лица прохожих: о чем они думают – сейчас, когда гусеницы тяжелых танков ломают хрупкие асфальтовые дороги.
Сквозь прорехи в разорванном далекими взрывами пространстве виднелась огромная голова. Маленький чешский еврей, ставший великим писателем, смотрел на меня тяжелым напряженным взглядом: вспомни танки, рушащие брусчатку; вспомни мощеную площадь, где уже которое десятилетие пылает костер, пожравший тело человека, не пожелавшего смириться с властью оккупантов.
Человеческая память залита водой. Струи воды размывают самые прочные фундаменты. Что толку кивать на прошлое, когда мы не помним, что с нами было вчера.
Вчера я шла в парикмахерскую. Визит был запланирован заранее; если бы не отъезд, я бы все отменила: снявши голову, по волосам не плачут – тем более не делают модельных стрижек, предварительно закрасив седину.
С моей парикмахершей, молодой, приятной в общении женщиной, мы знакомы давно; садясь в кресло, мне не надо ничего объяснять. Все, что ей следует обо мне помнить, записано у нее в тетрадке: дата последнего посещения, номера профессиональных красителей, пропорции, в которых она их смешивает. Но я все равно говорю: у меня вьющиеся волосы, чтобы челка не подпрыгнула, надо стричь ее по сухому. В ответ она улыбается: не беспокойтесь, я все прекрасно помню.
Я тоже помню – все, что она успела о себе рассказать. Таганрог, где она родилась, город маленький, хорошую работу найти трудно; лет десять назад, обсудив и взвесив все «за» и «против», они с мужем решили перебираться в Петербург. На ее месте я сказала бы иначе. По-настоящему они никуда не перебрались: все, о чем она мне рассказывает, происходит не здесь, а там. Дом с огромным, вместительным погребом – полки, заставленные домашними заготовками; друзья, в чьей компании они с мужем проводят отпуск; наконец, старая отцовская «волга» – каждый год они путешествуют по Крыму; когда построили мост, стало намного легче. «А раньше?» Я плохо знаю географию. «Труднее», – она ответила, не задумываясь. Я спросила: «Почему?» В ответ она пожала плечами: дескать, кто не понимает, тому не объяснишь. Да я и не настаивала. Для разговоров в парикмахерской полно других тем.
Например, поговорить о ковиде. Тут между нами нет разногласий. Мы обе – сторонницы прививок, не понимаем упорства антиваксеров, готовых рисковать жизнью; и ладно бы, она говорит, своей. А то ведь ходят, сеют заразу! Вредят ни в чем не повинным людям.
Прошлой весной она посетовала на то, что приезжим не так-то просто поставить вакцину (я кивнула, стараясь не обращать внимания на это ее «поставить», царапнувшее мой ленинградский слух; в наших разговорах таких сомнительных словечек много: «закупиться» – вместо «купить»; «цéпочка» вместо «цепóчка». Я ее не поправляла. Раз и навсегда решив: с моей стороны – чистый снобизм).
Однажды, сверяясь со своей тетрадкой, она засмеялась и сказала: «Здесь – все мои клиенты. Хотите знать, как я вас записала?» Я кивнула. Скорее, из любопытства. «А вы не обидитесь?» – она бросила короткий, испытующий взгляд, еще больше подстегнув мое любопытство; а потом смущенно, я бы даже сказала, трогательно, промолвила: «Ирина-Ленинградка». Заглянув в ее тетрадку, я заметила, что оба слова написаны с прописной буквы. Такая вот странная история, из которой я сделала вывод: не только я – она тоже ко мне прислушивается; и что-то про себя отмечает.
В другой раз, когда я упомянула дачу, где обычно провожу лето, она поделилась своей мечтой. Сейчас они с мужем снимают квартиру, но однажды купят дом – здесь, в Ленинградской области; она уже сейчас знает, как все будет устроено. «И как же?» Она заметно оживилась, даже выключила фен. «Как у нас, в Таганроге: сад, огород. Насчет свинарника не знаю, пока что не решила, но курятник – обязательно. Знаете, дома мы всегда заготавливаем мясо. У меня отличный проверенный рецепт. Открываешь, не поверите: свежее; будто вчера зарезали».
Этот давний разговор я вспомнила, когда садилась в кресло: что, если она заговорит о курятнике, где выращивают несчастных цыплят – чтобы пустить под нож.
– Что-то не так? – она спросила, видно уловив что-то непривычное в моем упорном молчании; я не ответила, и она продолжила. – Вы сегодня… какая-то другая. У вас неприятности?
– Не знаю. Как-то всё… навалилось, – я сделала жест, словно забирая все, о чем в этот момент думала, в один большой замкнутый круг.
– Ах, так вы об этом! – она воскликнула облегченно. – Не беспокойтесь. Поверьте, уж я-то знаю. Два-три дня – и все закончится. Наши друзья, там, – она махнула рукой, по-видимому, в сторону Таганрога, где, я вспомнила, родился Чехов, – так вот, наши друзья, они офицеры. Неделю назад муж им звонил…
– Неделю? Но… – Я останавливаю себя: если кто-то нас услышит, может подумать, будто я под предлогом разговора выведываю страшные военные тайны.







