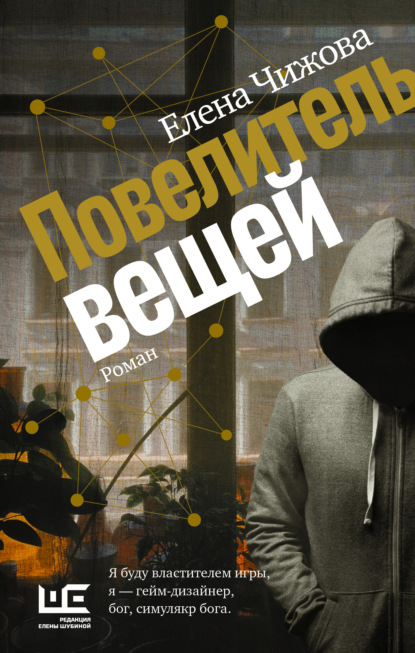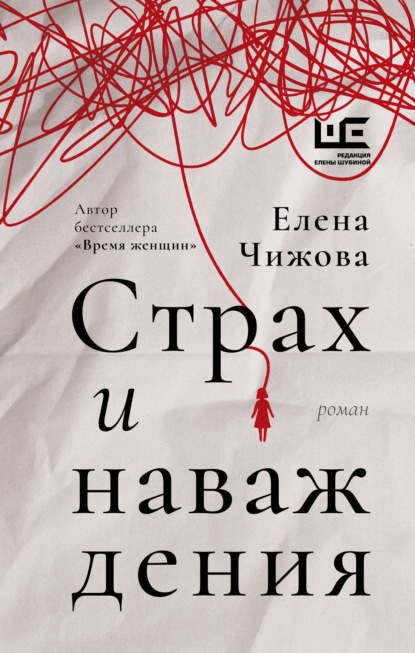
Полная версия:
Елена Семеновна Чижова Страх и наваждения
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Елена Семеновна Чижова
Страх и наваждения
Роман
© Чижова Е.С.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *«Те более или менее посторонние люди, с кем она в последний день накануне отлета встречалась взглядами, смотрели на нее странно, будто не на нее, а сквозь…»
Сейчас, когда, сидя в удобном эргономичном кресле, обращенном к летному полю, я читаю эти строки, их пустые отрешенные взгляды больше не кажутся мне странными. Да и какая, к черту, разница, как они на нее смотрели. Она ушла и больше не вернется. Называя вещи своими именами, она меня предала; бросила на произвол судьбы – на руинах жизни, в которой мы с нею были единым целым. Я и сейчас не уверена, где заканчивалась она и начиналась я…
Я закрываю тетрадь и смотрю на силуэты самолетов, чьи грустные носы и неверные контуры, едва различимые в сплошной завесе тумана, свидетельствуют о том, что международный аэропорт, где я неожиданно для себя оказалась, расположен не в какой-нибудь экзотической стране, вблизи экватора, а в наших северных широтах, где туман такая же обыденная примета прежней жизни, как порывы шквалистого ветра и затяжные дожди. Не знаю, в какой точке земли, над каким океаном собирались эти излишки влаги, но мне, привыкшей пользоваться климатическими гугл-картами, захватывающими огромные пространства, сопоставимые с частями света, хочется думать, что и сам аэропорт, и его окрестности окутаны тем же самым туманом, в котором я и мои случайные попутчики сколько-то часов назад вылетали из Петербурга, и пока наш самолет, посверкивая огоньками на крыльях, похожими на огни святого Эльма, парил над облаками, этот серый сплошной туман шел за нами следом. Стлался по земле.
Наш рейс откладывали дважды – сперва на полчаса, потом еще на четверть; могло создаться впечатление, будто наземные службы петербургского аэропорта – в тщетной надежде, что туман вот-вот рассеется, – тянут время, не желая рисковать. Но и потом, когда мелодичный женский голос пригласил нас на посадку, – даже тогда у меня не было уверенности, что это решение окончательное; и что в самый последний момент его не отзовут.
Острое чувство ненадежности исчезло, как только наш самолет, разорвав густую завесу тумана, вырвался в высокие слои атмосферы, где никогда не заходит солнце. Девушка, сидящая справа от меня, зажмурилась и попросила опустить пластмассовую шторку. Я сделала это неохотно, с трудом оторвав глаза от сияющих, точно снежная целина, облаков. Восхитительное зрелище, от которого я отвыкла за эти годы, проведенные в четырех стенах и пустых надеждах, превозмогая то, что казалось невыносимо тяжким испытанием; мы еще не догадывались, что нам вскорости предстоит…
Когда смотришь сквозь стекло, серая пелена тумана кажется свинцовой. Мои веки тяжелеют, наливаясь свинцом.
Под веками бегут косули. Приминая высокую сухую траву, грациозные животные несутся по саванне. Их преследуют хищники, желтые гривастые львы – выхватывают, рвут зубами самых слабых, больных, отстающих. Не обращая внимания на предсмертные хрипы сородичей, стадо утекает за горизонт, куда стремительно закатывается горячее африканское солнце.
Образы, вырастающие в садах дремоты в туманностях полусна, – не поддаются разумным объяснениям. Можно только гадать, в какой из потаенных извилин они хранятся до поры до времени, чтобы однажды, улучив момент, вырваться наружу – иллюстрацией какой-нибудь нехитрой мысли, с которой ваш истощенный разум не желает мириться…
Я вздрагиваю и открываю глаза.
Транзитная зона заметно опустела. Для кого-то нашли подходящий стыковочный рейс; кого-то отправили в гостиницу; кому-то, вроде меня, не повезло. Но волноваться по этому поводу не стоит. Рано или поздно нас всех отправят по назначению.
Впрочем, кто я такая, чтобы рассуждать о назначениях. Я не врач; не мне, глядя свысока, судить о болезнях и их последствиях. Мое дело – описать симптомы. По возможности точно и подробно, ничего не упуская. С назначениями пусть разбираются врачи.
Начало пути
В прежней жизни я писала новый роман. По утрам, садясь за письменный стол, как могла, старалась сосредоточиться. Перебирая слова, строила осмысленные фразы в надежде, что все вот-вот срастется и я смогу наконец вырваться, взлететь, сбросить цепи дремоты, туманящей сознание, – быть может, вследствие перенесенного на ногах заболевания, коронавирусного или другого, неясной этиологии.
Не я одна – многие, кто, подобно мне, не чувствовали почвы под ногами, грешили на ковид. Жалуясь друг другу, мы сходились на том, что прежде с нами такого не бывало, когда с самого утра наваливается свинцовая тяжесть и такая в голове пустота, словно что-то внутри разладилось, сломалось и всякий, даже самый пустяшный, разговор соскальзывал на какие-нибудь порошки или пилюли, придающие новых сил, восстанавливающие кровоснабжение головного мозга так же, как рано или поздно восстановятся нарушенные связи, которые эта гадкая зараза, захватившая наш некогда безопасный мир, свела к цветным квадратикам в зуме или в скайпе; впрочем, и на том спасибо – всё лучше, чем сидеть над раскрытой общей тетрадью, вперившись глазами в пустоту. Завершая очередной сеанс связи, мы нежно улыбались и кивали друг другу, лишь бы не думать о том, сколько жизненных сил потрачено впустую; придется их восстанавливать, лежа на диване, смежив усталые веки.
Первые черновые наброски я сделала еще летом, когда почти безвыездно торчала на даче, наезжая в городскую квартиру от случая к случаю – проверить, все ли в порядке, и полить цветы. Работа, если это можно назвать работой, двигалась черепашьими темпами. Я путалась в сюжетных линиях, как птица в расставленных невесть кем силках, пока к исходу лета, исписав добрую половину общей тетради, не поняла: все, что я из себя выжала, никуда не годится, – но утешала себя тем, что работаю-де вполсилы; и что по-настоящему примусь за дело осенью, когда закрою дачный сезон и окончательно переберусь в город.
В последней декаде августа летняя волна заражений вышла на плато, а поскольку признаков новой волны вроде бы не наблюдалось, многие, в том числе руководители культурных институций, расценили это не как передышку между старым и новым штаммами, а как площадку для активных действий – самое подходящее время для возобновления очных контактов, прерванных двумя годами порядком надоевшего затворничества. В первых числах сентября, проверяя электронную почту, я обнаружила приглашение на международную научно-практическую конференцию, которую устраивал один известный и уважаемый швейцарский университет. Тема панели, куда меня приглашали в качестве одного из спикеров, формулировалась примерно так: «Образы и нарративы первого постсоветского десятилетия в литературе и культуре». Но как стало ясно из письма, речь должна была идти не только и не столько о «феномене девяностых», о котором по прошествии лет можно говорить как о чем-то, что осталось в прошлом. Организаторы конференции надеялись, что разговор захватит широкий круг вопросов, в том числе о трансформации наших прежних представлений о себе и о времени и среди прочего об итогах, быть может, промежуточных, «к коим ваша страна (имелась в виду Россия) пришла за три прошедших десятилетия»; и среди прочего о том, что, по мнению приглашенных спикеров, нас ждет впереди.
В конце письма особо оговаривалось, что приглашение носит предварительный характер. Организаторы просят прощения, что не могут сообщить предполагаемым участникам точные даты – к сожалению, это зависит не от них, а от эпидемиологической обстановки, которая сложится после Рождества и Нового года. Ориентировочно – февраль-март.
Надо ли говорить, с какой охотой я откликнулась, отнесясь к будущей поездке как к своего рода обещанию: еще немного, и жизнь мало-помалу наладится, вернется в накатанную колею.
Сейчас, когда все обещания смяты руками отъявленных безумцев и брошены в мусорную корзину, мне странно вспоминать о том робком всплеске надежды, с коим я, отложив общую тетрадь с летними черновиками, начинала все заново, взяв за исходную точку это неожиданное приглашение и повернув дело так, будто его получила не я, а моя безымянная героиня, для которой – в продолжение бесконечно долгого и, в известном смысле, сумбурного лета – я не удосужилась подобрать подходящего имени, отделываясь безличным местоимением: она.
Чтобы не потеряться во времени и внести толику определенности в развитие сюжета, заключив его в более или менее строгие рамки, я назначила точные даты будущей конференции: 24–28 февраля.
Миновал сентябрь, за ним октябрь… Организаторы молчали. Я было уже решила, что поездка отменяется. Но в середине ноября пришло второе электронное письмо, где сообщалось, что – после некоторых колебаний, связанных с появлением очередного и, как полагают вирусологи, еще более агрессивного штамма, – руководство университета приняло решение не менять своих прежних планов. Подтверждая летнее приглашение, организаторы конференции называли точные даты: с 27 февраля по 2 марта.
Шенгенскую визу – взамен просроченной – я начала оформлять в декабре. В отличие от доковидных лет, это потребовало немалых усилий. Теперь, вдобавок к прежней процедуре, заявителю настоятельно предлагалось заручиться согласием посольских чиновников на подачу документов и их же разрешением на въезд в страну. По счастью, переписку с Москвой брали на себя организаторы.
Эти хлопоты съели несколько дополнительных дней.
Получив положительный ответ, я, по совету знающих людей, немедля записалась на прием в швейцарское консульство, заполнив анкету на сайте их визового центра, и всю следующую неделю собирала всевозможные выписки и справки, доказывающие мою состоятельность, в том числе финансовую. Одновременно с этим я набрасывала тезисы своего будущего доклада и продолжала работу над романом, сделав вид, будто бюрократическими хлопотами занята не я, а моя героиня.
Паспорта с действующими шенгенскими визами нам выдали в один и тот же день, 9 января. Для нас, бывших советских школьников, 9 января 1905 года – памятная дата: разгон мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, ныне Государственному Эрмитажу, с целью вручить государю-императору коллективную петицию, где наряду с экономическими содержался ряд политических требований, в частности народного представительства в органах власти. Оно-то и вывело впечатлительного Николая Второго из себя, послужив достаточным поводом к тому, чтобы вызвать войска. Впоследствии это январское воскресенье назовут Кровавым. Впрочем, как и самого императора: в среде продвинутых петербургских рабочих он заработал презрительную кличку Николашка Кровавый.
Эти исторические реминисценции, отзвуки давно минувших дней, мелькали в моей памяти, когда тем же вечером, связавшись с организаторами по вотсапу, я отчиталась, что самый трудный этап пройден; и теперь можно смело бронировать и выкупать авиабилеты. В ответной записке организаторы обещали, что займутся этим в ближайшее время, хотя особой срочности нет: в условиях день ото дня нарастающей ковидной волны самолеты летают полупустыми. Словом, с билетами проблем не будет. Далее следовали заверения в том, что они внимательно мониторят ситуацию.
В ответ я послала свой любимый эмодзи. Круглую рожицу с моноклем на правом глазу.
Следующее письмо, в котором мне на выбор предлагалось несколько маршрутов, упало на мою почту в двадцатых числах января. Я выбрала самый подходящий (со стыковкой во Франкфурте) и уже собралась было ответить, когда заметила, что в билете стоит неправильная дата: 26 февраля.
Недоумевая, почему не 23-го, я сверилась с ежедневником и обнаружила, что ошибка, если это можно назвать ошибкой, случилась у меня в голове: за всеми визовыми заморочками я совершенно упустила из виду, что 23-го вылетаю не я, а моя героиня; у меня мелькнула мысль: может быть, исправить? Но, сочтя расхождение в три дня несущественным, решила вернуться к отложенному на время роману – перенеслась в недалекое, но теперь вполне обозримое будущее, где, заканчивая последние предотъездные приготовления, моя героиня спускается в ближайший к дому магазин, чтобы купить сигарет и несколько пакетиков растворимого кофе – в первый вечер в незнакомом городе она (в этом мы совпадаем) не любит никуда выходить.
Спонтанное решение – но именно оно, как это часто бывает, расколдовало стоявший как вкопанный сюжет: в парадной, спускаясь с лестницы, она встречает соседку, с которой я лет тридцать, а то и больше живу в одном многоквартирном доме, старом, еще дореволюционной постройки. Почему именно ее, а не другую? Ответ прост: с этой скромной пожилой женщиной меня связывают особые отношения. Говоря коротко – спаренный телефон.
Во времена всеобщей телефонизации это техническое ухищрение – когда двум абонентам, обыкновенно живущим по соседству, присваивают два телефонных номера, подключенных к районной подстанции через единый канал связи, – может показаться нелепым. Но в условиях тотального дефицита это было подлинным и несомненным спасением, долгожданной наградой за годы ожидания в очередях к уличным кабинам (в просторечии – будкам), к которым мы, рядовые горожане, лишенные индивидуальных средств связи, устремлялись в любое время и во всякую погоду, едва возникала потребность позвонить.
Пожалуй, главное неудобство – впрочем, выбирая между промерзшей будкой и мягким домашним креслом, мы охотно с ним мирились – заключалось в вечной неопределенности: когда один абонент разговаривал, у другого в телефонной трубке стояла тишина. Однако, не мертвая, а живая. И вполне ощутимая: вслушавшись, можно было уловить слабые признаки какой-то другой жизни – не соседской, а той, что протекает в иной, параллельной реальности; и которую следует иметь в виду не потому, что тебя подслушивают (ты же в это время молчишь, разговаривают соседи), а потому, что «тот», параллельный мир существует; в чем легко убедиться, приложив трубку к уху.
Бывали дни, когда, заслышав характерное шуршание и легкое пощелкивание, я нарочно не вешала трубку; мне чудилось, что пространство, разделяющее миры, проницаемо. Во всяком случае, с «той», оборотной стороны. Похожее чувство я испытывала в ранней юности, когда – листая иностранные глянцевые журналы, рассматривая фотографии чужих городов – не могла отделаться от мысли, что все эти лондоны, нью-йорки и парижи существуют по «ту» сторону осязаемой реальности.
Впрочем, были и второстепенные неудобства – что в иных случаях грозило закончиться скандалом. Предположим, вы забыли положить трубку; или элементарно заболтались. Через час, а то и раньше ждите звонка в дверь – с просьбой: проверить, что там с телефоном, – и вежливыми оговорками: если бы не срочная необходимость позвонить в поликлинику (или на почту, или дочери), я бы вас не побеспокоила… Виновата, за редкими исключениями, всегда была я, зависавшая в интернете: в это трудно поверить, но в те времена его подключали через стационарный телефон. И все же, несмотря на все шероховатости, мы с соседкой сохранили добрые отношения (тем более что наши телефоны давно, лет двадцать как, разомкнуты). Случайно встретившись на лестнице, мы киваем друг другу и улыбаемся, словно между нами сохранилась виртуальная связь; такая же неразрывная, как между мной и моей героиней…
Впрочем, есть кое-что еще. Боюсь, это тоже покажется странным, но эта скромная худенькая женщина в драповом демисезонном пальтишке, купленном в ленинградском универмаге или пошитом лет сорок назад в ателье не самого высшего разбора, с синтетическим платочком, повязанным вокруг шеи, – моя последняя связь с исчезнувшим, канувшим в Лету прошлым. Я имею в виду запах ее духов.
Мой бывший муж говорил, что по природе я – нюхач. Дурацкое слово, но, если не придираться к словам, в сущности, он прав. Я и сейчас чувствую запах ее духов, дешевых и, на мой взгляд, немного приторных, – который стелется за ней подобием шлейфа, расшитого поддельными драгоценными камнями. Когда-то эти польские духи – флакончики с золочеными винтовыми пробками – продавались в каждой уважающей себя галантерее. И даже считались модными, вплоть до появления в продаже настоящих, французских. По-русски они назывались «Быть может…». Обнадеживающее многоточие, которое каждая советская девушка могла восполнить по своему разумению. Понятия не имею, где и кем эта деликатная и в меру наивная женщина работала. Невидимкам вроде нее подходят незаметные профессии. Скажем, учетчицы на производстве. Впрочем, не удивлюсь, если она ни дня не работала, посвятив себя мужу (который давно умер) и дочери – женщине средних лет: время от времени та всплывает где-то на заднем плане. Мать и дочь разительно похожи: тот же узковатый разрез глаз, та же стеснительная улыбка с примесью растерянности; то же смирение во взоре: их общая покорность жизни и судьбе. Внуков я не видела ни разу. Понятия не имею, существуют ли они вообще.
Лишь однажды я застала на ее лице нечто совсем иное: выражение неподдельного восторга. Трогательное, едва ли не младенческое. Дай бог памяти, кажется, в середине нулевых, когда – после долгих хождений по инстанциям и обивания начальственных порогов – нас, вернее, нашу парадную включили в городскую программу по замене лифтов. К тому времени наш старый, скрипучий лифт, забранный в металлическую сетку и прослуживший без малого полвека, представлял собой реальную угрозу. По правилам технической безопасности его полагалось признать непригодным к эксплуатации еще лет десять назад. На собрании жильцов представитель компании-подрядчика клятвенно обещал, что они уложатся в два, максимум три месяца, но обещания не исполнил. Работы – демонтаж лифтовой кабины и прежней, старинного образца, шахты, за которым последовал вывоз строительного мусора, долгое ожидание стеклянных панелей и все прочее – растянулись на полгода. Все это время мы ходили пешком. Как-то раз, поднимаясь по лестнице, я увидела соседку. В шаге от пустого проема шахты, забитого крест-накрест досками, она стояла, не замечая меня, молитвенно сложив руки; восторг, написанный на ее лице, сопровождался жарким – и одновременно жалким – лепетом: «Спасибо… Спасибо нашему государству, уж так о нас позаботилось…» Я прошла мимо на цыпочках. Побоялась напугать.
На этот раз мимо прошла она – скользнула пустым, невидящим взглядом. Если бы не запах духов, моя героиня могла бы подумать, что в полумраке обозналась; или списать такое небрежение на ковидные маски – но в том-то и дело, что маски были приспущены.
Признаться, героиню это задело. Случись такое во дворе или на улице… Но здесь, в парадной… Чтобы не выдать своего недоумения, она не стала оборачиваться. Однако замедлила шаги – быть может, в надежде, что соседка спохватится и исправит допущенную оплошность: сюжетный ход, позволяющий объяснить причину, по которой моей героине – за предотъездными хлопотами – пришло бы в голову заглянуть в почтовый ящик; и одновременно создающий «точки роста», своего рода стволовые клетки будущего повествования, скрытые до поры до времени от глаз читателя, даже самого проницательного.
В глубине почтового ящика белел листок. Маленький, меньше квитанции на оплату ЖКХ; она приняла его за флаер – приглашение на очередную распродажу постельного белья или таможенного конфиската; время от времени их разносят по почтовым ящикам; бог знает, кто на это клюет! Как бы то ни было, она его достала и поняла, что ошиблась: не флаер, а квиток извещения. Ничего срочного – заказное письмо.
До пандемии такие извещения приходили довольно часто, с каждым на почту не набегаешься; я держу их в прихожей, в специальной пластмассовой коробочке вместе с прочими квитанциями.
Прислушиваясь к тихому гудению лифта, увозившего соседку, она сунула его в карман небрежно накинутой куртки. Но, подходя к магазину, почувствовала смутную тревогу – словно это не бланк, заполненный почтовым служащим, а нечто иное, опасное. Жгущее карман. Тревога нарастала; стоя посреди тротуара, героиня слушала ее жаркий шепот: лучше выяснить сразу, тем более что почтовое отделение рядом, буквально в двух кварталах от дома. Сдавшись на милость тревоги-победительницы, она решительно развернулась и пошла торопливым шагом, почти бегом.
В обшарпанном зальце людей было не много. Дожидаясь своей очереди, она старалась не давать воли трусливым мыслям. Казалось, тревога, снедавшая ее, утихла. Во всяком случае, больше не шуршала в ушах.
Подойдя, наконец, к окошку, за которым сидела усталая женщина-почтовичка, героиня протянула ей квиток и тут только вспомнила, что не заполнила оборотную сторону, куда должна внести паспортные данные, поставить число и подпись.
По правде говоря, со мной такое случается. Увы, я частенько пренебрегаю этой святой, с точки зрения почтовых служащих, обязанностью. Обычно, заметив мою оплошность, почтовичка – я знаю ее не первый год – приходит в раздражение, нарочито-картинным жестом сует квиток обратно в окошко; а я, бормоча извинения, старательно заполняю пустые графы.
В романе, над которым я, терзая свой бедный, затуманившийся разум, упорно работала, все было не так.
Подняв глаза от старенького, давно исчерпавшего свои жизненные сроки компьютера, она скользнула по моей героине пустым невидящим взглядом и, держа в руке незаполненный квиток (другой рукой подхватывая что-то темно-красное, шерстяное, чем почтовые служащие, спасаясь от сквозняков, имеют обыкновение обматывать свои натруженные поясницы), – задумчиво, я бы даже сказала, отрешенно, углубилась в почтовые дебри, заставленные от пола до потолка посылочными коробками. Откуда – минуту спустя – вышла с тем же отсутствующим выражением лица; и белым, слегка помятым, конвертом.
Не знаю, что моя героиня ожидала в нем найти, когда, не удосужившись прочесть адрес отправителя, торопливо, дрожащими пальцами вскрывала конверт…
Так или иначе, она его вскрыла – и обнаружила два листка формата А4, скрепленные степлером: приглашение на бланке университета, где должна состояться ее – читай, моя – лекция (внизу против должности и фамилии стояла размашистая неразборчивая подпись), и распечатка авиабилета. Точнее, первый лист распечатки – с маршрутом «туда». Обратного билета не было. Грешным делом она подумала: скорей всего, по вине секретарши, мало ли, отвлеклась и забыла; с чувством облегчения отправила скрепленные листки в сумку и, заметив в дальнем углу картонную коробку для мусора, хотела выбросить конверт. Сделала шаг – и замерла.
Зачем? Зачем они отправили письмо, которое три недели назад она получила по электронной почте, распечатала и даже сколола желтой скрепкой: само приглашение и билет на самолет («туда» и «обратно»). Неужто непонятно, что такая излишняя предупредительность только вызовет ее раздражение: за каким чертом она должна тащиться на почту накануне отлета, когда каждый час на счету!.. Быть может, устроители конференции хотели что-то этим сказать? Или намекнуть?.. Господи боже мой, – она воскликнула мысленно, – на что!
Не знаю, на кого она больше разозлилась, на них или на себя, – еще и ногой притопнула и решительно направилась к мусорной коробке… Но остановилась, пронзенная в высшей степени безумной мыслью: что, если кто-то – по утрам или в конце рабочего дня – проверяет мусор?Вдруг это неведомое лицо заинтересуется конвертом с иностранными марками, в правом нижнем углу которого латинскими буквами выведен адрес получателя. Ее домашний адрес…
Даже сейчас, когда я, подобно жене Лота, смотрю на это издалека, мне не объяснить, что мною руководило, когда, подбадривая себя тем, что гиперболизация – испытанный литературный прием, и преисполнившись нервным, истерическим вдохновением, я описывала растерянную женщину, которая стоит посреди почтового зальца, оцепенев от необъяснимого, накатившего на нее ужаса, и всерьез прикидывает, что ей делать с пустым конвертом: порвать на мелкие кусочки и бросить в мусор? Или, не привлекая лишнего внимания, забрать его с собой и сжечь?
С конвертом в руке, так и не найдя разумного решения, она вышла на улицу; и, поравнявшись с урной – не ближайшей, у входа в почтовое отделение, а той, что за углом, – уже было занесла руку, но, скованная необъяснимым, иррациональным страхом, не смогла разжать пальцев.
В надежде убедить себя, что причина страха, сковавшего мою героиню, вовсе не внутри, а снаружи, я заставила ее оглянуться; оглянуться, чтобы окинуть взглядом пустую улицу. Попытка рационализации ни к чему не привела. Вернее, стало только хуже: на глаза ей немедленно попался мужик в мешковатой синей куртке (как у почтовых служащих); глядя на его невразумительное, будто стертое ластиком лицо: бесцветные брови, полуприкрытые веки, нос, похожий на сырую картофелину, – она с картинной ясностью представила, как он, незаметный почтовый служащий, наделенныйособыми полномочиями, роется в мусорной коробке и, обнаружив злосчастный конверт, осторожно, чтобы не стереть свежие отпечатки ее дрожащих пальцев, вкладывает его в другой, побольше (мне представился коричневатый, из грубой оберточной бумаги); и относит подозрительную находку куда положено…