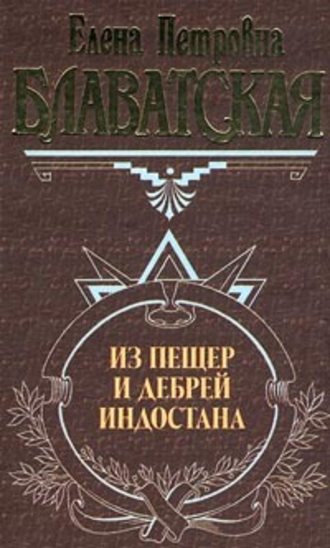
Елена Блаватская
Письма из пещер и дебрей Индостана
– Вы нам, кажется, советуете вернуться к идолопоклонству? – последовал иронически вопрос.
– Нисколько. Наши древние философы никогда не учили нас поклоняться идолам. К тому же и советовать вам это было бы напрасно, когда вы и без того воздаёте честь Вишну и Шиве и другим богам, до сих пор ещё не стерев их знаков с вашего лица… Если раз уж вы решили откинуть все обычаи старины, то почему же вы не расстаётесь и с этими языческими знаками?
– Это… это обычай касты… и не имеет ничего общего с верой в идолов, – бормотали переконфуженные пандиты.
– Как не имеет? Неужели вы забыли или никогда и не знали, что касты, по учению браминов, основаны самими богами; что боги первые подчиняются касте, и лица идолов украшаются ежедневно каждое знаками своей особенной секты? – неумолимо преследовал их такур.
– Но ведь и наши лучшие философы, – спорили пандиты, – вероятно, носили эти знаки… Если мы верим Дарвину и Геккелю, то, быть может, лишь потому, что эти учёные дополняют и окончательно развивают материалистические воззрения Капилы и Ману. Санкья Капилы, например, не менее атеистическая философия, нежели Геккелевская Антропогения.
– Вы, вероятно, забыли учение Капилы… Там, где Геккель видит силу и творчество в одной материи, Капила считает немыслимым что-либо приписывать пракрити[155] без содействия пуруши.[156] Он сравнивает их: «пракрити» с человеком со здоровыми ногами, но безглазого и безголового, а «пурушу» – с существом с глазами и мозгом, но без ног и движения. Для того чтобы мир мог развиваться и произвести наконец человека, пуруша (дух) должен был сесть на шею безголовой пракрити (материи), и только тогда она стала одарена сознанием жизни и помысла, а пуруша получил способность двигаться её ногами и заявить о своём существовании. Если пуруша бессилен в своих заявлениях и есть как бы одна не существующая абстракция без помощи объективной формы пракрити, то последняя и того хуже. Без содействия духа и его оживотворяющего влияния она лишь куча безжизненного навоза…
Пандиты наконец ушли, унося с собой полное убеждение в том, что мы невежественные ретрограды.
– Ну, хороша же наша учёная «юная Индия»! – говорил полковник. – У меня положительно разболелась голова от их бредней…
– За это благодарите англичан, – отвечал такур, – а с нас несправедливо взыскивать за чужие грехи.
XXVI

Дворец Тирумала
Мы снова в тёмных, душных вагонах. Чрез пять минут поезд с оглушающим грохотом промчит нас чрез длинный мост на Джумне, а чрез шесть часов мы будем в Канпуре, где Англо-Индия перевернула самую кровавую страницу своей истории. Нас провожают наши голоногие друзья пандиты в шитых золотом шалях; к ним присоединились несколько бенгальских бабу, в белоснежных кисейных тогах и все до одного простоволосые. Такур уехал с Нараяном накануне приготовит для нас такое место, куда ещё «никогда не ступала нога англичанина – и не ступит» (говорил он).
Все окна вагона с тёмно-зелёными стёклами, иначе пассажиры могли бы ослепнуть. Когда их спускают, то на их место подымаются подвижные ставни из кускуса на шарнирах. Вделанные по обе стороны оконных рам в стенах вагона гидравлические машины при каждом повороте колёс поезда обливают ставни водой, отчего они вертятся как вентиляторы в форточках и якобы пропускают рассекаемый поездом прохладный воздух. Но, увы! не отъехали мы и двух миль, как, пощупав ставень рукой, я чуть было не обожгла себе пальцы: вода на солнце сделалась совершенно горячей.
Накануне отъезда такур принёс нам пучок свежих листьев и предложил попробовать их. Вкусом они напоминали щавель, оставляя во рту прохладное, как после мяты, ощущение. Он взял с нас формальное обещание держать по маленькому кусочку этих листьев во рту во всё время переезда до Канпура и вообще днём во время жары. «Пока вы их будете жевать, как бетель, жара не будет иметь на вас вредного влияния (сказал он нам), и вам подчас даже будет слишком прохладно». И действительно, мы с тех пор будто не чувствовали зноя. Но нам не удалось уговорить У*** держать эту траву во рту, а мисс Б*** постоянно её выплёвывала, и оба чуть было не заболели. Искренно сожалею, что не имею права ни описать этого растения, ни послать его в Россию для исследования: индусы странный народ, и даже сам такур, лучший и благороднейший изо всех нам известных индусов и наш преданнейший друг, не свободен от этих странностей. Он как будто скрывает познания своей родины, особенно такие, на которые современная наука взирает как на нечто сказочное. На наши вопросы: почему бы ему не обогатить и западную науку лишним открытием, столь полезным в этой знойной стране, он как-то загадочно улыбнулся, заметив, что эта трава растёт только в Индии, да и то встречается весьма редко, и что всех де не спасёшь. «Наука на Западе богата и без наших крох, и вы, которые у нас всё взяли, оставьте нам хоть эти крохи», добавил он.
Канпур – место безо всякой истории и, пока англичане не избрали его в 1777 году передовым постом для своих гарнизонов в Индии, оно оставалось в полной неизвестности. Станция железной дороги находится за городом, и мы уже собирались взять две раззолоченные гари на волах, когда слуга такура объявил нам, что его маха сааб (великий господин) выслал нам европейский экипаж. Это был обитый ярко-пунцовым бархатом четырёхместный ландо, с двумя висевшими позади, как две крупные капли крови, саисами, в красных с золотом кафтанах и таких же тюрбанах, и с четырьмя такими же саисами в ливреях, долговязыми и быстроногими скороходами, бежавшими впереди ландо. Прибавьте к этому четырёх конных раджпутов, телохранителей Гулаб Лалл Синга, и вы поймёте, почему народ, встречаясь с нами, чуть не бросался на землю пред таким ярким величием.
Первое бросившееся нам в глаза строение была пустая, из тёмно-красного кирпича, огромная церковь без окон и дверей, с высокой остроконечной колокольней. Это здание в продолжение с лишком трёх недель служило слабой крепостью перерезанному впоследствии гарнизону, засевшему в нём по открытии мятежа 6 июня 1857 года.
Что было первой причиной этого кровавого мятежа? Европа читает реляции англичан и воображает, что читает историю. Ей даже и в голову не приходит спросить, есть ли между многими историями бунта хоть одна написанная верно и беспристрастно. Индусов никогда и никто не спрашивал, сколько в показаниях их завоевателей истины, которая из двух сторон виновна в больших преступлениях и кто совершил более зверских жестокостей: образованный ли, гуманный европеец, или дикий, доведённый до исступления азиат? По этому поводу мы собирали факты не от одного, а от многих, отнюдь не сговорившихся между собой людей. Их показания в главных чертах согласуются вполне, поэтому мы и верим им более, нежели всем «историям» мятежа 1857 года, взятым вместе. «Смазанные свиным салом патроны», причина бунта мусульман, и «ремни из коровьей кожи», возмутившие индусов, – не что иное как последняя, переполнившая сосуд горечи капля…
За несколько времени до мятежа, в Битхпуре, большом местечке на правом берегу Ганга, в 12 милях от Канпура, проживал индус из старинного и гордого рода, по имени Дундху Пунт, более известный под прозвищем Нана-Саиба. Он был усыновлённым наследником последнего «пейшвá«(царственного главы Махратской конфедерации) Баджи Рао и по смерти последнего получил в наследство все его поместья, сокровища и имения. Некоторые англичане, подобросовестнее, сознаются в том, что этот молодой человек, двоюродный брат махараджи Синдии, имел полное право ненавидеть правительство. Усыновлённый в 1832 году, ещё ребёнком, Нана-Саиб вырос в полной уверенности, что он наследует титул и положение «пейшвы» – честь, в сущности, благодаря англичанам, более номинальная, чем действительная, но всё же льстившая самолюбию того, кто имел на неё право. За пять лет до бунта старый Баджи Рао умер, а вслед за его смертью тогдашнее правительство лорда Дальгузи тотчас же и безо всякого повода объявило, что звание «пейшвы» упразднено и что принц Дунхду наследует лишь частные поместья и собственность отца. Вследствие этого получаемый старым раджей пенсион был прекращён; армии приказано не отдавать чести наследнику, и даже несколько старых, давно негодных артиллерийских орудий, великодушно оставленных свергнутому с престола принцу, которыми бедный узник тешился на старости лет, отняты у Нана-Саиба. В продолжение четырёх с лишком лет юный принц разорялся в напрасных усилиях заставить директоров Компании отменить несправедливое решение. Вместо того чтобы твёрдо, но ласково обратить его внимание на тщетность его хлопот, дирекция показала ему на дверь, грозя отнять у него даже его частное наследие. Между тем у Нана-Саиба были две сестры, двенадцати и тринадцати лет, старшая красавица, и обе замужем. Поехав однажды с кормилицей и слугами на богомолье, они подверглись нападению пьяных офицеров, которые ворвались в передний двор пещерного храма, когда те только что сошли, раздетые, в священный танк, и… обесчестили обеих. Единогласное показание уверяет, будто Нана-Саиб убил обеих девочек собственною рукой и по их же неотступной просьбе; а убив, выпил по капле крови каждой и поклялся на ней отметить жёнам и дочерям англичан, или же умереть самому.
Можно наверное сказать, что Нана-Саибом, как и всеми главными заговорщиками, гораздо более руководило чувство мести и ненависти к англичанам, чем надежда на политический переворот. Конечно, если бы планы Нана-Саиба удались, то в Индии снова водворилась бы Могульская и Махратская империя. Но чувство ненасытной мести, страстное желание обесчестить Англию в лице её знатнейших жён и дочерей, обесчестить так, чтобы (по словам передававшего нам эти подробности) «бесчестие это сделалось историческим, и предание страны воспевало бы справедливую месть Махратского принца до будущей пралайи», было главным и первым его побуждением.
Девизом Нана-Саиба сделалось изречение побеждённой богини Виргилия. И действительно, он, по выражению его биографов, «выдвинул весь ад», созвав вдобавок всех демонов восточной мести к своим услугам…
Насолив ему со всех сторон, лишив его сначала сестёр, а затем звания, почестей, пенсии, англичане с доверчивостью невинности и чистой совести, вследствие нескольких ловко придуманных и заданных им Нана-Саибом пиров, вообразили себе, что наследник «пейшвы» их величайший друг. Ежедневно ожидая, что сипаи его полка последуют примеру своих товарищей и взбунтуются, генерал Уиллер ещё 26 мая вызвал Нана-Саиба из Битхпура «помочь ему успокоить сипаев и предупредить мятеж». Нана явился немедленно и привёл с собою двести из своих пятисот вооружённых телохранителей и три или четыре оставшиеся у него пушки. Его назначили охранять казначейство, и он поселился в собственном доме в Навабгундже. Ему были известны все переговоры между гражданскими и военными властями, и он вместе с англичанами приготовлял «убежище» женщинам и детям…
Когда 6 июня взбунтовались сипаи и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, перерезать офицеров, разграбили полковую кассу, а затем отправились по дорога к Дельхи, желая присоединиться к корпусу главных мятежников, то англичане, укрепившись в церкви и провиантских бараках, великодушно передали в руки клявшегося им в «вечной дружбе» Нана-Саиба арсенал, пороховой магазин, парк и всё, что оставалось от казны, поручая своему «верному союзнику» защищать их от народа. Тогда Нана, сбросив наконец маску, вернул сипаев с дороги, и на другой же день, то есть 7 июня, открыл было по своим «друзьям» огонь, но тотчас же опять прекратил его: адская мысль озарила махрата. Смерть мгновенная и не дающая времени страдать – не наказание. Как кошка с мышью, принялся он играть со своими пленниками: он знал, сколько было в бараках провизии, и начал их морить голодом… Чрез две недели из 250 человек, вошедших в укрепление гарнизона, оставалось только 150, а из 380 женщин и детей наполовину менее. Трупы гнили почти на поверхности земли, пред глазами переживших. То была долгая страшная агония…
Вероятно, если бы Нана-Саибу посчастливилось, он не казнил бы женщин, ни детей, которых, как известно, он оставил в живых до последней минуты своей власти. Но 15 июля, при Андуне, он проиграл сражение и должен был скрыться. В минуту безумного бешенства, в последнюю ночь своей власти и пребывания в Канпуре, он отмстил, говорят, за своих сестёр: он впустил толпу опоённых опиумом и багом сипаев (мусульман и индусов) в дом, где содержались европейские женщины, за несколько часов до их смертной казни. Рассказывают также, что четверо мужчин, судья Торнгилл, полковник Смит и двое других, были нарочно оставлены в живых, дабы сделать их свидетелями этого национального бесчестия. На заре мужчин вытащили на улицу и зарезали, а также 250 женщин и детей. Тела их бросили в глубокий и знаменитый с тех пор «колодезь».
Продолжать повествование напрасно, ибо вся Европа знает остальное. Добавлю лишь некоторые подробности, о которых она никогда не слыхала. Когда Канпуром снова овладели англичане и в нём водворилась тишина, Нана-Саиба уже там не было: он исчез бесследно. Как известно, англичане долго показывали в железной клетке узника, которого, за неимением оригинала, хотели выдать за принца Дундху, но принуждены были, наконец, выпустить этого человека, так как вся Индия хохотала над этим. Между тем Нана-Саиб, говорят, жив, и до сих пор есть люди, ещё не потерявшие надежды увидеть его в Индии. О пленниках же коллектор, полковник Шерер, рассказывает следующее:
«Подъехав к дому убийства и резни, мы нашли в нём на шесть вершков глубины запёкшейся крови… Мы заглянули в колодезь, и пред нами мелькнула вся ужасная истина: спасать было уже некого. Пред нашими глазами открылась та ужасающая картина, при одной мысли о которой ещё теперь в далёкой Англии осиротевшие сердца обливаются кровью… Колодезь был глубок, но узок; заглянув в него, мы нашли его наполненным до краёв мёртвыми и совершенно нагими телами. Всех трупов насчитали 253».
Вот что рассказывает англичанин и очевидец. Но он умалчивает о том, как на другое утро сгоняли жителей Канпура и расстреливали каждого десятого человека; умалчивает о том, что, схватив между ними несколько сотен людей (вероятно, большей частью невинных), их заставляли слизывать запёкшуюся в комнатах кровь; умалчивает о том, что эту кровь слизывали, не вставая, человек до пятисот в продолжение сорока восьми часов, что две трети из них умерли от рвоты, а остальную треть англичане добили прикладами; умалчивает, наконец, о том, что не несколькими десятками мятежников заряжали пушки (как уверяют английские рассказы), а что такою смертью погибло их несколько тысяч.
Лорд Каннинг приказал все белые трупы, не трогая их, оставить в колодце и засыпать землёй и известью. Площадь превратили в сад, а над колодцем построили знаменитый «Memorial monument», памятник 1857 года.
Прямо с железной дороги мы поехали в этот сад. Сад тенист, наполнен кипарисами, плакучими ивами и другими превосходными растениями и цветами; но ни архитектура часовни, ни стены сада, ни самый памятник над колодцем не соответствуют ни великому трагическому событию, ни суммам, пожертвованным на исполнение задуманной Каннингом идеи. Статуя работы барона Марокетти и по его идее представляет «Ангела милосердия». Но почему это поза именно милосердия, а не чего-либо другого, определить трудно. По розовому полю, белыми рельефными буквами красуется вокруг всего подножия легенда мятежа. Легенда эта – чистый курьёз. Она есть как бы соединение всех отборнейших, непечатных ругательств и проклятий язычников… Ограбленный, выгнанный из своих наследственных владений принц Дундху-Пунт (Нана-Саиб) предаётся в ней «огню вечному», как «раб презренный и мятежный, осмелившийся взбунтоваться против законных властелинов избранного Богом народа». Англичане – «избранный Богом народ»! Вся симпатия, всё глубокое сожаление к столь незаслуженному страданию, к этим погибшим мученическою смертью несчастным детям и матерям, – всё это исчезает при чтении непристойно ругательной, до приторности высокомерной, напыщенной эпитафии. Мученический прах, покоящийся под нею, забывается; остаётся пред глазами лишь высокомерная надпись, из которой так и бьёт в нос фарисейство гордых и жестоких отцов, братьев, сыновей! Во всём саду между многими десятками надгробных надписей ни одной, положительно ни одной из Нового Завета. Дух древне-израильской нетерпимости, мстительности, дух заповеди: «око за око, зуб за зуб» деспотически царствует в этом саду смерти и пуританства. Но уж если так, то, соболезнуя о неповинных мёртвых, нельзя в этой ужасной трагедии не видеть справедливого «закона возмездия»: «что посеешь, то и пожнёшь», слышалось мне в шелесте каждой плакучей ивы над каждою могилой, в далёком журчанье ручья. Велики и ужасны прегрешения Нана-Саиба. Но кто осмелится утверждать, что его поступками не руководили кровавые слёзы и стоны двухсотмиллионного населения, народа, попираемого ногами завоевателя, народа оплёванного, издыхающего с голоду сотнями тысяч в продолжение последнего долгого века? И поверят ли христиане-читатели, что чья-то рука начертила на множестве надгробных памятников следующее столь подходящее к святыне места размышление: «Оправдана гордость расы, кричащей вослед каждому азиату: Hic niger est, hunc tu Romane, caveto».
XXVII

Индусские типы
Милях в четырёх от Канпура, на скалистом правом берегу Ганга, в тёмном и почти дремучем лесу, находятся замечательные руины. То остатки нескольких огромных древних городов, построенных один на развалинах другого. От последнего остались одни лишь колоссальные куски стен, бойниц, храмов, да развалины когда-то величественных дворцов, от которых там и сям уцелело по одной, много по две комнаты, скорее стены бывших покоев. Над этими стенами бедные поселяне начали устраивать крыши из листвы и селиться в них, пока мало-помалу не превратили древний город Джаджмоу в деревню. Но развалины тянутся на много миль, а новое поселение скучилось кое-как, оставив прочие руины в полное владение обезьянам. Об этих городах история (англичан) умалчивает, отвергая предания летописей Индии, что Джаджмоу стоит на месте родной сестры и соперницы своей Асгарты – города солнца. Асгарта, по словам древней летописи в Пуранах, построена сынами солнца, два века спустя по взятию царём Рамою острова Ланки, то есть за 5000 лет до Р. Х. по летосчислению браминов. А прошлое Джаджмоу, несколько раз разорённого набегами из-за Гималайских гор, совершенно неизвестно европейским историкам. Раз только упоминается этот таинственный, ныне «не помнящий родства», город, – это в автобиографии Бабура (Загир Эддин Магомета), могульского императора, жившего в начале XVI века.[157] В одной из его многочисленных кампаний против афганцев, последние искали убежища и пожелали укрепиться в древнем городе Джаджмоу, – пишет султан. Но Хумайюн, его сын, разбил их. Таким образом, эти развалины одно из многих мест, совершенно неизвестных англичанам ни в прошлом своём, ни, добавим, в настоящем.
Дорога к Джаджмоу – ужасная. Мы ехали на слонах, и только благодаря твёрдой поступи этих умных животных не полетели несколько раз в глубокие овраги, как и не повисли новыми Авессаломами за волоса на ветках. Тихо и осторожно ступали слоны по карнизам обрывов, останавливаясь пред каждым низко висящим сучком и раздробив его на щепки хоботом, прежде чем сделать хоть шаг далее. Собственно им, слонам, ветки и не мешали: но они уже так приучены и относятся к ездокам необычайно понятливо. Мы ехали мили три по скалам и лесу, прежде чем доехали до первых развалин, и почти всё время по узким тропинкам, по которым не проехать на быках даже и туземной скорлупе, называемой «эккой». Наконец, мы стали проходить пред жилыми зданиями, из одного оврага в другой, из ямы в провалы, и окончательно попав на что-то вроде широкой тропы, оглянулись вокруг. И оглянувшись – онемели! Ни одного человеческого существа кругом, но зато не было той развалины, куска стены или повалившейся колонны, на которой бы не восседало несколько десятков обезьян. Их было без преувеличения несколько тысяч. Жители жалуются, что они воруют у них последнюю провизию; что, как далёко ни припрятать просо или кукурузу, или какую-либо зелень, – эти лесные «дакоиты» непременно украдут её ночью. И однако же ни в одну из них туземец не осмелится бросить камнем: то священные, как и всюду, обезьяны, «дэва-саабы», или в буквальном переводе «господа-боги». Жители умирают с голоду, зато мартышки жиреют.
У самой опушки леса протекает Ганг, и на правом его берегу ещё доселе виднеются гигантские остатки мраморных ступеней, ширина коих как бы предназначалась, во времена оны, для великанов. Весь песчаный берег на протяжение многих миль, весь лес покрыты глубоко осевшими в землю обломками колонн, разбитыми резной работы пьедесталами, идолами и барельефами. Рисунок резьбы, архитектурные остатки, самый размер развалин представляют нечто грандиозное, неожиданное даже для тех, кто побывал в Пальмире и в египетском Мемфисе. Непонятно, почему эти развалины никем ещё не описаны, тем более что они под самыми стенами Канпура. В пространном сочинении «О территориях, приобретённых Ост-Индской компанией» сказано о них всего два слова. «Джаджмоу – бывший город, ныне деревня с пустым развалившимся базаром. Как говорят местные летописи, он построен на развалинах двух городов. Расстояние от Калькутты 620 миль, шир. 26° 26', долг. 80° 28'». Вот и всё! И однако же, под Джаджмоу похоронен древнейший город древней Индии… Для прямого доказательства его древности достаточно следующего примера. Немного лет тому назад, во время сильного урагана, несколько толстых и старых баньянов были сломлены грозой, а некоторые так и совсем вырваны с корнями. На концах последних были найдены куски изваянного мрамора, в которые корни совсем вросли. Стали копать глубже, и ярда на четыре под землёй найдены вершины развалин громадных зданий. Но дело теперь не столько в этих зданиях, как в том, сколько веков потребовалось, во-первых, для такого наноса на берегах Ганга, чтоб уровень земли пришёлся наконец не только в уровень зданий (некоторые из них в 300 ф. высоты), но даже покрыл их на четыре ярда землёй; а во-вторых, сколько промежуточного времени прошло между этим событием и временем, когда ныне 1200-летние баньяны стали пускать корни в эту наносную землю? По концентрическим кругам стволов[158] было доказано, что этим баньянам не менее двенадцати веков, а есть в лесу деревья старее и этих. Особенно одна группа этих Ficus indica поразила нас своим ростом, разве немногим менее знаменитого баньяна на берегу Нербудды, возле Броча и называемого в народе «Капир-Бар». Это последнее дерево – историческое. Ему было 700 лет уже тогда, когда Александр Македонский отдыхал под тенью его со всею своею армией. Теперь оно состоит из 356 толстых стволов и около 3000 меньших.
Мы кочевали в лесу целые три дня. Такуру были известны все закоулки и тропинки, и он сдержал своё слово. Он повёл нас туда, куда действительно не заходила ещё нога англичанина: в тёмное подземелье на глубине 110 с лишком футов под землёй. Мы отправились туда до зари, когда ещё все спали. Такур кроме нас взял с собою лишь одного Нараяна, да доверенного слугу, старого, седого раджпута, который сопровождал нас от самого Бомбея. У*** и мисс Б*** оставались в Джаджмоу с бабу и Мульджи, и даже не знали, когда и куда мы ушли. Это подземное путешествие осталось для меня, как и для полковника, самым интересным событием нашего путешествия – вероятно, вследствие его необычайной таинственности…
Более часу нам пришлось идти лесною чащей. Наконец мы вступили в узкое, заросшее кустарниками ущелье – не то природное, не то искусственное, разбирать было некогда. Впереди шёл такур, за ним я, за мною Нараян, потом полковник со слугой раджпутом в замке. Пробираясь гуськом, мы шли в глубоком молчании, так как путь становился труден и было не до разговоров. Наконец мы стали спускаться по крутым извилистым ступенькам, у подошвы коих вышли на маленькую поляну. Направо у одинокой скалы стояла лачуга, в которую мы и вошли. Если не светло было в лесу, так как не совсем ещё рассвело, то в этой мазанке, осенённой густыми баньянами и прислонённой в упор к скале, которая таким образом служила ей задней стеной, царила полная темнота. Раджпут высек огня и зажёг глухой фонарь, который и подал такуру. Тогда, взяв в одну руку фонарь, а другой мою руку, последний прошёл со мной, как мне показалось, в этой египетской темноте прямо сквозь стену. Новость ли необычайного положения или просто следствие постоянно возбуждённых нервов, но, признаюсь, при вступлении в эту неизвестную остальному миру подземную область меня стало сильно коробить; однако любопытство и стыд превозмогли, и я молча последовала за ним. Фонарь слабо освещал наш путь, бросая резкую полосу света лишь под самые ноги; кругом царила непроницаемая мгла, а меня неудержимо увлекала вперёд мощная, одетая вся в белое фигура гиганта, лицо которого мне казалось теперь темнее самой ночи… Он быстро и не колеблясь шёл вперёд. Все молчали, и даже наши шаги беззвучно падали на ровный, мягкий грунт прохода, словно мы ступали по толстому ковру.
Вдруг такур остановился, крепко сжав мне руку.
– Чтò это?.. Неужели вы в самом деле и серьёзно… трусите? – неожиданно спросил от меня, презрительно подчёркивая последнее слово. – Рука ваша дрожит как в лихорадке!..
Я почувствовала, как вся кровь хлынула мне в лицо при этой заслуженной обиде; но сделала то, что всякий другой сделал бы на моём месте: внутренне «поднялась на дыбы» и попробовала оправдаться.
– Я не трушу… да и бояться мне нечего… – пробормотала я, чувствуя в темноте вперённый в меня взгляд Гулаб Синга. – Я просто устала…
– Жён-щи-на… – тихо и как бы про себя прошептал с какой-то снисходительною горечью в голосе такур, но пошёл тише.
Не имея в руках достаточно веских доказательств противного и не отрицая этого нового как мне самой, так и моему полу оскорбления, я проглотила его и смолчала. Так шли мы четверть часа, если не долее, по ровной, немного покатой и мягкой дороге и, как мне казалось, необыкновенно высокому проходу; мой старый приятель не выпускал моей руки, полковник уже начинал громко пыхтеть, а я внутренне злилась на собственную слабость и посрамление. Но вот наконец такур снова остановился и, высоко подняв фонарь, разом открыл все его глухие стенки. Пред нами явилась гладкая и ровная стена из скалы. Ни одной трещины не было видно на ней.
– Вот взгляните, – обратился Гулаб Синг к полковнику, – и убедитесь, какие чудеса совершали наши механики-предки, незнакомые, по мнению европейцев, с науками. Держу пари на чтò угодно, что явись сюда все лучшие механики Запада, им никогда не открыть секрета этой… двери! Я вам теперь хочу доказать, что это – дверь, а не скала.
Наш любознательный президент, получивший когда-то медаль за лучшее сочинение о механике в Ранселаровском (Rensselaer) Технологическом Институте Трои (Нью-Йорк), стал зорко исследовать стену. Его старания увенчались полным фиаско. Ни постукиванье, ни ощупывание впадин ни к чему не привели. Между тем, пользуясь полным светом открытого фонаря, я разглядела местность. Род полукруглой комнаты, со скалистыми стенами и теряющимся на огромной высоте потолком; грунт словно усыпан чёрным порошком.
– Если верите мне на слово, – заметил наконец такур, терпеливо следивший за исследованиями полковника, – то я могу вас уверить, что этот ход прорыт и устроен много тысяч лет тому назад. Как видите, – добавил он, дотрагиваясь и напирая плечом на угол скалы, – «сыны Солнца» были хорошо знакомы с законом рычага и подъёма, а также и с правилами центра тяжести ещё до Архимеда. Иначе как бы они могли придумать вот это?..
И когда он напёр сильнее и повернул какой-то незаметный в стене штифт, пред ним неслышно и тихо образовалось отверстие фута в два шириной и во весь его рост в высоту, – точно одна из новомодных дверей в американских домах, вся до замка ускользающая в стену. Но здесь дверной ручки не было; не видно было и продолблённой дверной стены…
Мы все вошли, и такур снова неуловимым движением и давлением на что-то задвинул стену. Невзирая на любопытство полковника и его бесконечные расспросы, он отказался выдать секрет прохода.
– Довольно того, что я доказываю вам, что эти тайные подземные ходы существуют уже много тысяч лет в Индии, – говорил он нам, – и ещё более тысяч народа нашли здесь в разные времена спасение через тех, кто посвящён в тайну их существования. Теперь таких уже немного осталось, – добавил он, как мае послышалось, с нотой грусти в голосе. – И не успели они спасти против её воли одну из храбрейших, благороднейших женщин Индии, последнюю из великих героинь нашей «матери!»…[159] Чрез несколько минут мы сядем отдохнуть, и тогда я вам расскажу эпизод из последнего мятежа. В Европе он почти, если не совсем, неизвестен…
Теперь мы шли по широкому, высокому коридору со сводом. По всей вероятности, последний сообщался, так или иначе, с поверхностью земли, ибо воздух в подземелье, хотя и немного сырой, был однако же чистый, невзирая на его 140 футов глубины под землёй. Впрочем, дорога шла всё время покато, немного под гору, и только к концу третьего коридора из пещеры, которую тотчас опишу, шла незаметно в гору. Очевидно, часть этих проходов была уже подземельем в то время, когда Асгарта ещё находилась в числе других городов, процветая на земной поверхности. По обеим сторонам коридора нам попадались бездверные отверстия, продолговатые квадраты, ведущие в другие боковые ходы; но такур нас туда не водил, заметив только, что они ведут в жилья, т. е. иногда занимаемые покои. Что подземелье посещалось ещё весьма недавно, в этом мне служила порукой находка старого измятого конверта, с какими-то иероглифическими знаками, но совершенно современного покроя и с клеем под запечатанною стороной. Весь этот проход, то есть коридоры, насколько мы могли судить, длиной вёрст в пять или шесть. Пройдя мили три, считая от потаённой двери, т. е. почти на середине между двумя ходами, мы очутились в природной и огромной пещере, с небольшим озером в центре и искусственными вырубленными из скал скамьями кругом бассейна. В воде, посреди озерка, стоял высокий гранитный столб, с пирамидальною верхушкой и толстой заржавленной цепью, обмотанной вокруг него. Уже идя по коридору, мы замечали, что временами темнота почти рассеивалась и слабый, словно сумеречный свет озарял нас в такие минуты сверху; в пещере же – вероятно самая низкая местность подземелья – было темно, как в Гизехской пирамиде. Но тут такур приготовил нам сюрприз. Он дал старому раджпуту приказание на непонятном для нас диалекте, и тот, словно снабжённый глазами кошки, тотчас отправился куда-то в темноте, пошарил в углу и тут же начал зажигать один за другим факелы, вставляя их в приделанные к стенам железные кольца. Скоро вся пещера осветилась ярким блеском. Тогда, уставшие и крепко проголодавшиеся, мы разместились на окраине озера и принялись за корзину с провизией.







