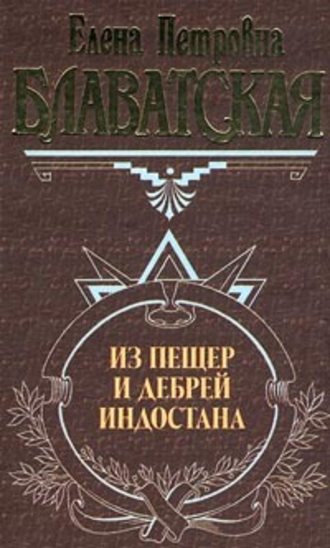
Елена Блаватская
Письма из пещер и дебрей Индостана
XXIV

Полковник Олькотт
У таких памятников, как колонна Ашоки, обыкновенно находятся старые пипалы (Ficus religiosa), прямые потомки Боддрума («древо познания») столь излюбленного, по преданиям, основателем буддизма. Находилось такое дерево когда-то и у колонны, но его уж более нет: оно было срублено англичанами, без всякой к тому причины, как и всегда.
Мы спустились в подземные пещеры по скользкой, поросшей мхом каменной лестнице. Гордо потрясая бритою головой, голый брамин шёл впереди нас, освещая нам дорогу смрадным факелом, а по обеим сторонам ступеней неподвижно сидели и стояли в разных позах факиры, с нечёсаными по годам и закрученными в шиньон длинными волосами, грязные, отвратительные. Настоящие аскеты никогда не сидят в людных местах, но пребывают или в уединении лесов, или же в далеко сокрытых от равнодушных глаз дворах храмов, как например в Джабалпуре. Посреди первой залы, низкой и с колоннами, стоял громадный, украшенный венками великолепных роз лингам; по сторонам – ниши с расставленными в них идолами и их живописными изображениями. Каменные идолы были покрыты сыростью, и крупные капли просачивающейся воды, следы подземной реки Сарасвати, орошали почерневшие стены. При слабо мерцающем свете факела невозможно было различить надписи. Так как все уцелевшие отрывки переведены, то мы и не особенно интересовались ими. Есть сильное подозрение, что эти подземные залы находились ещё в VII столетии на одном уровне с землёй; но частью вследствие сырости, частью по причине веками накопившегося слоя мусора, они осели и теперь находятся под землёй. «Бессмертное дерево» Актай-Бат упоминается как Хвен Тхсангом, так и историками Рашид-Уддином и Абу-Риханом, которые и указывают на него, как на древнейшее дерево в Индии.
Мы прошли зал двадцать, но кроме «дерева» ничего интересного не видали. За ним в стене зияет большое отверстие, ведущее, по словам брамина, до Бенареса. Все святые, говорил он, отправлялись этим ходом молиться в священный город. По дороге они «беседовали с Сарасвати…»
Тайному ходу мы предпочли мост через Джумну и переехали по нему на другой берег реки. Этот мост один из великих подвигов англо-индийского инженерного искусства. Мост в два яруса, перекинутый через широчайшее место, над самым слиянием двух рек, имеет 3331 футов длины по прямой линии. Экипажи и пешеходы проезжают и переходят по нижнему, а поезд железной дороги проходит по верхнему ярусу. Мы попали как раз под поезд и чуть было не оглохли.
Недалеко от вокзала железной дороги возвышаются старинные ворота со сводом, ведущие в прелестный, отлично содержимый сад. Наружные стены густо покрыты ползучими растениями и великолепными розами. В Кушру-Баг (сад Кушру) находятся могила и памятник принца этого имени, его матери Шах-Бегумы и многих других исторических лиц. Кушру был внук великого царя Акбара и сын раджпутки, дочери махараджи Амберского, славившейся на всю Индию своей красотой и колдовством, – последнее, быть может, потому, что она обворожила сына Акбара, Салима, мусульманина, и, прогнав других его жён, была всю жизнь его единственною женой. Как бы то ни было, но к Кушру-Багу, после заката солнечного, не подойдёт на полверсты ни мусульманин, ни индус. Всё потомство Акбара с самим царём (хотя он похоронен в Агре) собирается по ночам держать загробный дурбар …
На другое утро мы отправились осматривать «Ложе Ханумана», на берегу Ганга, и другие курьёзы Аллахабада. «Ложе» это оказалось открытою, четырёхугольною и вымощенною гранитом комнатой, вырытою футов на двадцать в земле. Над ней возвышается купол на четырёх гранитных столбах, на 10 футов над поверхностью земли, и без стен, дабы удобнее было толпе заглядывать со всех четырёх сторон вниз, любуясь на спящего бога-обезьяну. Несколько широких, мрачных ступеней ведут вниз, но по ним спускаются лишь одни охраняющие покой идола – брамины. Любопытнее всего, даже самого идола, огромная и многоречивая надпись от муниципалитета на трёх языках: английском, хинди и урду (язык магометан). Эта надпись строго запрещает христианам и особенно мусульманам «совершать над этою святыней индусов какие-либо кощунства, как-то: бросать камни в святилище, подходить к нему в сапогах, громко смеяться, делать непристойные, способные огорчить чувства поклонников бога замечания или же изъявлять гадливость (squeamishness)». (Я перевожу эту надпись слово в слово.) Невзирая на запрещение, на угрозы штрафом и даже тюрьмой, мы, дав дежурному брамину одну рупию, преспокойно подошли к самым колоннам, не сняв даже обуви. Мы заглянули вниз: идол громадных размеров, футов в 20 величины, ярко-красного цвета и с короной на обезьяньей голове, почивал на спине, растопырив приподнятые колена, свернув хвост калачиком и положив щёку на ладонь левой руки, тогда как другая держала скипетр. Над его носом болталась лампада, и он был весь усеян цветами. Полюбопытствовав узнать, из какого материала сделан идол, и получив ответ от брамина, что он «сделан из ничего», но есть притом «живое тело бога», мы не удовольствовались таким загадочным ответом. Как быть? С первого дня как Хануман заснул в своей яме, никто, кроме посвящённых браминов, никогда не сходил вниз. Бросить в спящее божество камешком и судить по звуку – преступление, предусмотренное муниципалитетом, могущее повлечь за собою штраф в 100 рупий. Тут-то наш президент, как истый изобретательный янки, явился на высоте дилеммы; вынув горсть медных и мелких серебряных монет и опустив руку за перила, он, в виде эксперимента, но как будто нечаянно выронил анну (3 копейки) на живот богу, всё время не спуская глаз с зорко следившего за ним брамина, который тотчас же хитро осведомился, не принести ли её назад «саабу»? – нет, ответил президент, – всё, что упадёт вниз, пусть останется приношением Хануману. Ободрённый этим, полковник бросил другую монету, уже целясь. Попав прямо в нос божеству, но без ожидаемого звука, он стал затем кидать всё сильнее и чаще, пока, наконец, после падения с дюжины монет, одна не звякнула, как бы ударясь о нечто металлическое. Когда он остановился, довольный этим открытием, брамин предложил ему бросить ещё несколько монет в рыло Хануману, умилённо повторяя, что подобная игра весьма приятна дэву …
От Ханумана мы пошли поклоняться «бабе Сандасси». Во избежание всякого недоразумения, спешу заметить, что баба Сандасси не русская «баба», а индусский «дед», и даже, судя по его возрасту, весьма почтенный. Уверяют, будто ему 250 лет, а сам он говорит, что родился так давно, что забыл, когда именно. Как бы то ни было, но «баба» этот лицо историческое и весьма уважаемое даже англичанами, которые, к удивлению народов Индии, оказались хоть раз благодарными за оказанные им услуги. Правда, их благодарность ограничилась тем, что они пока не стреляли ещё «бабой» из пушки, ни разу не повесили его и даже не засадили в тюрьму; но ведь и это уж чего-нибудь да стòит в Индии. Они даже подарили ему квадратный камень в полтора ярда длины и ширины, на котором он сидит не вставая уже ровно 53 года; и тот же муниципалитет великодушно снабдил его дощечкой с надписью. Дело в том, что память о «бабе»-деде у британцев тесно связана с памятью о мятеже. В те тяжёлые для них дни он многим европейцам спас жизнь, пряча их в пустое отверстие под камнем, с которого он не сходит и в котором скрывает свои талисманы и лекарства. Два раза его самого чуть не убили, но он не выдал прячущихся…
Баба – пенджабец и сикх, последователь Нанаки. Неподалёку от стен форта, на палящем берегу Ганга сидит этот ныне совершенно слепой и белый как лунь старец. Гордо драпируя голое тело в кусок белой кисеи, он со своими серебристо-белыми длинными волосами в тихие, безветренные дни походит скорее на мраморное изваяние, чем на живое существо. Вот что слово в слово написано на великодушно прибитой городским начальством дощечке, шагах в шести от деда:
«Баба Сандасси, родом из Пенджаба. Человек испытанной и строгой честности, неспособный к обману. Оказал много услуг правительству. Сидит на сём камне с 5 июля 1827 года. Ослеп в 1839 году, лишившись зрения вследствие постоянного сидения на солнце и отражения лучей в воде. Прохожим запрещается тревожить его. Желающие с ним беседовать обязаны снимать башмаки и сапоги. По приказанию Аллахабадского муниципалитета, октябрь 1858 года».
Сняв обувь, мы подошли к старику и приветствовали его словами: «да пребудет раджа Нанак с благословением божиим во сварге! (раю)». Такур, которого слепец, к удивлению нашему, узнал ещё за десять шагов и громко приветствовать благословением, тотчас же вступил с ним в разговор. Мы узнали, что слепой сикх ест и встаёт с места лишь раз в сутки, и глухую полночь: при помощи своих учеников, он сначала погружается в священные воды Ганга, а затем, омывшись, съедает горсть рису на молоке и, надев на плечи новый кусок кисеи, снова садится на место до следующей полуночи. Под палящим солнцем, под грозой и дождём мунсуна сидит, таким образом, голый старец день и ночь, с непокрытою головой, не имея даже и куска кисеи между теменем и небом. По уверению учеников его, он никогда не спит; по крайней мере никогда и никто из них не видал его лежащим; а если он и спит (чего ученики его, впрочем, не допускали), то спит с открытыми глазами и сидя, не имея возле себя и жерди, на чтò бы облокотиться. Куски кисеи, которые он никогда не носит на плечах более одного дня, продаются иногда за большие деньги жителям, крепко верующим в их целебное свойство после того, как они побыли целые сутки на теле сикха. Вырученные деньги поступают в сиротское заведение, которое сикх содержит единственно на собственный счёт; в это заведение принимаются безразлично дети всякого вероисповедания; их бывает иногда до 300. Туда же поступают и все другие приношения деньгами и вещами, щедро расточаемые на аскета, потребности коего состоят ежедневно в рисе, молоке, да в пяти аршинах белой кисеи. Часто после продолжительного самосозерцания он обращается к тому или другому из учеников и посылает его иногда за несколько миль в леса за известными предметами, как-то: за корнем какого-либо растения, за цветком или камешком, снабжая его при этом подробнейшими инструкциями. Так один раз, когда жена коллектора, заболев злокачественным вередом на ноге, совсем уже умирала и английские врачи собирались было резать ей ногу, угрожая в противном случае гангреной и смертью, больная в отчаянии прислала мужа посоветоваться с «дедом». Супруг был атеист и скептик, и сикху верил не более, чем своему пастору. Однако пошёл, отправясь к нему, как новый Никодим – ночью. Не успел он даже начать объяснения, в чём дело, как «дед» прервал его, посылая назад домой: «Твоей „мэм-сааб“ сделалось хуже, ты должен тотчас же спешить к ней (говорил слепой) и дать ей нюхать целую ночь до утра вот эту траву; а рано утром на другой день ты получишь от меня (сикха) мазь, которая и вылечит ногу твоей жены».
Озадаченный коллектор взял траву, какой-то сухой, вымоченный тут же в Ганге пучок, и, вернувшись, нашёл весь дом в смятении: его жена умирала, если уже не умерла. Забыв весь скептицизм, коллектор поднёс ей под нос траву, и коллекторша очнулась, а к утру спокойно уснула. Между тем «дед» подозвал старшего ученика (который и рассказывал нам это происшествие), приказал ему перейти вброд рукав Джумны, войти в лес, направо, следуя по третьей тропинке, сосчитать двадцать три манговых дерева и под двадцать четвёртым к югу и у самого корня дерева искать. Там, вершка на два под землёй, в покинутом муравейнике, он найдёт тигровый коготь, который и должен принести. Ученик отправился и, сделав всё, как было приказано, принёс коготь учителю. Сикх велел сперва обуглить коготь на огне, затем истолочь в мелкий порошок и, прибавив разных трав, сделал из него мазь и послал к коллектору с инструкциями. Через неделю «мэм-сааб» пришла сама благодарить слепого старика…[147]
Все, с кем мы только ни говорили о сикхе, отзывались о нём с величайшим уважением, а индусы и даже мусульмане – с благоговейным страхом.
XXV

Могини. Один из учеников махатмы Кут-Хуми.
Народы Индии не делают ничего вполовину: они или величайшие фанатики, или же безусловные атеисты. Их любовь, как и ненависть, безгранична, и когда индус назвал вас без принуждения «братом» или «другом», то это не пустая фраза. Все наши спутники были «реформаторами» (как их здесь называют) и давно порвали все связи с браминами и сектами, но зато все до одного были мистики, верующие в высшее духовное развитие человека, убеждённые, что такое развитие способно поставить последнего почти на уровень с божеством, если только он того достоин. Но вместе с грубыми фанатиками и образованными, в высшей степени экзальтированными (подобно Нараяну) мистиками к толпе «свободных мыслителей» (как они себя величают) с каждым годом из рядов учащейся молодёжи прибавляются новобранцы школы Чарлза Брадло и Луиса. За последнее десятилетие под «благодетельным» влиянием (скорее чисто английского, нежели западного) воспитания происходит нечто феноменальное: всё учащееся в городских школах и коллегиях юное поколение выпускается из них безвозвратно атеистическим. Исключения чрезвычайно редки.
Политика Англии – никогда и ни под каким предлогом не мешаться в чисто религиозные вопросы завоёванной страны. Можно, конечно, подозревать, что такое правило является следствием скорее трусливости, чем либерализма правительства.
Следуя золотому правилу, а также, быть может, и для того, чтобы не оскорбить «христианских чувств» своих сановников, все места президентов, директоров и «принципалов» туземных коллегии отдаются тщательно выбираемым с этою целью отъявленным материалистам. Так как по своему серьёзному и ответственному значению такие должности всегда и важны, и доходны, то понятно, что их приберегают единственно для англичан; туземцу, будь он в тысячу раз ученее своего принципала, такое положение недоступно.
С другой стороны, миссионерам разных сект, имя коим здесь легион, не дозволяется вход в коллегии. Вследствие вышесказанной политики, они вращаются в самых подонках общества, между париями и не допускаемыми в брахманские секты мэнгами. В постоянной борьбе и ссорах между собою, они, дабы насолить друг другу, буквально покупают обращённых: парии и мэнги, все до единого или чертопоклонники или безо всякой религии, обратятся за деньги, а часто и из-за куска хлеба во что угодно. Можно наверное сказать, что нет ни одного обращённого в христианство индуса, который бы не был вором, мошенником, горьким пьяницей, а подчас и убийцей. Миссионерство в Индии – величайшая профанации христианства. Ни одно европейское семейство ни за какие блага не наймёт в услужение обращённых. Миссионеры открывают свои собственные школы, но эти школы, как и результаты их – один только фарс. Падкие на даровое учение, индусы посылают к падри своих детей только от пяти до семи, много до восьмилетнего возраста; после этого едва выучившихся читать детей обыкновенно женят или выдают замуж; раз вступивших в брачное состояние юных супругов, конечно, трудно заманить назад в школы. Надежды на добровольное обращение разлетаются в прах…
Ещё безотраднее постановка этого дела у католиков. Основанная на собственные средства богатая иезуитская коллегия Св. Ксаверия в Бомбее, вместо того чтобы просвещать народ, рассеивать мрак невежества и поучать юных язычников, окончательно сбивает их только с толку. Воспитанники пресловутой коллегии выходят из неё, правда, с полнейшим презрением к вере и обычаям своих предков – обыкновенная система и хорошо известная уловка сынов Лойолы; но зато они питают ещё сильнейшую, если возможно, ненависть к римско-католической, если не к христианской вере вообще. Не находя возможности прибегать в Английской Индии к столь излюбленным ими насильственным обращениям, отцы иезуиты являются здесь под такою цинической, отвратительной оболочкой, так грубо извращают и без того шаткие понятия туземных мальчиков о правде и чести, что под их якобы христианским управлением в итоге получаются ещё худшие результаты, чем под вольнодумной дирекцией таких учёных атеистов, как «принципалы», например, Бомбейской и Лагорской коллегии.
Поэтому с психологической точки зрения Индия представляет необычайно интересное зрелище. За исключением горсти «реформаторов», она разделяется на два враждебные друг другу лагеря: фанатиков и ультра-скептиков. Первые, полные религиозного суеверия, видят божество во всём: в тигре, в корове и её хвосте, в дереве, вороне и во всякой гадине; вторые, не менее полные того, что позволяю себе назвать суеверием научным, отрицают всё, кроме материи.
«Чудны творения твои, о Тиндаль!..» – хором восклицают юные индусы, поклоняясь этому светилу науки.
Но со всем этим обе партии, как ортодоксальная, так и атеистическая, глухо враждебны своим правителям. Партия ярых, до безумия экзальтированных браминами фанатиков, само собою разумеется, никогда не помирится в душе с правительством, которое даёт им в собственной их стране лишь отрицательные преимущества над миссионерами ненавистной им религии. Лагерь материалистов, ежегодно подкрепляемый целыми партиями блистательно кончивших курс индусов, выброшенных в океан житейский этими университетами и коллегиями буквально без ладьи и компаса, без надежд в этой жизни, – вследствие устраняющей их ото всякого участия в управлении страной политики и без надежд на жизнь будущую, в которую наши азиатские поклонники европейских «апостолов разума» стыдятся веровать (как то делали их глупые предки). Им остаётся в жизни – нуль. Поэтому мы их и застаём в последней четверти XIX века перефразирующими на все лады известное изречение эпикурейцев: «Станем есть, пить и веселиться… ибо завтра – все мы превратимся в угольную кислоту, воду и аммиак!»
Позволяя себе это предисловие, я не отступаю от моего рассказа. Я только желаю представить русским читателям Индию такой, какой её сделала Англия, и приготовить их этим самым к яснейшему пониманию рассуждения, в которое мы не раз вступали с учёными пандитами.[148] Узнав о нашем приезде, эти пандиты и туземные философы стали приходить к нам целыми партиями; некоторые из них приехали нарочно для свидания с нами из Бенареса.
Вернувшись от баба Сандасси, мы нашли у профессора Батачарьи огромное общество пандитов. Они просидели с нами в саду далеко за полночь. Мы приехали из Америки изучать философию их древних и современных религий, а они пришли таращить с неподдельным изумлением глаза на «западников», имеющих глупость и безумие предпочитать Капилу и Патанджали – Гёксли и Тиндалю, философию Ману и буддизм – позитивизму Огюста Конта. Отказавшись от всякой веры, они однако же не посмели отказаться от касты и её требований. Они смеялись надо всем божественным и вместе с тем страшились людей и общественного мнения. Не так ли зачастую бывает и у нас в Европе?
Разговор, конечно, зашёл об их древней философии, о риши, йогах и аскетах. Пандиты вполне распоясались и с гордостью, достойной лучшего дела, стали раскрывать перед нами все нравственные язвы, нанесённые, а затем постоянно растравляемые в них одной и той же искусной рукой их английских «принципалов». «Неужели нас могли интересовать бредни древних метафизиков и богословов?» – спрашивали они. «Кто же кроме ханжей, факиров, да полоумных аскетов может ещё видеть какое-либо значение, например, в тройном божестве? Баба Сандасси – старый дурак, а факиров, лезущих для очищения от грехов в Гангу и остающихся под водой, рискуя в ней утопиться, пока они трижды не прочтут мантры, правительству следовало бы засадить в рабочий дом…»
Наши доводы и противоречия ужасно раздражали некоторых из них. Один статный индус, драпированный в белую с золотом шаль, с золотыми кольцами на всех пальцах ног, огромным знаком Вишну на лбу и в золотом pince-nez, обратился наконец ко мне уже с прямым вопросом: «Неужели я, прожив так долго в Америке, родине Томаса Пена, верю ещё в какое-либо божество?»
– Признаюсь, верю, и вовсе не таюсь в такой невежественной слабости, – последовал мой ответ.
– И в «душу» человека? – переспросил он со сдержанной усмешкой.
– Да, и в душу; и как ни удивительно, даже в бессмертный дух…
Юный магистр, нервно заиграв кольцами на ногах, обратился с новым вопросом, довольно на этот раз оригинальным.
– Стало быть, по вашему, Гексли шарлатан и глупец?
В свою очередь мне пришлось вытаращить глаза.
– Это почему же?.. – осведомилась я у pince-nez.
– Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чём он говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает…
– Гексли, – сказала я, – как натуралиста, физиолога и учёного не только признаю, но и преклоняюсь пред его знанием, уважая в нём один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всём касающемся чисто физических наук; но как о философе имею о нём весьма невысокое мнение.
– Но ведь против логических выводов, основанных на фактах, трудно идти… Вы читали его статью в «Fortnightly Review» об «автоматизме человека»?
– Кажется, читала… и кой-что запомнила из его удивительных софизмов… Но чтò ж о ней?
– Вот чтò. Профессор в ней неоспоримо доказал, что человек не более как сознательный и сознающий себя автомат,[149] добавляя к этому в своих «Lay Sermons», что человек – «хитрейший из часовых приборов природы»,[150] но не более.
Мне немного начинал надоедать этот спор; я взглянула на Гулаб Лалл Синга. Тот сидел, нахмурив брови, не мешаясь до этого времени в разговор. Зная его презрение к современному материализму, мне захотелось втянуть и его в спор. Как бы поняв мою мысль, он тут же поспешил мне на помощь.
– Позвольте мне ответить вам за нашу гостью, пандит саиб. Я прочёл упоминаемую вами статью очень недавно, и у меня, может быть, сохранились свежее в памяти учёные софизмы Гексли; я готов привести вам самые резкие из них. Действительно, Гексли называет человека «автоматом» и «часовым прибором природы»… Но дело не в самом выражении, а в том, успел ли он доказать то, что говорит? Я говорю и докажу, что не только не успел, но что он самым ребяческим образом противоречит своим словам…
«Pince-nez» просто подскочил при таком кощунстве против науки.
– Как? где?.. великий Гексли противоречит себе?.. Укажите и объясните…
– Если позволите, объясню и укажу, и, право, это не будет стоить большого труда. Вы забываете, что, сокрушив достоинство человека эпитетом «автомата», быть может из сожаления к недозревшей до его великих идей публике, к маленьким слабостям меньшей и неучёной братии, то есть тех, которые (говоря языком Герберта Спенсера) «не поспевают за современным быстрым движением завоевателей на почве естественной истории и поэтому отстают от физических наук», – Гексли тут же снисходительно добавляет нечто весьма странное. Называя человека «автоматом», он между тем великодушно допускает, что эта машина «одарена до известной степени свободной волей, так как во многих случаях человек способен поступать согласно с собственными желаниями…».[151] Не так ли, если помните?
– Кажется, так… – смущённо заявляет pince-nez.
– А если так, то мы должны думать, что эта оговорка является лишь ради общего предрассудка и подносится профессором публике в виде сахара на горькой пилюле; потому что ведь иначе выходит, что наш Гексли, величайший из современных учёных, просто противоречит сам себе… И однако даже и вы должны согласиться, что человек одарён свободною волей?..
– Конечно. Но в чём же вы видите тут такое великое противоречие?
– Неужели же вам не совершенно ясно, что этим добавлением, этой, по-видимому, простой оговоркой Гексли, вроде японского самоубийцы, сам накладывает на себя, как и на свою теорию, руки, и что так ловко придуманное им выражение «автомат» является через эту несчастную для него оговорку чистой нелепостью?.. Сперва, по его уверению, человек в буквальном смысле, и не менее лягушки и кролика, есть не чтò иное, как условие, влияющее на течение дел (Phisycal Basis of Life). В итоге получается то, что человек остаётся, после этого учёного объяснения, тем же, чем всегда был, то есть мыслящим и одарённым свободной волей существом. Этот одарённый свободной волей «автомат» является интересной и, конечно, неожиданной новостью в области физических наук, как заметил его оппонент д-р Элам. Потому что ведь ни скептику, ни верующему никогда не может придти в голову, что свободная воля есть что-либо иное, кроме простого свойства поступать по собственной воле!.. Таким образом «автомат» рассыпается в прах, и мы видим, что Гексли недурно было бы поучиться логике у нашего Кáнады и других философов, которых вы так презираете.
– Прекрасно… положим, что в этом вы правы… – бормотал огорошенный магистр. – Но вот возьмём другой пример… Тиндаля, который говорит существенно то же самое: «Материя и только одна материя содержит в себе все обещания, всё могущество земного бытия!», объявлял он в 1874 г. перед отборнейшей и ученейшей публикой в мире, на Белфастском собрании. Это счастливое выражение: «In matter I discern the promise and potency of all terrestrial life», вызвав на Тиндаля злобу всех отсталых фантазёров, облетело теперь весь свет… оно сделалось настоящим лозунгом физики!..
– Но совершенно напрасно привело в трепет ужаса весь верующий мир, – можете добавить. Подобно Гексли, Тиндаль в другой лекции сам опровергает своё «счастливое выражение». Не угодно ли вам заглянуть в его Scientific Materialism, ответ на критику (д-р Мартино) этого самого, поднявшего мир на дыбы, выражения. Там он совершенно ясно сознаётся в том, что наше внутреннее «сознание» (consciousness) принадлежит «совершенно к другому классу явлений, соотношение коего с физической наукой немыслимо», и тут же, разделяя явления природы уже на два, а не на один класс, почтенный материалист начинает рассуждать о той (между обоими классами) бездне, перешагнуть которую невозможно и которая так и «останется навеки непроходимой в умственном смысле (intellectually impossible)…» Где же оно теперь? Куда девалось это пресловутое всемогущество его материи?..
Пандиты переглядывались. Видно было, что нашла коса на камень. Слышать, как двух таких патриархов науки, каковы Гексли и Тиндаль, обвиняют в том, что они сами ещё не знают, чему желают учить других, и не быть в состоянии заступиться за этих пророков положительных наук, и грустно и обидно. Наша партия торжествовала…
– А теперь, – продолжал такур, – позвольте и мне, в свою очередь, цитировать слова другого не менее учёного и столь же известного, как и те два учёные, натуралиста, – в подтверждение шаткости их теорий. Вспомните, что говорит Дюбуа-Реймон о явлении сознания: «Совершенно и навеки остаётся непостижимым, чтобы данное количество атомов углерода, водорода, азота и кислорода могли являться науке иначе, как безусловно пассивными (indifferent) к своему положению и движениям и это – в прошлом, настоящем, как и в будущем». Эти слова, вдобавок, цитируются самим же Тиндалем.[152] И к ним уже в собственных словах он добавляет следующее: «Непрерывность (continuity) между молекулярными процессами и явлениями сознания… скала, на которой материализму суждено неминуемо разбиваться при каждой его претензии считаться полной философией человеческого мышления»… И несмотря на такое полное сознание в одной статье, он в другой статье «О научном материализме» (стр. 419), не запинаясь, рассуждает об «отношениях физики к сознанию», как о чём-то «неизменном» и положительном…
– В этом его поддерживают все другие авторитеты науки… – уже робко ввернули слово пандиты, – и Вирхов тоже…
– Далеко не все, – перебил полковник спорщиков, – а только некоторые, да и те в умеренном числе.
– И, право, требуется не более самого поверхностного знакомства с физиологией и патологией, – добавил Гулаб Лалл Синг, – чтобы придти к убеждению, что не только «неизменного», но даже и исключительного отношения очень мало найдётся между чистой физикой и даже физиологией, а не только между чисто психическими явлениями… Что же касается Вирхова, то он, отделав «Антропогению» Геккеля, в то же время (хотя и косвенно) отделал и тех, кто так горячо поддерживал это сочинение при его появлении.
– Очень жаль, – буркнул пандит в pince-nez, – потому что в таком случае Вирхов идёт против авторитета одного из величайших мыслителей своей родины, именно против Бюхнера. А ведь сам же Бюхнер говорит в «Kraft und Stoff» (стр. XXVII. Предисловие): «натуралисты всё давно доказали, что за исключением сил физической, химической и механической, нет других сил в природе».
– Не сомневаюсь, что Бюхнер это говорит, как и в том, что у вас отличная память, – насмешливо ответил такур. – Да то ли ещё он говорит! Вот, например, он как бы повторяет слова нашего Ману: «Материя – начало всего существующего; все естественные и умственные силы природы присущи ей (стр. 32). Природа всезарождающая и всепожирающая есть собственное начало и конец, рождение и смерть. Она произвела человека собственным могуществом и берёт его к себе назад…» (стр. 88). Но Ману, говоря то же самое,[153] одним простым заявлением, что всё видимое зарождается от невидимой, но сознательной силы, стоит в отношении логики, как и философии, стократ выше всех Бюхнеров прошлых и будущих. Что некоторые естественники и так называемые философы уверяют нас, будто кроме этой тройной материальной силы нет других сил в природе, то это всякому известно. Но чтоб они когда-либо доказали свои гипотезы прямым подтверждением науки, это я положительно отвергаю…
– Но неужели же нам в XIX столетии предпочитать Бюхнеру и Гексли – Ману?
– Если Ману в сущности учит тому же, что и западные современные учёные, так почему бы и нет? Вы не можете не согласиться, что Ману предупреждает в своём учении почти всё то, что проповедуют теперь свету гг. эволюционисты – «апостолы разума», выдавая свои теории за нечто совершенно новое. Если же Ману успевает ещё и в том, на чём обрываются эти апостолы материи, и поэтому отрицают оное, то есть если он логически доказывает необходимость связи между духом и материей и устами Патанджали[154] подтверждает эту связь экспериментальными демонстрациями над самой двоякой природой человека – этого высшего тайника духа и материи – то я положительно утверждаю, что Ману стоит несравненно выше современной науки, по крайней мере во всём касающемся как чисто духовной природы, так и физиологии человека.







