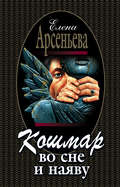Елена Арсеньева
Последнее лето
Когда Шурка Русанов (тогда еще совсем маленький) услышал о том, что актеры выходят на сцену в настоящих босяцких обносках, он наотрез отказался идти в театр: «Босяки вшивые, значит, и костюмы у них вшивые, а я вшей боюсь!» Шурка был чудовищно, просто патологически чистоплотен, слова «вши» и «микробы» были у него самыми ругательными, и тетя Оля прочила ему будущность бактериолога вроде Коха, Эрлиха или русских – Ценковского, Габричевского и Ильи Мечникова (она обожала читать медицинские журналы, потому что сама была несостоявшаяся медичка), потихоньку подзуживая, чтобы не шел после гимназии в Коммерческий институт, как того требовал отец, а ехал бы в столицу поступать на медицинский факультет университета. Шурке в столицу ехать ничуть не хотелось, он надеялся, что в Энске вот-вот откроется свой университет со своим медицинским факультетом, на что в свое время были пожертвованы деньги миллионером Кондратием Рукавишниковым. Однако со смертью последнего дело открытия университета что-то заглохло и было положено отцами города в самый долгий ящик…
– Ишь! Видно, правду говорят, что студенты – отчаянные… – раздалась реплика другой актрисы, и внимание Сашеньки переключилось на нее.
Рядом с нелепой Настей сидела Наташа – голубоглазая девушка с длинной русой косой и в кофте и юбке – вроде бы опрятных, простеньких, но столь туго облегавших фигуру, что это выглядело почти неприлично. Впрочем, сколько помнила пьесу Сашенька, эта Наташа была довольно скромная и приличная девушка (хоть и якшалась с неподходящей публикой). То есть отнюдь не роль требовала от Клары Черкизовой таких вызывающих одеяний. Но она вообще ходила только в переобуженных платьях, всячески выставляя себя напоказ. Рассказывали, будто платья эти она берет напрокат, что, с точки зрения всякой уважающей себя дамы, считалось верхом неприличия. Но с точки зрения мужчин, в платьях или без, там было что выставлять: роскошный бюст, тонюсенькая талия, крутые бедра. С точки зрения женщин, смотреть на «это бесстыдство» было весьма противно. Вдобавок Клара Черкизова была смазливая (мужчины называли ее красивой) блондинка (женщины называли ее белобрысой, крашеной выдрой), и слава о ней шла самая дурная. Иногда она пела модные песенки в «Венеции» и даже в «Белом медведе» – ресторанах, куда ни одна приличная женщина и шагу не шагнула бы. Из уст в уста передавалась смелая острота: дескать, господин Шмелев, управляющий «Венецией», сделал объявление, мол, девицы легкого поведения в его ресторан не допускаются и их просят не утруждаться попытками проникнуть туда, однако на эстраде у него целыми вечерами вертится самая настоящая блудница, которая совратила половину добропорядочных людей в городе и не собирается на этом останавливаться.
Насчет половины, очень может быть, сие преувеличено, зато Сашенька Русанова близко знала как минимум одного человека, который и впрямь был совращен Черкизовой, совершенно потерял от нее голову и в разум возвращаться не собирался. Как оно ни печально, это был Сашенькин отец Константин Анатольевич Русанов…
– И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь…» – проговорила между тем Настя, и Сашенька несколько отвлеклась от своих печальных мыслей о несовершенствах собственного родителя. Спектакль-то шел своим чередом!
Интересно, а почему для постановки в Народном театре выбрали такую невыразительную сцену? Почему в ней не участвует Вознесенский, который играл Ваську Пепла? И как играл! В любом случае даже патетические вопли Сатина – его роль в спектакле исполнял господин Пряхин – о том, что человек – это великолепно, это звучит гордо, – было бы слушать приятней, чем смотреть на Черкизову.
– Хо-хо! – между тем с издевкой произнес Грачевский, он же Бубнов. – Драгоценная?
– Погоди! – отмахнулся от него Манин-Барон. – Не любо – не слушай, а врать не мешай… Дальше!
– «Ненаглядная, говорит, моя любовь! – с некоторым завыванием произнесла Настя. – Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой… и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни…» А леворверт у него – агромадный и заряжен десятью пулями… «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца, решился я бесповоротно… жить без тебя – никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой… Рауль…»
– Чего-о? – изумился Бубнов. – Как? Краул?
– Настька! – захохотал Барон. – Да ведь… ведь прошлый раз – Гастон был!
– Молчите… несчастные! – вскочила Настя. – Ах… бродячие собаки! Разве… разве вы можете понимать… любовь? Настоящую любовь? А у меня – была она… настоящая! Ты! Ничтожный!.. – крикнула она Барону. – Образованный ты человек… говоришь – лежа кофей пил…
Конечно, постановка была Сашеньке совершенно неинтересна, однако она вдруг подумала, что госпожа Маркова в самом деле была хорошей актрисой, пока не покинула сцену ради выгодного брака. Даже сейчас она играла превосходно. Настю стало ужасно жалко… А вот Наташа выглядит неестественно, подумала Сашенька. Никакая она не актриса, эта Клара Черкизова! Вообще нет таланта! Что в ней нашел отец? Кстати, Шурка тоже считает ее красавицей. Право, все мужчины ужасно глупы!
– Не хочу больше! Не буду говорить… Коли они не верят… коли смеются… – сердито сказала между тем Настя, но все же продолжила пылко: – И вот – отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете… потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни… Как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты – вся их радость… Брось меня! Пусть лучше я пропаду… от тоски по тебе, жизнь моя… я – одна… я – таковская! Пускай уж я… погибаю – все равно! Я – никуда не гожусь… и нет мне ничего… нет ничего…»
Настя закрыла лицо руками, а Сашенька почувствовала, что на глаза ее навернулись слезы. «Я пропаду от тоски по тебе… я погибаю…» Ну да, это словно про нее, это она пропадает, погибает от тоски по Игорю Вознесенскому!
Вдруг раздался неприятный голос Клары Черкизовой:
– Не плачь… не надо!
«А тебе какое дело?! – чуть не закричала Сашенька, смаргивая слезинку. – Хочу плакать – и буду!»
И спохватилась. Это не Клара Черкизова подала ей издевательский совет – это Наташа пытается успокоить Настю. А Барон хохочет:
– Детка! Ты думаешь – это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»… Все это – ерунда! Брось ее!..
– А тебе что? – сказала Наташа. – Ты! Молчи уж… коли бог убил…
Лука взял Настю за руку:
– Уйдем, милая! Ничего… не сердись! Я – знаю… Я – верю! Твоя правда, а не ихняя… Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь… значит – была она! Была! А на него – не сердись, на сожителя-то… Он, может, и впрямь из зависти смеется… у него, может, вовсе не было настоящего-то… ничего не было! Пойдем-ка!..
И увел Настю в глубину сцены.
– И чего это человек врать так любит? – хмыкнул Бубнов. – Всегда – как перед следователем стоит, право!
– Видно, вранье-то приятнее правды… – задумчиво сказала Наташа. – Я – тоже…
– Что – тоже? Дальше?! – насторожился Барон.
– Выдумываю… – пояснила Наташа. – Выдумываю и – жду…
– Чего? – допытывался Барон.
Наташа смущенно улыбнулась:
– Так… Вот, думаю, завтра… приедет кто-то… кто-нибудь… особенный… Или – случится что-нибудь… тоже – небывалое… Подолгу жду… всегда – жду… А так… на самом деле – чего можно ждать?
Она замерла, уставившись в зал, словно там искала ответа на свой вопрос. И другие актеры тоже замерли в тех позах, в которых их застала реплика Наташи. И они о чем-то вопрошали зрителей взорами…
В эту минуту из-за кулис послышался проникновенный баритон:
Камень на шее и руки в оковах —
Вот моя жизнь. Я устал.
Я истомился под гнетом лишений суровых,
Я в бездну отчаянья пал.
С этими словами на сцену вышел стройный молодой человек с мрачным взглядом красивых темных глаз. Лицо его было бледно… Сашенька почувствовала, что от ее лица тоже отхлынула кровь.
– Вознесенский! – раздался из зала восторженный девичий крик. – Душка! Обожаю!
И – аплодисменты, визг!
Ну да, это был именно тот человек, из-за которого театр нынче весь пропах геранью: премьер драматической труппы Игорь Вознесенский. У него была внешность типичного идола девиц и дам, легко оставляющего рваные раны в их нежных сердцах и привыкшего к своей баснословной популярности.
Вознесенский поклонился со скромной улыбкой, как бы сам дивясь восторгу публики, а потом поднял руку, призывая к тишине. И она явилась, словно по мановению волшебной палочки, так что Вознесенский смог дочитать стихи:
Помощи! Помощи! Руку подайте мне, братья!
Целое море огня —
Жгут мою душу обиды, сомненья, проклятья, —
Други, спасите меня!
Освободите от ига и дайте свободу,
Дайте мне место в бою!
Дайте лишь волю певцу – я родному народу
Райские песни спою.
Мне их с младенчества звездные ночи шептали,
Пел мне их солнечный луч.
Мне их под говор ручья хоры птиц щебетали.
Гром их гремел из-за туч.
Я не забыл эти песни, я помню, я знаю, —
Хлынут потоком оне.
Только бы воля моя… я в тюрьме погибаю…
Да помогите же мне!..
С надрывом выкрикнув последние слова, он бессильно уронил темно-русую голову – и тотчас в нее ударилась брошенная чьей-то меткой рукой герань. Цветок упал к ногам актера, но несколько алых лепестков запутались в его кудрях. Словно кровью их обагрили!
Что тут началось… Цветы полетели со всех сторон, и Сашенька, которая прежде стеснялась развернуть свой сверточек, сейчас терзала его ногтями, спеша и проклиная себя за то, что не сделала этого раньше, а теперь не успеет бросить герань, выразить свои чувства.
Вознесенский не поднимал цветов, стоял неподвижно, поникнув головой, – такой бледный, такой красивый… У Сашеньки слезы подкатили к горлу от невероятной любви, которую вызывал в ней этот человек. И тут на сцене появилась… Марина Аверьянова! Своими тяжелыми саженными шагами она промаршировала прямо по цветам, давя их, и крикнула в зал, перекрывая визг поклонниц:
– Героиня пьесы Горького спрашивает, чего можно ждать? Вам ответили на это стихи, которые прочел господин Вознесенский! Наш народ жаждет свободы, наш народ ждет конституции! Наш народ просит, молит – помогите же мне! Освободите от ига! Всем известно, что сбор от этого концерта пойдет для помощи политическим узникам, томящимся в нашем остроге! Комитет помощи благодарит вас! Ура!
Она захлопала в ладоши, настойчиво глядя в зал своими карими, чуть навыкате глазами, однако в поддержку раздались два-три жалких хлопка. В зале воцарилось унылое молчание. И Сашенька могла бы держать пари, что все зрительницы уставились туда же, куда смотрит она: на герани, раздавленные неуклюжими ногами Марины, обутыми в высокие ботинки на шнурках.
Опытный конферансье Грачевский мигом почуял настроение публики, вышел, нет, можно сказать, выскочил из образа Бубнова и явился на помощь бестактной мадемуазель Аверьяновой:
– Между тем, господа, наш концерт продолжается! Сейчас вы услышите романс «Обман». Стихи и музыка Веры Порошиной. Романс исполнит… – Он сделал интригующую паузу и выкрикнул: – Исполнит Игорь Вознесенский!
Зал снова ожил. Вознесенский выпустил в публику залп огненных взглядов, и зрительницы застонали от восторга.
На сцене появилась маленькая, пухленькая, неряшливо одетая дама – местная знаменитость Вера Порошина – и вручила актеру гитару. На лице поэтессы блуждала сомнамбулическая улыбка – совершенно такая же, как на лицах всех зрительниц. Вознесенский пробежал опытными пальцами по струнам, одновременно посматривая исподлобья в зал и мельком улыбаясь. На миг его глаза встретились с глазами Сашеньки, и ей почудилось, что от счастья у нее остановилось сердце.
«Он посмотрел на меня! Он меня заметил! Если сейчас бросить цветок, он поймет, что это от меня!» Она нервно скомкала оберточную бумагу, и та громко зашуршала. Сидящая рядом барышня посмотрела на Сашеньку с ненавистью: то ли из-за этого беспардонного шуршания, то ли оттого, что Сашенька держала в руках цветок, в то время как цветок барышни уже был брошен Вознесенскому и в числе прочих погиб под ногами Марины Аверьяновой. Кстати, Марина уже ушла со сцены, передавив оставшиеся герани. Разумеется, она делала это не со злости. Просто никогда не смотрела под ноги, все в небеса таращилась, как говорила все та же русановская кухарка Даня.
Бросать цветок, впрочем, уже было поздно: Вознесенский взял звучный аккорд и запел:
Наша жизнь – заколдованный круг,
Измениться фатально не может,
Но мы ждем, что какое-то «вдруг»
Из кольца убежать нам поможет.
«Теперь те, кто еще не бросил свои цветы, будут умнее, – размышляла Саша. – Они сами кинутся к нему, чтобы отдать букетик из рук в руки, чтобы он взглянул прямо в глаза, может быть, что-то сказал – мерси, мадемуазель, или еще что-то, пожал бы пальчики… Нет, я не хочу быть одной из многих, я хочу быть для него единственной! И я знаю, что нужно для этого сделать!»
Нас измучил холодный туман,
Мы с тобою наивны, как дети,
И насмешливо-наглый Обман
Расставляет нам легкие сети.
Голос актера лился со сцены, наполнял зал. А Сашенька осторожно поднялась и принялась пробираться к выходу. Было ужасно, просто невыносимо жаль уходить от звуков чарующего голоса, зрительницы на нее оглядывались, как на пациентку знаменитого доктора Кащенко[13]: что это за идиотка, которая уходит с концерта самого Игоря Вознесенского?! Но Сашенька славилась своим упрямством, и если что-то попадало ей в голову, выбить оттуда сие было практически невозможно. Оглянувшись на предмет своего обожания, словно (как писали в старинных чувствительных романах) желая навеки запечатлеть его образ в своей памяти, она вышла из зала и на цыпочках (в уголке на бархатном потертом стуле подремывал старый и столь же потертый на вид капельдинер, который, конечно, заставил бы ее воротиться в зал, если бы проснулся) прокралась через фойе к боковой укромной двери, ведущей – это мало кому было известно, однако Сашеньке как-то показал заветную дверку брат Шурка, который знал в Народном доме все ходы и выходы, поскольку дружил с сыном директора, – прямиком за кулисы. Сашенька надеялась пробраться туда и там подождать ухода своего божества со сцены. Тут они окажутся один на один, и Сашенька сможет не только передать ему цветок и оказаться замеченной им, но, быть может, что-то прошептать, подходящее к случаю… А что прошептать, кстати? Какие-нибудь стихи, вернее, строки стихов о любви? Но до нее доносился прекрасный голос Вознесенского, и как-то ничто не взбредало в голову, кроме каких-то отрывков и обрывков. Чепуха и не к месту! Невероятно красивый голос Игоря Вознесенского мягко выбивал из бедной Сашенькиной головы всякое соображение:
Мы к Обману охотно идем
И в красивую сеть попадаем;
Ведь так долго напрасно мы ждем
И так долго безумно страдаем.
И мы верим: придет это «вдруг»,
Мы простимся с печалью ненастной,
И, прорвав заколдованный круг,
Станет жизнь бесконечно прекрасной.
«А вдруг он обратит на меня внимание? – с замиранием сердца думала Сашенька. – Нет, вдруг он уже обратил на меня внимание, когда я еще сидела в зале, и теперь вспомнит меня? И снова посмотрит на меня так, как умеет смотреть только он, он один, этими своими черными, сверкающими, удивительными глазами? Посмотрит, улыбнется – и… Нет, я и слова не смогу сказать! И не надо говорить! Я отдам ему записку!»
Сашенька сунула руку в карман. Ну да, вот здесь лежит сложенный вчетверо листок из тетрадки в клеточку. Эту записку она приготовила еще месяц назад – мечтала передать ее Вознесенскому во время его выступления в клубе Коммерческого училища. Там не получилось, и с тех пор Саша таскала письмецо везде и всюду, надеясь на удобный случай.
Кажется, он вот-вот выпадет, этот случай!
И смеется над нами Обман,
Что легко попадаем мы в сети.
Нас измучил холодный туман,
Мы с тобою наивны, как дети…
Аплодисменты! Сейчас он придет… Саша перестала дышать. Нет, Грачевский объявил еще какой-то романс, ей не слышно какой, но зал в восторге, судя по дамскому визгу.
Сашенька нетерпеливо перевела дыхание. Ладно, она еще подождет…
– Вы?! – раздался рядом голос, показавшийся ей знакомым. – Что вы здесь делаете, дитя мое?
Она испуганно обернулась и увидела высокомерно уставившуюся на нее… Наташу. Сиречь Клару Черкизову в одежде босяцкой девахи.
* * *
«Циркуляр министра народного просвещения Кассо о приеме евреев в средние специальные учебные заведения по жребию был издан настолько секретно, что явился неожиданным даже для высших чинов Министерства народного просвещения».
«Лондон. Учрежденная миллиардером Карнеги библиотека в Норсфилде, близ Бирмингема, уничтожена пожаром, приписываемым суфражисткам».
«Из Таврического дворца передают, что в недалеком будущем у председателя совета министров И.Л. Горемыкина состоится «чашка чая», на которую будут приглашены члены Государственной думы и Государственного совета».
Санкт-Петербургское телеграфное агентство
* * *
– Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть.
Георгий Владимирович Смольников, начальник сыскного отделения Энской полиции, откинулся на спинку стула:
– Что ему нужно?
– Не говорит.
– Ну, просите.
Конечно, после получения предостережения от начальника Московского охранного отделения следовало быть осторожнее. Полицмейстер Комендантов выставил на подступах к своему кабинету посты и на улицу выходит не иначе, как под охраною. Однако начальник сыскной полиции Смольников считает фигуру своего шефа весьма одиозною и подражать ему не желает из принципа. К тому же, рассуждает Смольников, кому он особенно помешал? Кому нужно на него бомбу тратить? Добро бы зажимал политических, а то всего-навсего чистит город от всякой уголовной швали. С помощью самих же горожан, просим заметить! Бывало так, что человек ненароком узнавал о готовящемся грабеже или другом уголовно наказуемом деянии и норовил донести в сыскное. Смольников прекрасно понимал, что делается это отнюдь не от заботы о чужом добре (тем паче – о добре государственном!). Как правило, задумают двое ковырнуть чужое добро, но станут делить шкуру неубитого медведя – и поссорятся. Один подельник пойдет да и донесет на другого: коли мне не достанется, так чтоб и тебе не досталось! А как-то раз было, что оба соучастника с небольшим промежутком времени донесли друг на дружку!
Ну что ж, фискалы во все времена были опорою государственного строя, а потому Смольников такими людьми не брезговал и привечал их. Что ж поделаешь, работа такая! Может, и сейчас очередной добровольный фискал явился? Как не принять!
Тем временем помощник отворил дверь, и в кабинет степенно вошел человек, по виду купчина из провинции. Шуба на нем была, крытая черным сукном, шапку держал в руках. Шапка обыкновенная, пирожком, а шуба… Что-то в ней не так было в этой шубе, только Смольников не мог понять, что именно не так. Понял только, что не ошибся, – дядька явно собирается на кого-то наябедничать.
Посетитель обшарил глазами стены – найдя образ, перекрестился и, отвесив хозяину кабинета чуть ли не поясной поклон, нерешительно шагнул к столу.
Смольников указал на кресло:
– Присаживайтесь.
– Ничего-с, мы и постоим-с.
– Да уж что стоять-то? – удивился Смольников. – Садитесь, садитесь же!
Посетитель сел-таки на край кресла и, разглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, стал глядеть на высокое начальство кроткими голубоватыми глазками.
Смольников не торопил, хотя не сказать чтобы такое уж большое удовольствие доставлял ему распространившийся по кабинету своеобразный и довольно-таки сложный запах: какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба.
«Нет, этот про готовящийся грабеж не сообщит, – подумал Смольников. – Этого купчину небось самого где-то грабанули. А может, я ошибаюсь? Все-таки странная у него шуба… Чем же она странная такая?»
Молчание между тем затягивалось.
– Ну, что скажете, сударь? – подал наконец голос начальник полиции.
Купец откашлялся:
– Мы сами из Выксы. Трофим Григорьевич Кошкин. Кошкин, да-с. Промышляем по торговой части. Барышей громадных не зашибаем, но и Бога гневить нечего: кое-как кормимся. Вот прибыл, значит, в Энск. По делишкам нашим пометался, зашел в трактир в Канавине. Знаете небось? «Самокатский», на Самокатской площади стоит. Конечно, всякого я наслушался про здешние трактиры: мол, как липку тебя обдерут, обсчитают, сдачи не дадут, но чтоб такое… – И Кошкин принялся долго, сокрушенно качать головой.
«Много ты, дядя, знаешь про «Самокатский трактир», – подумал Смольников. – Ишь, обсчитали, сдачи не дали… Еще скажи, чаю недолили! А не хочешь под сладкое пение «арфисток»: «Пой, ласточка, пой, сердцу дай покой!» быть зарезану, дочиста обобрану и под шумок спущену в Волгу-матушку? Оченно славились одно время такими шуточками «Самокатский трактир» и соседствующие с ним «Самокатские нумера»! Куда ж ты приперся из своей Выксы, почтеннейший? Зачем в самое тырло приперся, а?»
– Да вы говорите, говорите, – поощрил посетителя Смольников, подцепляя двумя пальцами часовую цепочку и принимаясь с ней этак небрежно поигрывать: это был если не прямой намек – время, мол, тянуть не следует, люди здесь занятые сидят, – то уже подступ к намеку точно.
Купчина продолжал качать головой. Тогда Смольников опустил пальцы в жилетный карман и нажал на кнопку сбоку часов. Они были дорогие, марки «Братья Одемар», а значит, с репетиром, то есть с боем. Раздался мелодичный звон.
Купчина вздрогнул и головой качать перестал:
– В раздевальной малый мне говорит: «Снял бы, купец, шубу, сопреешь! Здесь оставь!» Ага, думаю, оставлю тебе – ты и стащишь. Что ж мне, по морозу потом в одной поддевке бегать? За шубу небось двести целковых плачено! Как-нибудь уж не сопрею.
«Так, понятно, – кивнул сам себе Смольников. – Шубу он сохранил, зато что-то другое стряслось… Нет, все-таки странная у него шуба какая-то!»
– Сел я за стол, заказал чайку, – продолжал между тем купец из Выксы Кошкин. – Выпил чайник, выпил другой – ну и взопрел, конечно. Невмоготу стало в шубе-то! Думаю, сниму ее и под себя положу, целей будет, никуда она из-под меня не денется.
«Не делась, это я вижу», – подумал Смольников и наконец вынул часы. Но переднюю крышку, где был циферблат, пока не раскрыл, откинул только заднюю, где было отверстие для часового ключика. Вставил ключик и принялся заводить механизм.
Купец испуганно заморгал, шныряя взглядом с этих часов на лицо начальника (понял, что пора закругляться!), и зачастил:
– Так мне хорошо раздемшись стало, что и словами не передать! Выпил я еще парочку чайников, рассчитался, не пожалел гривенника расторопному половому… Встаю, чтобы облачиться в шубу, и вдруг…
Он не договорил, подскочил и с ужасом уставился на телефон, который стоял на столе у начальника сыскного отделения. Телефон разразился столь оглушительной трелью, что и сам Смольников вздрогнул, как вздрагивал всякий раз, стоило аппарату зазвонить.
Замечательная вещь – телефонизация. Однако отчего же это никто не придумает, как звон не столь громким сделать?! Дома у Смольникова Павла, нянька его детей, приспособилась класть на аппарат подушку. Результат получился самый благой, нервически дергаться семья Георгия Владимировича перестала. Однако на столе начальника сыскного отделения подушка смотрелась бы неуместно…
Приходилось терпеть. Он терпел, но к оглушительному трезвону привыкнуть не мог, а уж что делалось с посетителями…
Купец перекрестился. Смольников усмехнулся:
– Извините великодушно. – Взял трубку: – Слушаю, Смольников!
– Георгий Владимирович, это Аверьянов тревожит вас, – раздался взволнованный голос. – «Волжский промышленный банк».
– Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как же, узнал вас. Весьма рад слышать. Чем могу служить?
– У нас беда. Напали на кассиров, которые собирались везти деньги в Сормово.
– Что?!
Вот оно, о чем предупреждали из Москвы! Или обычный грабеж?
– Убитые есть?
– Есть. Трое. Приезжайте или пришлите кого.
– Еду, Игнатий Тихонович, сам еду немедленно!
Смольников вскочил, надавил кнопку электрического звонка на столе:
– Автомобиль к подъезду! Оперативников собирайте. Вооруженное ограбление.
– Извините, – затоптался в дверях помощник, – его высокоблагородие господин Комендантов отбыть изволили на автомобиле…
– Куда? К губернатору, что ли?
– Да нет, в ресторан, в «Белый медведь»…
– Надолго?!
– Сказали, пообедают и воротятся…
А, черт…
– Давно отбыл господин полицмейстер?
– Да уж второй час пошел…
Ну да, его высокоблагородие обедали с чувством, с толком, с расстановкой. Но почему при этом нужно держать возле «Белого медведя» служебную машину?!
Смольников снова мысленно чертыхнулся, выбегая из-за стола:
– Давайте сани одноконные, сам буду править! Ветрогона пусть запрягут! Или его тоже кто-то забрал?
– Никак нет-с! – уже из коридора крикнул помощник.
– На том спасибо, – буркнул Смольников, огибая сидящего в кресле купца Кошкина. И запнулся, глядя на его шубу…
Так вот оно что! Как же он раньше не сообразил!
– А как же… дельце мое-с? – оторопело забормотал Кошкин. – Шуба-с? Как же-с?
– Ничего не поделаешь, – участливо поглядел на него Смольников. – На шубу пришейте новый воротник – взамен срезанного. А в следующий раз, в самом деле, оставляйте ее у швейцара! Целее будет!
И выбежал из кабинета.
* * *
Вот уж кого Сашенька меньше всего желала бы видеть, так эту Клару!
Конечно, надо было поздороваться или хотя бы просто промолчать, однако Саша терпеть не могла фамильярности, тем паче – этого пренебрежительного «дитя мое». Тоже нашлась еще маменька!
– Кому дитя, а кому и Александра Константиновна! – проговорила она дерзко.
– Ну и кому же это, мне, что ли? – фыркнула Клара, глядя на нее сверху вниз (они были одного роста, однако эта особа как-то умудрялась смотреть на Сашеньку свысока). – А цветочек – тоже мне? – И она протянула руку к слегка помятой, но еще вполне свежей Сашиной герани.
– Не троньте! – вспыхнула та.
– А что такое? – вскинула брови Клара. – Не мне геранька предназначена, да? Тогда кому же?
Сашенька и не хотела, а побагровела. Говорят, мамочка-покойница заливалась краской так же стремительно. Интересно, почему в наследство единственной дочери она оставила только эту способность – краснеть до ушей, до макушки, до кончиков волос?!
– Ах, какая же я недогадливая! – издевательски протянула Клара. – Вознесенскому цветочек принесли, да? Божественному нашему Игорю Владимировичу? Но неужели только цветы? Неужели нет записочки? Этакой нежной записюлечки: «Люблю, обожаю, жить без Вас, без Ваших прекрасных глаз, без звуков Вашего голоса не могу…» И, конечно, каждое слово или волнистой линией подчеркнуто, или двумя чертами, или выделено жирным, и восклицательных знаков не оберешься…
Сашенька похолодела. Каким образом Клара умудрилась заглянуть в ее записку?! Ведь там все именно так, в точности! Нет, не могла Клара этого знать, это всего лишь ее догадки… Черт, до чего же обидно-верные догадки!
– Не ваше дело! – скрипучим от ненависти голосом выдавила Сашенька и отвернулась от Клары, сделала шаг в сторону. Однако та легким, стремительным движением оказалась на ее пути.
– Конечно, не мое, – сказала довольно миролюбиво. – Но вы хоть и дурно воспитанная девчонка, а все же дочь человека, с которым я… – Клара сделала выразительную паузу и продолжила: – С которым я, так сказать, коротко знакома, значит, вы мне не совсем чужая, а потому я должна заботиться о вас, хотите вы этого или нет. Мой вам совет, Шурочка…
Сашу передернуло. Она не выносила, когда ее называли Шурочкой! Сколько она себя помнила, она всегда была Сашей, Сашенькой, а Шуриком, Шуркой был брат. Шурочек, мужского ли пола, женского ли, в семье Русановых категорически не имелось!
Клара этого, очень может быть, и не знала, но Саша была убеждена, что зловредная актрисулька назвала ее ненавистным именем нарочно, с издевкой! Она уже открыла рот, чтобы запальчиво одернуть эту особу, однако следующие слова Клары заставили ее онеметь:
– Мой вам совет – оставьте эти ваши бредни! Вознесенского голыми руками не взять. Он не для вас, не для таких наивных дурочек, как вы. «Твой друг не дорожит неопытной красой, незрелой в таинствах любовного искусства», – процитировала она Батюшкова с той легкостью и свободой, с какой способны вставлять в речь стихотворные отрывки только актрисы. – Возвращайтесь к своим гимназистикам, к этим, как их там… Левушкиным, Малининым, Пустовойтовым… Аксаковым! Вот именно – к Мите Аксакову возвращайтесь, к тем самым берегам, куда его влечет неведомая сила! – Клара издевательски хохотнула, по своему обыкновению. – А Игорь, повторяю, не для вас, он уже занят – занят давно и прочно.
В любую другую минуту Сашенька, наверное, упала бы в обморок от возмущения той бездной предательства, которая внезапно разверзлась перед ней. Эта смешная, полудетская история с Митей Аксаковым… Три года назад, Саша тогда еще в гимназию ходила, отцу вдруг взбрела фантазия учить дочку английскому языку. Гимназических французского и немецкого ему, видите ли, стало недостаточно, к тому же английский начал входить в моду. Русанов тогда был частным поверенным, с государственной службой на время расстался[14], а оттого доходы его были хоть нерегулярны, но порою весьма обширны. Вот и в то время случился у отца немалый гонорар, который позволил ему нанять к Сашеньке настоящую мисс, одну из немногочисленных англичанок, ветрами судеб занесенных в Энск и прочно застрявших там. Дважды в неделю, кроме часового урока в классной, мисс Хоуп должна была сопровождать Сашу на каток (дело происходило зимой), а по пути и во время катания (что мисс, что Саша были заядлыми конькобежками) ей было предписано вести с ученицей беседы на житейские темы и помогать таким образом постигать разговорный английский язык. Однако из этой затеи мало что вышло. Как раз вплотную к Чернопрудному катку стоял дом, куда приехал на Рождество к отцу Митя Аксаков, молодой прапорщик, прошлой весной выпущенный из юнкерского училища, и стоило Мите увидеть на льду Сашеньку в компании с мисс Хоуп, как он торопливо набрасывал шинель, нахлобучивал фуражку, надевал коньки и бросался на каток. Он отвешивал поклон мисс Хоуп и шептал Сашеньке, перефразируя Пушкина:
– Невольно к этим берегам меня влечет неведомая сила! – а потом хватал ее под руку и начинал нарезать круги по льду, предоставляя мисс Хоуп вести беседы с самой собой, на английском или на русском языке – на ее собственное усмотрение. Как-то раз такой урок катания на коньках нечаянно имел возможность наблюдать отец – и страшно рассердился. Неведомо, что его вывело из себя сильнее – бездарная трата «кровью и потом заработанных денег» (отец обожал такие экспрессивные выражения… а деньги, к слову, уже подходили к концу…) или флирт дочери с сыном русановского антагониста и противника, прокурора Аксакова (дети адвокатов и прокуроров порою принуждены повторять судьбу злосчастных отпрысков Монтекки и Капулетти!), однако походы на каток были категорически запрещены, а мисс Хоуп получила расчет. Господин Аксаков вскоре переехал в Москву, товарищем городского прокурора; Митя иногда возвращался в Энск, к родственникам, но за Сашенькой более не ухаживал: сделался женихом Вари Савельевой, однако у Русановых еще долго посмеивались над пресловутыми берегами, куда когда-то кого-то влекла неведомая сила. Но это были домашние, добродушные насмешки, это была домашняя тайна, и то, что она вдруг стала известна пошлой актрисульке, отцовой содержанке (значит, он проболтался, он насмехался над дочерью вместе с этой особой!), потрясло Сашеньку до глубины души… Вернее, потрясло бы, если бы она не испытала куда более сильное потрясение от последних слов Клары: «А Игорь, повторяю, не для вас, он уже занят – занят давно и прочно!»