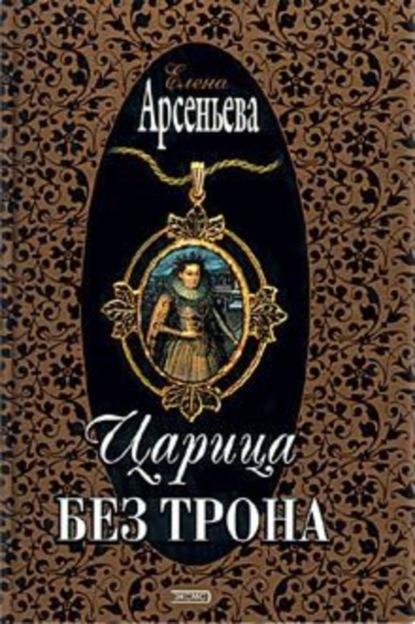Полная версия:
Елена Арсеньевна Арсеньева Гори, венчальная свеча
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Елена Арсеньева
Тайное венчание
Ю. М.
Только тебе. Всегда тебе.
Часть I
ТАЙНОЕ ВЕНЧАНИЕ
1. Венчание
– Bенчается раб божий Алексей рабе божией Елизавете…
Голос священника чуть слышен, а лица вовсе не видать. Колышется неясная тень, торопливо творя обряд.
Тьма сгустилась в углах храма, куда Алексей старается не глядеть, чтобы не встретить укоряющие взоры угодников. Слабые отсветы трепещут на пронзенных ладонях Спасителя; руки Христовы, прибитые к кресту, чудится, дрожат от боли, и князь холодеет от затылка до пят.
– Венчается раба божия Елизавета рабу божию Алексею…
Батюшка прибавил голосу, и бас его слился с грозным гулом ветра. Алексей вспомнил: когда они с Николкой Бутурлиным торопливо пробирались по залитой жидкой грязью Ильинке, церковные колокола единогласно возвещали окончание вечерни. Звонили у Михаила Архангела в кремле – тяжело, грузно, у Петра и Павла под откосом – надрывно, у Николы на Торгу – всполошенно, у Жен-Мироносиц над Почаинским оврагом – заливисто; доносился перебор с колокольни Строгановского величаво-нарядного храма – на все голоса. Слышалось Алексею, будто кто-то приказывал: «Стой! Стой! Стой!» И если б ни вышагивал рядом возбужденный, задыхающийся Николка, может, и приостановился бы Алексей, может, одумался, не явился в молчаливую, словно тайная западня, церковь на Ильиной горе, где ждала его невеста…
Впрочем, увидевши в темном уголке согбенную фигуру в черном салопчике, Алексей приободрился, встрепенулся, позабыл свое смутное беспокойство, даже сунулся поцеловать, но не тут-то было: девушка, словно стыдясь чужих, отшатнулась, отвернула укрытое флером [1] лицо.
– Виновен, запоздал! – покаянно зашептал Алексей. И это было все, что он успел молвить, ибо Николка нетерпеливо звякнул шпорой, а батюшка, прогудев: «Чада, не мешкайте!» – грузно двинулся к аналою. Николка повел невесту, жених пошел следом, и тайный обряд, развязка скороспелого Алексеева романа, начался.
– Остави отца и матерь своих и прилепися…
Алексей ощутил, что рука Лисоньки совсем застыла. Он стиснул ледяные пальцы так, что девичий перстенек впился в кожу, но князь крепче и крепче сжимал безвольную руку, словно пытаясь найти в ней опору и развеять свои внезапные сомнения.
Да что это вдруг содеялось! Что с ним? Где былая страсть, где щемящая нежность? Ведь лишь вчера слова его медоточивые рекой лились, а ныне горло иссохло от невысказанных смутных предчувствий. Отчего ж тайна, и тьма, и близость счастья не радуют, не задорят, а лишь пугают, щемят сердце?
За стенами взвился из-под обрыва клуб ветра и, объяв махонькую церковку, сотряс ее до основания. Погода поднялась жестокая, немилостивая, и Алексей, вспомнив, как безоблачно сей день начинался, снова ощутил неладное и слегка колыхнул свечкой, попытавшись сотворить крестное знамение.
Ишь, спохватился! А разве не знал, что тайное венчание – грех?! Где ж вы прежде были, разум-друг и совесть-матушка? Отчего раньше не осенили молодую, удалую, излишне пылкую головушку? Поздно теперь, поздно! Уже чуть-чуть приподняла невеста фату, открыв поцелую жениха дрожащие, холодные губы, уже произнесены последние, роковые слова, надеты венчальные кольца, и вот об руку с женой князь Алексей идет, не чуя ног, к дверям, за которыми ночь и тишина, а внизу, под крутояром, колышется лодка, и…
Алексей и его венчанная жена были уже у самых дверей, когда вдруг кто-то с такою яростью заколотил снаружи в двери церкви, что зажатые засовом створки заходили ходуном.
– Господи Иисусе! – выдохнул, крестясь, батюшка. – Ктой-то? Стража? Вовлекли вы меня, злобесники!..
– А, черт! – заскрежетал зубами Николка, выхватывая шпагу и загораживая собою молодых. – Измена?
– Отворите-е! – глухо, отчаянно раздалось за дверью, и она снова затряслась под градом ударов. – Отворите же, ради господа бога!
Алексей не поверил ушам. Этот ужасный голос… чудится, что ли? Да ведь то Неонилы Федоровны голос. Тетушки Лисонькиной!
Зачем она здесь? Сговорено же все, обдумано! Она как бы не знает, не ведает ничего о бегстве племянницы, ну а через недельку-другую Алексей с Лисонькой напишут ей уже из Москвы, а потом и в ножки кинутся, выпрашивая прощения и благословения… Сговорено-то сговорено, однако в голосе, который рвется из-за двери, такое неистовство, словно не ею же придуманное венчание вершится здесь, а самое малое – тайное душегубство!
– Погоди, Николка, – тихо сказал Алексей. – Спрячь-ка шпагу. Свои. Там тетушка. Надо отворить.
Он шагнул было к выходу, как вдруг Лисонька так стиснула его локоть, что он ахнул, удивившись, сколько силы таится в тоненьких пальчиках. Алексей оглянулся и даже в полутьме, даже сквозь густую фату различил огонь испуганного взгляда.
– Нет, не надо! – прошелестела Лисонька. – Не надо!
– Полно, милая, – молвил Алексей, и прежняя нежность внезапно прихлынула к его сердцу. – Теперь бояться нечего. Я с тобою!
Тем временем Николка поднял скрипучий засов. Дверь распахнулась. Резкий запах осенней свежести и сырости наполнил сладко пахнущий ладаном храм, и вместе с порывом ветра в полутьму ворвалась высокая фигура тетки, ростовщицы Елагиной. Алексей различил растрепанные седые волосы, искаженные черты, сердце его глухо стукнуло, а потом забилось неистово.
Она перевела дыхание, и ярость вдруг сошла, слиняла с ее лица, будто Неонила Федоровна сорвала с себя привычную личину, а под ней оказалась другая, вовсе не похожая на первую. И Алексей, глядя на ее торжествующую, злобную усмешку, понял: вот сейчас откроется некая истина. И она будет ужасна.
– Знаешь ли, кто муж твой? – проговорила Неонила, высокомерно глядя на замершую девушку. – Знаешь ли, с кем повенчана богопротивно и мерзко? – Помолчала, словно наслаждаясь созерцанием четырех застывших фигур, испуганных лиц, и выплюнула: – Венчалась ты с братом единокровным!
Общий вопль вырвался из четырех глоток, и, словно молнией пораженные, умолкли и молодые, и дружка, и поп. Неонила Федоровна приблизилась к Алексею. На лице ее играли темные тени, и вся она казалась подобием исчадия ада.
– Тебе, князенька, поди, невдомек, что Марья-то Павловна, покойница, вовсе не маменька твоя. Небось не помнишь, что в хоромы барские ты взят был из холопской избы. И родила тебя та самая Пелагея, кою кормилицею и нянькою твоею называли. Ты, князюшка, выблядок, байстрюк, незаконнорожденный, а крови твои дворянские мутной водицею разбавлены!
Замолчала, с глумливою улыбкою глядя на Алексея, который был бы поражен, наверное, менее, если бы Неонила Федоровна сообщила, что он – делатель воровских денег или атаман понизовской вольницы [2]. Только и смог, что пролепетать, хватаясь за последнюю соломинку:
– Но у меня нет сестры…
– Есть, князенька! – злорадно осклабилась в полутьме Неонила Федоровна, напоминавшая Медузу-Горгону с этими полуседыми прядями, вздыбленными сквозняком. – Есть! Запамятовал? Хотя ты еще малой был, годов пяти, не более… Тебя-то со скотницей Палашкой почему в покои взяли? Потому что цыгане твою сестру-младенца со двора снесли. Нянька проспала, цыгане подкрались – вот и сгинуло дитя. Словно сквозь землю провалилось. Никто ее в живых не чаял больше видеть, заупокойные службы служили по рабе божией Елизавете!
Что-то такое слышал Алексей… смутно припоминалось, или это сейчас казалось ему, будто слышал? Какие-то слухи о батюшкиной болезни, о тайной, смертельной тоске, которая и свела в могилу княгиню Марью Павловну…
– Дитя не нашли, – вновь раздался голос Неонилы Федоровны. – Да и как же найти было? Искали-то в лесу, у цыган, а девочка была у меня! Батюшке-князю сие небось и в голову не взошло. Где ему! Его память на баб короткая. Много таких, как я, было у него, множество! Пелагеюшка – дура из их числа. Но они все забыли да простили, а я – нет. Я – нет!..
– Наговор это! Ложь гнусная, небывалая! Не слушай, Алешка! Коли так, пускай она докажет! – возбужденно выкрикнул верный Николка.
Неонила Федоровна так резко оборвала хохот, словно его обрубили.
– Нишкни! – отмахнулась она от Николки троеперстием. – Изыди! И тебе ведь от суда не уйти, коль не смолкнешь. Ты, гвардейский офицер, соучастник кровосмесительного венчания! А что про доказательства… пускай князь молодую в дом отцов приведет, да отворит покои княгинины, что с самой ее смерти стоят заперты, да рядом с парсуной [3] Марьи Павловны свою жену поставит. Одно лицо, вылитая! Жена твоя, Алексей Михайлович, по отцу и матери чистых кровей Стрешнева-Измайлова. Повезло тебе, как видишь: ты, полукровка, дворянку столбовую взял! Радехонек будет Михайла Иванович сношеньке, возликует, что дочушку нашел родимую!
Алексей оцепенело молчал. Ни мыслей, ни чувств. Холод во всем теле – и ничего более.
Внезапно та, с которой он только что обвенчался, бросилась вперед, обогнув Алексея и Николку.
– Тетенька! За что вы меня так? – возопила она и, заломив руки, пала на колени перед черной пугающей фигурой.
Неонила Федоровна вздрогнула так, что ее даже шатнуло в сторону, потом быстро нагнулась и дрожащей рукой потянула с лица девушки фату. Глаза ее расширились, рот задрожал… она резко выпрямилась, постояла какое-то мгновение и тяжело рухнула навзничь.
Алексей, священник, Николка, разом выйдя из столбняка, бросились к ней, приподняли. Пламя свечи отразилось в неподвижных, широко раскрытых глазах.
Неонила Федоровна была мертва.
* * *Даже и потом, после, уже поуспокоившись, не мог порядочно вспомнить Алексей бывшее с ними в тот вечер, в ту ночь. Смутно, будто сквозь туман, виделось, как Николка выхватил из кармана горсть монет и сунул их в ладонь попа, а к горлу его уже было приткнуто острие шпаги.
– Пикнешь кому, – прошипел Николка, и Алексей удивился зловещему блеску глаз своего всегда веселого и добродушного друга, – тогда ищи, кто тебя отпевать станет. Понял, батюшко?
Тот лишь заводил глаза, постанывая.
– Скажешь: на молитве, мол, женщине дурно сделалось. Упала – да и дух вон. Ничего ты знать не знаешь, ведать не ведаешь, кто такая да почему. Понял ли?
– По-нял… ей-богу… – наконец прохрипел поп, и Николка, еще разок, для острастки, тряхнув его, схватил за руки молодых и вытащил их из церкви.
Тьма на крутояре стояла непроглядная. Лишь когда ветер разрывал облака в клочья и меж ними проглядывал мутный зрак луны, можно было различать дорогу.
Сначала Николка ринулся через дворы к Ильинской, да опамятовался, побежал прямо по траве к обрыву, к крутой лестнице. Ее мокрые от дождя ступени были едва различимы, но все трое, скользя, цепляясь за шаткие перила, спускались со всей возможной поспешностью.
Ноги у Алексея подгибались, он еле шел, предоставив Николке самому вести… О, господи! Невесту Алексееву? Жену? Сестру? Как теперь называть ее?! Мысли беспорядочные, отрывистые, будто удары кнута, хлестали его разум. И осознание, что злее его судьбы нет и не будет на свете, что так и суждено ему теперь в тоске и страхе жизнь проводить, подкашивало ноги. Вдруг привиделось лицо отца, искаженное гневом при встрече с сыном, который вел жизнь беспутную, праздную и наказан заслуженно.
Алексей содрогнулся, возвращаясь к действительности. Он и не заметил, когда и как миновали Нижний посад с его такими шумными днем торговыми рядами. Сейчас здесь царила тьма, слева гудел, невзирая на ночное время, приречный кабак, притулившийся, будто бесово семя, меж двумя благочестивыми церквами: Троицкой и Рождественской.
– Сейчас, – проговорил Николка. – Ужо, погодите-ка!
Он отпустил руку Лисоньки и побежал к кабаку, испустив три резких коротких свиста. Девушка пошатнулась, видимо, не в силах стоять самостоятельно, и, чтобы не упасть, привалилась к Алексею. Тот невольно прижал ее к себе, и она, будто только того и ждала, зашлась в слезах.
Алексей глянул ввысь. Тучи неслись мимо, мимо земных страхов и страданий, то открывая небо, то вновь затягивая его непроницаемой черной завесой. Не было дела им, быстро бегущим, до двух несчастных, что стояли на берегу разбушевавшейся Оки.
Прибежал запыхавшийся Николка, волоча какого-то мужичонку в треухе и хилом армячке. Мужичонка что-то невнятно выкрикивал, то вынимал из-за щеки, то вновь прятал туда две монеты – очевидно, данные ему Николкою. С этим мужичком, понял Алексей, и было сговорено еще вчера о перевозе в заречное Канавино, откуда уже лежал дальний, объездной путь на Москву, к отцу… К отцу!
– Прости, барин! – наконец-то членораздельно выговорил мужичок, и только тут заметил Алексей, что тот едва держится на ногах с перепою. – Что попритчилось-то? Вышел еще засветло к берегу – а лодчонки нет как нет. Лихие люди кругом, разве уследишь? Пустили меня, бедного, по миру. Да и погода, батюшка, погодка суровая. Как пить дать, затопит. Лучше бы завтра вам отправиться, а к завтрему я лодку для вас сыщу.
– Будь по-твоему, лапотина черная! – Николка переводил взор с бушующей реки на трясущегося не то от холода, не то со страху мужичка. – Иди уж, допивай свое. Мы переночуем на этом берегу, а утром переправимся.
– В своем ли ты уме?! – вскинулся Алексей, но Николка, сверкнув на него глазами, подтолкнул пьянчужку к кабаку. Подождал, пока за ним захлопнулась дверь, произнес с укоризной:
– Ты что? Да он же выдаст нас, если… сам понимаешь! Надо след замести. Конечно, сейчас же и отправимся, но не в Канавино. Коли поп проговорится, нас там поутру первым делом искать будут. Там или на тракте московском. Слушай-ка, у стрелки расшива [4] на якоре стоит: чем свет в Казань пойдет. Я третьего дня невзначай разговор на Торгу слыхал. Доберемся, попросимся… а уж из Казани вернемся, как ни в чем не бывало: ты – в Белокаменную, я – в полк. Так оно верней будет.
– Хорошо. – Алексей благословил бога за эту верную, непоколебимую дружбу, последнее свое утешение и надежду в горестях и напастях нынешнего дня. – Делай, как знаешь. Только на чем плыть-то? Лодку ведь увели?
– Тьфу! Прости господи! – осерчал Николка. – Ты что, белены объелся? Или умом повредился? Да перевозчик, подлая душонка, врал, цену набивал! Очень хотелось дать ему затрещину-другую, чтоб поползал, зубы собирая… Ладно, пусть свои два гроша пропивает. А лодчонка-то его нам свою службу таки сослужит. Я знаю, где он ее держит. Вон там, у самой воды, под сараем.
Лодка была на месте, но до чего же оказалась эта посудина жалкой! Когда Алексей с Лисонькой разместились, а потом, резко оттолкнув лодку от берега, через борт перевалился и Николка, она просела, зачерпнув воды.
– Табань, табань правым! – испуганно вскрикнул Николка, ловко уворачиваясь от волны, едва не затопившей суденышко возле самого берега.
Гребцы с трудом справлялись с веслами, но воды прибывало.
Николка пошарил под банкой, вытащил деревянный ковшик, сунул его Лисоньке. Поняв без слов, она нагнулась и послушно зацарапала по дну, да неловко, слепо: мокрый флер липнул к лицу.
– Полно, княжна! Не до церемоний, право! Сбросьте эту тряпку, вычерпывайте проворнее, не то мы через две сажени ко дну пойдем!
«Княжна! – так и пригвоздило Алексея. – Княжна… господи! Помоги! Помоги мне, ей! Сотвори чудо, господи, и, клянусь, я… я…»
Он невольно всхлипнул и впервые порадовался разыгравшейся стихии, скрывавшей следы его малодушия.
Между тем Николка налегал на свое весло. Чтобы лодка ровно держалась против волны, Алексей тоже вынужден был грести изо всех сил.
Они потеряли счет времени, были мокры насквозь, жестоко иссечены ветром, когда сквозь тьму забрезжил слабый огонек на борту расшивы, то взлетающей вверх, то резко падающей вниз.
– Эй! – яростно табаня, завопил Николка и закашлялся, захлебнувшись ветром. – Э-ге-ей!
– Эй, на расшиве! – закричал и Алексей, приподнявшись, но едва не свалился в воду, вцепился в борт.
Все свистело, гудело вокруг, новая волна нахлынула… Вдруг раздался тяжелый удар, лодка с размаху врезалась в борт, затрещала, словно расколовшаяся яичная скорлупка, и мгновенно пошла ко дну.
Алексей вырвался из-под толщи воды, отмахнул с лица мокрые пряди. Лихорадочно сорвал тяжелый, пропитавшийся водой кафтан, а потом, зажмурясь, нырнул и начал стаскивать тянущие ко дну, будто камни, сапоги. Наконец выметнулся на поверхность, задыхаясь, хватая ртом ледяной, жгучий воздух, с хрипом перевел дух и прямо перед собой увидел белое лицо Николки с черными провалами вместо глаз.
Алексей огляделся, ловя короткий проблеск луны. Оказывается, их уже снесло по течению, расшива таяла в ночи, но справа на берегу смутно виднелись очертания кремлевской стены – значит, они смогут туда доплыть. Тотчас луна вновь ушла за тучу, и Алексей вдруг сообразил, что видел рядом только Николку, а больше никого нет. Река была пуста…
«Господи! Господи, что же это?!»
Когда некоторое время назад Алексей всем сердцем молил бога сотворить чудо и спасти его от позора, едва ли он сам осознавал, о чем, собственно, просит. Но теперь, теперь… теперь, когда хмельная от шторма Волга ярилась вокруг, он, приподнявшись над волнами в последнем усилии, вдруг закричал:
– Лисонька! Ли-и-сонь-ка! – Завопил истошно, отчаянно, готовый сейчас душу заложить дьяволу, только бы услышать отклик на свой зов.
Но не было ему ответа.
Волна хлестнула Алексея по лицу и разбилась на мириады брызг. Нет, это не волна, его жизнь разбилась вдребезги вместе со всеми грезами юности! И он завыл, захлебываясь, вырываясь из рук Николки, который пытался заставить его грести к берегу.
2. Елагин дом
В середине XVIII века нижегородские обыватели хорошо знали двухэтажный дом на склоне Егорьевской горы, называемый Елагин дом.
Некогда служил Василий Елагин при доме Измайлова, возвысился до личного камердинера князя и, видать, настолько хозяину потрафил, что был им отпущен на волю с содержанием, достаточным для нескудной жизни. Изрядное приданое получила также Неонила, горничная молодой княгини, которую самолично сосватал Василию князь-батюшка. Присоединив к дарованию князя те денежки, кои удалось выручить с помощью собственной удачливости и оборотливости, давая их в рост, Василий Елагин жил безбедно, хоть и воспитывали супруги дальних родственниц Неонилы Федоровны, сироток. Ту и другую крестили Елизаветой, ну кликали их Лисонькой и Лизонькой.
Приемыши звали опекунов тетей и дядей, однако соседи судачили, что такой-то заботе и родное дитя позавидовать может! Неонила попечением старой княгини Измайловой в юности получила преизрядное по тем временам домашнее воспитание и образование. Нрав она имела суровый, непреклонный, так что, в свою очередь, воспитанием и образованием девочек занималась со всею серьезностью, словно готовила их не для тихой провинциальной жизни и замужества в наилучшем случае за купцом средней руки или местным обывателем, а для чего-то несравнимо большего. Глаз она с них не сводила ни днем ни ночью, пеклась о них неусыпно и, даже выпуская малышек погулять в крошечный садик при доме, связывала их руки платком, чтобы, храни боже, девочки не разбежались и не потерялись. Впрочем, для прогулок у них оставалось вовсе и немного времени.
Девочек будили раным-рано, зимою еще затемно. Неонила Федоровна с вечера приготовляла для них длинный стол в столовой комнате, положив каждой грифельную доску и грифель. После молитвы, которую девочки читали по очереди, опасливо поглядывая на суровый лик тетушки, сестрицы садились за стол и брались за уроки, торопясь успеть до завтрака. Иначе его могло и не достаться.
В первую голову учили девочек русской грамоте. В моду безудержно входили иностранные языки, особенно – любимый государыней Елизаветой Петровной французский, и девочки изрядно болтали по-французски, расширяя запас слов штудированием двух книг без начала и конца, об одних обложках, – чудом сохранившихся у Неонилы Федоровны остатков многотомного романа Готье де ла Кальпренеда «Клеопатра» с тщательно вымаранными сценами любовных объяснений.
Сестрицы несколько умели рисовать, сделали успехи в танцах – в тех, понятно, что плясывали в пору молодости их наставницы. И хотя, конечно, все это было далеко от утонченной светской дрессировки, их можно было представить в приличном обществе, не краснея за манеры и обхождение.
Что было главным для девицы той поры? Умение церемонно отдать поклон, сделать реверанс, ходить грациозно и жеманно, держаться чрезвычайно прямо. Сестрицы это умели. И не только это!
Обе кухарничали, превосходно рукодельничали: шили, плели кружева, вышивали в пяльцах, вязали носки. Умели мыть белье, знали секреты простонародных зелий, которыми следует пользовать разные хвори… Словом, их воспитание и образование было самой причудливой смесью провинциализма и светскости.
Обе ничего не ведали о своих родителях. Единственное, что сообщили им со временем, – они не родные сестры, а двоюродные, а отцы да матери их сгибли от морового поветрия. Тем и удовольствовались: прошлого для них не существовало. Обе жили нынешним днем, всецело подчиняясь Неониле Федоровне, которая очень умело накидывала узду на их мысли, чувства, желания и поведение.
Им ни в чем не было различия – ни в одежде, ни в еде, ни в добром или худом слове. Они носили одинаковые салопы, рубахи, сарафаны, платки. Две одинаково причесанные головки, льняная и русая, одинаково прилежно склонялись над книгою или шитьем. Они были ровесницы и крещены одноименно. Но прошло совсем немного лет, и стало ясно, что нет в свете двух менее схожих существ, чем эти сестрицы: Лисонька и Лизонька.
Лисонька заневестилась рано. Ей не было еще и тринадцати, когда ее большие глаза, темно-карие, зеркальные, обрели то умильно-застенчивое выражение, которое заставляло мужчин невольно оглядываться на нее. Одетая по-русски, как и полагалось девушке из небогатой обывательской семьи, она держалась с ужимками настоящей барышни.
Высокая ростом, как и ее сестрица, Лизонька была поплотнее, покрепче, но лицо – что у ребенка: крутолобая, курносенькая простушка! Хороша у нее была только коса: длинная – до подколенок, толстая – едва обхватишь, шелковистая – не чета сестриной! Надо лбом и на висках по-детски завивались кудряшки. Глаза у нее были очень светлые, серые, с тем молочно-мутноватым налетом, который можно увидеть у младенцев или у людей, проснувшихся после долгого крепкого сна. Несколько неловкая, она и впрямь казалась вечно дремлющей, что, впрочем, не мешало ей и работать споро, и в науках опережать хваткую, да забывчивую Лисоньку. Редко, очень редко, лишь под действием самых сильных потрясений, слетала с нее эта сонливость. Всего один такой случай могла бы привести Неонила Федоровна, но уж он-то надолго запомнился ей!
Было девушкам тогда лет по шестнадцати.
Настал день первого мая. С самого утра по улицам начали ездить рейтары с трубами и во всеуслышание объявляли, что по окончании обедни имеет быть военный парад, а затем увеселения с музыкой и потешными огнями в честь годовщины основания Вознесенско-Печерского монастыря.
Вся Благовещенская площадь была уставлена каруселями и балаганами, помостами для музыкантов. Говорили, что нижегородская военная команда должна показать примерное сражение. А пушкарский мастер якобы приготовил фейерверк с бенгальским огнем, который и собирался запалить на Поганом пруду.
А невдалеке, на Откосе, в закоулочках, вершилась иная потеха. Здесь появился сергач [5].
Поводырь медведя был примечателен. Цыган высоченный, косая сажень в плечах, курчавый с проседью, бородатый да горбоносый – красавец собою, да беда: с одним глазом – карим, горящим, выпуклым. Второй глаз его был прикрыт сморщенным, стянутым веком со шрамом. Этот невольный прищур придавал красивому лицу цыгана выражение злобного лукавства. Впрочем, на то мало обращали внимания, наверное, потому, что не лукавого цыгана еще никому видеть не приходилось. Да и медведь у него был хорош: громадный, с лоснящейся от сытости шерстью, со светлыми пятнами на загривке, изобличавшими матерый возраст.
– Ну-ка, Михайла Иваныч, поворачивайся! – басил цыган, и никто не замечал сию обмолвку, что медведя не Михайлом Потапычем, как испокон веков на Руси ведется, а Михайлой Иванычем он кликал.
– Ну, ну, морэ [6]! Привстань, приподнимись, на цыпочках пройдись, поразломай-ка свои кости! Вишь, народ собрался на тебя подивиться да твоим заморским штукам поучиться! – балагурил цыган.
Левой рукой он держал цепь, привязанную к широкому ременному поясу, а правой – увесистую орясину, на которую медведь изредка неприязненно косился. Повинуясь руке хозяина, который дергал и немилосердно раскачивал цепь, зверь сперва с необычайным ревом поднялся на дыбы, а затем начал истово кланяться на все четыре стороны, опускаясь на передние лапы.
– А покажи-ка ты нам, Михайла Иваныч, как молодицы, красные девицы в гости собираются, студеной водою умываются!