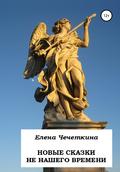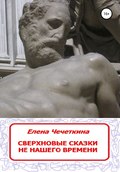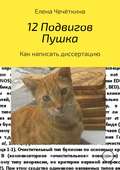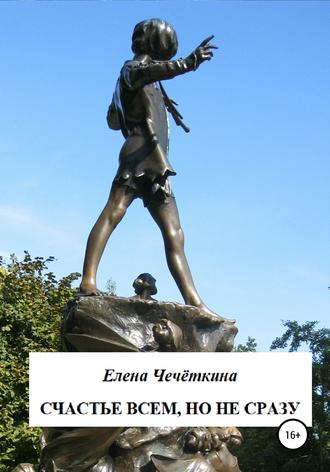
Елена Александровна Чечёткина
Счастье всем, но не сразу: сверхпопулярная типология личности
4. Сказка как источник познания
Существует единственный способ понять множественную личность (да и любую другую Личность, по типу сильно отличающуюся от характерного для Вас типа/типов) – эмпатия. Иностранное слово, означающее, грубо говоря, умение «влезть в шкуру» другого, почувствовать чужую шкуру (и потроха) своими собственными. Эмпатия отличается от «симпатии» тем, что «шкура» может Вам и не нравиться, но Вы со-чувствуете её обладателю. Мак-Вильямс советует своему читателю (действующему или будущему психотерапевту):
“Я бы рекомендовала читателю, независимо от его теоретической ориентации, попытаться постигнуть феномен диссоциации, используя «чувственно близкий опыт» – проэмпатировать внутренним переживаниям человека, который чувствует и ведет себя так, как будто состоит из многих различающихся собственных «Я»” [3, c.421].
Совет хорош для клинициста, мимо которого ежедневно проходит множество «странных» людей, изначально настроенных на обсуждение своей специфики. А если Вы не профессионал, и окружающие Вас люди «нормальны» (или изо всех сил стараются казаться такими); тогда кого Вам эмпатировать? Реальные люди, кроме самых близких, обычно защитно-закрыты – или слишком сложны. Именно поэтому в данном цикле «сверхпопулярных» лекций выбран прием апелляции к литературным образам, причем к образам детских/юношеских книг.
И вообще, Вы не задумывались, почему человек читает (если вообще читает) только лет до 20–25? Позднее, за редким исключением, идут, в лучшем случае, чисто развлекательные или «модные» книги. Любому детёнышу надо познавать мир, куда он вступает – это условие выживания, инстинктивная потребность. Естественное удовлетворение инстинкта приносит радость: ребёнок читает, потому что ему это нравится! И радость ему приносят именно психологически «правильные» книги – их героев любят, с ними смеются, с ними плачут; они воспринимаются как частичка тебя самого. Эмпатия. Позднее этого уже не будет. Но опыт эмпатии, опыт разнообразия психических миров уже получен. А детские книжки – потрепанные, любимые, сохраняются в памяти как никакие другие. К этому источнику я и обращаюсь.
И еще – Вы не задумывались, почему в детстве и юности любимыми жанрами являются сказка и фантастика? (Для девушек еще – любовные романы, которые тоже, в узких рамках жанра, фантастика). Зачем они, если цель чтения – подготовка к реальной жизни? Затем, что будущее пока НЕ реально. Если бы оно реализовалось точно в тех же формах, что и для предыдущего поколения – вот это и была бы настоящая фантастика. Каждое новое поколение живет в новом мире – так было всегда, а с конца 19 века дело усугубилось еще научно-технической революцией: технический антураж начал меняться слишком быстро. И тогда появляются «технические» фантасты (Жюль Верн, Герберт Уэллс). Не важно, что куча их предсказаний совершенно не оправдалась, а важно то, что для вступающего поколения стресс дезадаптации к технической эпохе был снят.
Середина 20 века. Атомная бомба, выход в космос, жестокие социальные эксперименты. Все предварялось соответствующей фантастикой (Беляев, Стругацкие, Кларк, Азимов, Лем). Конец 20 века. Вызревание новой компьютерно-информационной цивилизации – те же и новые имена. Но за технической/социальной стороной дела как-то терялась «психологическая» фантастика, хотя она присутствовала всегда: те же Уэллс (Человек-невидимка), Лем (Солярис), Азимов (Я – робот). Да что там Азимов! Оказывается, современный психологический хит – множественная личность – был предварен Стивенсоном 125 (сто двадцать пять!) лет назад. Правда, не без ошибок (их мы обсудим в следующем разделе), но «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» [26] дает нам эмпатическую возможность “постигнуть феномен диссоциации” (по вышеприведенному выражению Мак-Вильямс [3]) без соответствующего клинического опыта.
5. Ошибка доктора Джекила
Вкратце история доктора Джекила такова (напоминаю – для тех, кто читал книгу или смотрел экранизацию, или ввожу в курс дела – для всех остальных). Респектабельный и добродетельный доктор Джекил не хочет портить свой внешний и внутренний имидж существующей в его «Я» примесью – увы! – бессовестного искателя удовольствий; он выделяет эту «примесь»; вполне научным образом, изготовив специальную тинктуру. Под действием препарата телом и сознанием доктора Джекила завладевает «мистер Хайд», который пускается во все тяжкие под возмущённо-сочувственным присмотром Джекила. С течением времени Хайд постепенно набирает силу, «возвращаться» в Джекила (прием того же препарата) становится все труднее, а тут еще – о ужас! – тинктура перестает действовать, так как новые партии ингредиентов для ее изготовления оказываются непригодными: по-видимому, первая партия содержала какую-то необходимую примесь. Под действием последней порции годного препарата Джекил пишет объяснительную записку своему другу, самопроизвольно превращается в Хайда, а тот вынужден покончить с собой дабы избежать виселицы за все дела, сотворенные в процессе своих увеселительных прогулок.
Боюсь, что голый сюжет не вдохновляет на чтение самой повести. А вы все-таки попробуйте, если еще не читали. Тогда поймете, чем конспект отличается от живого произведения.
“… и вот в одну проклятую ночь я смешал все элементы, увидел, как они задымились и закипели в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна. Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришёл в себя, словно после тяжкой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая лёгкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным – рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом… И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я” [26].
Тут Стивенсон совершенно прав: все субличности – равноправные члены «Я». Заболевание состоит в их разделении, лечение – в интеграции. Процесс этот обычно длительный, может тянуться годами, но «укорочение» времени противопоказано. С диссоциативными людьми оно не только бесполезно (для формирования доверия требуется длительное время, и “преждевременное давление на пациента только усиливает недоверие), но может привести и к прямо противоположному эффекту. Не следует делать ничего такого (особенно в деле оказания помощи ментальному здоровью), что привело бы к повторной травматизации человека, уже и так израненному больше, чем остальные” [3, c.438].
А теперь поговорим об «ошибках» Стивенсона, чтобы, наслаждаясь произведением и эмпатируя феномен МЛ, читатель имел в виду и современное клиническое описание этого феномена. Во-первых, отсутствует абъюз – классический инициатор множественности. (Хотя надо отметить, что множественная личность начинается с абъюза не всегда – и это даже для известных, клинически описанных случаев; необходимыми условиями развития МЛ являются только природная склонность к диссоциации и способность к самогипнозу). У Джекила абъюза нет. Вместо детского стресса – внутренне подавление:
“… но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не такие уж предосудительные удовольствия. Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности своих лучших стремлений – те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей” [26].
Во-вторых, субличности имеют раздельные памяти (за возможным исключением так называемой личности-хозяина, о которой ниже). У Стивенсона – наоборот: и Джекил, и Хайд знают друг о друге всё. Но это не мешает им относиться друг к другу совершенно по-разному:
“Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура), то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу, и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес. Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием” [26].
В-третьих, обладая раздельными памятями, субличности владеют общим телом, хотя могут представлять его для себя по-другому, в зависимости от субличности – временного хозяина. Этот феномен все же заметен окружающим – на уровне поведения и реакций тела: меняется мимика, голос, рисунок движений (походка и др.), даже рост (сгорбился – распрямился). Но у Стивенсона тело меняется до неузнаваемости, в сущности, это – другое тело:
“ – Сэр, – сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами, – это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин, – тут он оглянулся и перешел на шёпот, – мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик…” [26].
В-четвёртых, собственно расщепления на две (или больше) личности не произошло: отщепился только Хайд:
“В результате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой оставался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему” [26].
То есть, Стивенсон описывает не фрагментацию «Я» а, скорее, дубликацию части «Я» в виде самостоятельной субличности при полном сохранении личности-хозяина. Что означает этот термин? По Мак-Вильямс “«Я» индивида с нарушением по типу множественной личности… фрагментировано на несколько отщепленных частичных собственных «Я», каждое из которых представляет некоторые функции. В типичных случаях к ним относятся: личность-хозяин (она наиболее очевидна, чаще обращается за лечением и имеет тенденцию быть тревожной, дистимической и подавленной), инфантильные и детские компоненты, внутренние преследователи, жертвы, защитники и помощники… Хозяин может знать всех, некоторых, или никого из них” [3, c.429].
Вот четыре основных «ошибки» Стивенсона. А какова же ошибка доктора Джекила, которая привела его к трагическому финалу? Он сам о ней написал в своей прощальной записке:
“Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявший из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность, и тем самым сохранял его силы” [26].
Тот, кто пытался стать «сам себе психотерапевтом» по популярным книжкам, наверняка читал фразы-заклинания «Примите себя самого» и «Примите ответственность за себя». Без конкретного контекста и соответствующих разъяснений это только раздражает. Вот вам и контекст. А к стандартным советам я бы прибавила «Понимайте себя» – для чего, собственно, и написана эта книга.
Домашнее задание
Тема была трудной и спорной, так что обойдемся без домашних заданий. Гуляйте! Тем же, не хочет гулять, а хочет понимать (только без фанатизма!) предлагаю почитать на тему множественной личности две современные книжки: беллетризованную историю болезни [27] и чистой воды детектив [28]. Оба автора, в рамках жанра, серьезно подходят к теме, а Киз, помимо прочего, еще и профессиональный психолог. Но – странная история с доктором Кизом! – выдуманный Чарли Гордон, герой его фантастического романа [29], оказывается гораздо живее и эмпатичнее реального Билли Миллигана, документально описанного в [27]. А вы говорите – «какие-то сказки»…
Лекция 8. ПАРАНОИДНАЯ ЛИЧНОСТЬ – в натуре и в проекции
1. Вступление эмпатическое: подозрительная подмена терминов
Тема параноидного типа личности всколыхнула во мне соответствующие эмоции. Что поделаешь, эмпатия!
Прежде всего, показалось несправедливым, и даже обидным, что человека с шизоидным типом личности, более того, с шизоидным расстройством личности, называют “шизоидом” – и никто не клеит ему при этом ярлык “шизофреника”. А вот “параноиком” обзывают всех: и явно больных (так называемое бредовое расстройство с устойчивым отрывом от реальности при помощи формирования стройной бредовой системы) и полу-больных параноидным расстройством личности (связь с реальностью достаточно прочная для обеспечения безопасного функционирования вне стационара, так как за бредовыми построениями бдительно следит трезвое “Я” – хотя всего уследить не успевает), и здоровых людей с определенной организацией характера – параноидным типом личности. Простая справедливость требует, чтобы здорового звали параноид, а больного – параноик. Так нет же! И в народе, и в психиатрической среде всех их называют только параноиками.
Мои подозрения, что здесь что-то не так, что существует заговор против целой категории населения, усилилось после проверки термина в “Большом толковом психологическом словаре” Артура Робера (вышел в США в 1985 и 1995 году – но от нас его скрывали до сих пор!):
“ПАРАНОИК (и ПАРАНОИД). Первоначально термин параноик использовался в отношении людей, страдающих диагностированной паранойей, а термин параноид – в отношении тех, кто проявляет некоторую подозрительность и бредовые тенденции, характерные для этого расстройства. Это различие, которое было полезным [вот! – ЕЧ], сегодня совершенно утрачено, и оба эти термина часто используются взаимозаменяемо” [Словарь, т.2, с.17].
Уже лучше, хотя несправедливость сохраняется: никто же не путает шизоида с шизофреником, а с параноидом такое можно?! Вы представляете себе женщину, которая с гордостью признается, что любит параноика? А ведь любить параноида гораздо лучше, чем шизоида: шизоидная личность холодновата для любви, а параноидная личность вполне теплая – иногда даже слишком.
А что касается “диагностированной паранойи”, то оказалось, что такого заболевания, как паранойя, сейчас вообще нет! Ее запрятали под рубриками “параноидная шизофрения” (F20.0 по МКБ-10) и “хроническое бредовое расстройство” (F22). Это что же такое творится?! Значит сейчас, если новый Бехтерев поставит новому Сталину вместо паранойи это самое ХБР, результат консультации (для Бехтерева) изменится? Очень сомневаюсь. Что-то не нравится мне эта терминологическая возня: пора кончать разброд и шатания. А поможет мне в этим хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.
2. Вступление неэмпатическое: «Пациент, на осмотр!»
Тут главная задача – отловить пациента. Врачи это хорошо знают:
Параноидный человек должен очень глубоко страдать для того, чтобы обратиться (или же его приводят) за психологической помощью: параноидные личности не расположены доверять посторонним. В противоположность депрессивным, истерическим и мазохистическим людям, высокофункционирующие параноидные индивидуумы стремятся избежать психотерапии, если только они не испытывают серьезной эмоциональной боли или не доставляют значительного беспокойства другим” [3, с.267].
Я не хочу запугивать читателя заявлениями типа: «параноики вокруг нас!», запугаю лучше так: «параноидность внутри нас!» Похоже, что параноидная компонента личности вообще чрезвычайно распространена – именно она обеспечивает основу для массированных манипуляций, вплоть до манипуляций целым народом. Вспомните-ка: Гитлер, Сталин… В нашей «особо духовной» стране десятки миллионов жили в членовредительной колее параноидного мышления. До тех пор, пока сами не попадали в категорию “врагов народа”. Да и тогда большинство искренне недоумевали в том же стиле: “Ошибка! Я не такой – это ОНИ такие!”
Друзья! Соображать самостоятельно полезно: мало ли что готовит нам будущее. Поэтому предлагаю вам ознакомится с клиническим описанием параноидного расстройства личности по DSM-III-R:
“А. Начинающееся в ранней взрослости и проявляющаяся в различных контекстах глубокая и необоснованная склонность интерпретировать действия людей как преднамеренно унижающие или угрожающие, на что указывают по крайней мере четыре признака из следующих:
1) безосновательные ожидания больного, что другие будут эксплуатировать его или причинить ему вред;
2) неоправданные сомнения в лояльности или надежности друзей или партнеров;
3) обнаружение скрытого уничижающего или угрожающего значения в нейтральных замечаниях или событиях, например, подозрения в том, что сосед выносит мусор рано утром, чтобы досалить ему;
4) больной питает неприязненные чувства и не прощает оскорбления или неуважения;
5) не доверяет другим из-за необоснованного опасения, что информация будет использоваться против него;
6) чувствителен к неуважительному отношению и быстро реагирует гневом или отвечает контратакой;
7) неоправданно ставит под сомнение преданность супруга или внешнего партнера.
В. Наличие данных симптомов не только в остром периоде шизофрении или бредового расстройства” [1, с.144]
.
И мы не будем об “остром периоде”, но Вам знакомы эти милые черточки, не так ли? Вы способны увидеть их в окружающих – и, быть может, в себе? Отлично! Тогда попробуем разобраться, что за ЖИЗНЬ у параноика (в современном – широком – смысле термина).
3. Образ жизни – ПРОЕКЦИЯ
“Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел из Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:
– Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса; вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, – я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основой нашего благосостояния. Эта война справедливая: стереть дурное семя с лица земли – значит верой и правдой послужить богу.
– Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса.
– Да вот они, с громадными руками, – отвечал господин. – У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.
…………. [Сражение]…………..
– Ах ты, господи! – воскликнул Санчо. – Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее, и что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.
– Помолчи, друг Санчо, – сказал Дон Кихот. – Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы – так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят перед силою моего меча.
– Это уж как бог даст, – заметил Санчо Панса” [30, с.64].
Не надо быть врачом-психиатром, чтобы унюхать острый психоз – состояние, при котором связь с реальностью потеряна и/или искажена до неузнаваемости. Так почему же и сам Дон Кихот, и процитированный выше знаменитый эпизод с мельницей веками вызывают столь восторженные чувства у не самой глупой части населения – читателей? Подкупает благородство помыслов и безоглядная храбрость? Но ведь храбрость – от болезни, а насчет бездумного благородства уже давно сказано о благих намерениях, которыми дорожка в ад вымощена… Кстати о помыслах: вы заметили, что, планируя нападение, Дон Кихот вначале печется о трофеях, а уж потом оправдывается тем, что истребление великанов – богоугодное дело.
Ну, насчет помыслов Божьих я не в курсе, а вот эпизод с мельницами, как и в целом модель поведения Дон Кихота, откомментировать могу. Это – ПРОЕКЦИЯ. Основная защита параноика, точно так же, как изоляция и дистанцирование – основная защита шизоида. Если бы Дон Кихот обладал шизоидным типом личности, то, начав читать рыцарские романы, он и не остановился бы до самой смерти, постепенно “отключаясь” от реальности. Но Дон Кихот, вдоволь начитавшись, выехал – рыцарем – во внешний мир. Спроецировал свое фантастическое внутреннее “Я” в реальный социум.
А в любом социуме (в тоталитарном – в особенности) не рекомендуется выносить свое истинное «Я» на всеобщее обозрение. В этом есть свои резоны – но и великое искушение. Может, наше восхищение Дон Кихотом вызвано как нашим историческом прошлым, так и его безумной свободой в активном выражении собственного «Я»: большинство из нас не умеют (или не смеют) этого делать, а некоторые даже и не представляют, где оно, их «Я», обретается. Однако погодите восхищаться: с “Я” параноика все не так просто.
Проекция в психоаналитическом смысле слова относится, увы, к примитивным защитам [3, c.144], то есть, к защитам, используемым младенцем в процессе налаживания первоначальных отношений с внешним миром. Основа проекции – недостаточное разграничение мира внешнего и внутреннего. До определенно возраста младенец просто не в силах осознать эту грань: если болит – это БОЛЬ вообще, а не колики в животике, если холодно в колыбельке – это вселенский ХОЛОД, и так далее. С возрастом такие примитивные формы проекции изживаются, но всякий раз, когда человек принимает происходящее внутри него за внешнее явление – он применяет ту же «проекцию». Зачем? Как говорят в народе: «С больной головы на здоровую». Как говорят психоаналитики: проецируется нарушенная часть «Я»; значит, в целях компенсации напряжения. Спроецировал – полегчало. Но для окружающих важно, ЧТО проецируется (компенсируется), и на каком УРОВНЕ.
Проецируется обычно всякая гадость – то, что сам человек за собой категорически не признает (отрицает): тщетно подавляемая агрессия, тягостное чувство вины, унизительный стыд, изматывающий страх, и так далее. Хотя существует и любопытное исключение. Известно, что состояние влюбленности характеризуется проекцией идеального образа ЕЕ (или ЕГО) на реальный, обычно весьма далекий от совершенства, прототип. Потом – ах! – «обман» раскрывается, но уже поздно: родился ребенок и ему нужна семья (вот поэтому и говорят, что «браки заключаются на небесах» – на твердой земной почве такую глупость не совершишь).
Однако, что плохого в такой проекции, когда возлюбленный кажется богочеловеком? То же, что и во всякой проекции – она НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОСТИ, и рано или поздно приходит с ней в конфликт. Но согласились бы мы на жизнь без этой нормальной проекции? А разрешение соответствующего конфликта – это и есть семейная жизнь, которая тем удачнее, чем больше реальных корней имела исходная проекция.
Проекции Дон Кихота к разряду нормальных уже не относятся. Образ прекрасной дамы проецируется на смазливую крестьяночку из соседнего селенья, “в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо… [30]” Получилась Дульсинея Тобосская, к которой и прикасаться не надо. Принятое у рыцарей «служение прекрасной даме» – суррогат влюбленности, поскольку ни ребенка, ни последующую сверку с реальностью не предусматривает.
Но основная проекция Дон Кихота – его практическая деятельность в форме защиты «униженных и оскорбленных». Вот за это-то его и вознесли на пьедестал. Но стоит ли? Давайте подведем итоги по результатам его первого краткосрочного выезда, еще без Санчо Пансы.
Во-первых, трое тяжело раненых погонщика – они поочередно пытались напоить скот из корыта, которое Дон Кихот выбрал местом положенного по уставу бдения над оружием (“Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье, и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу”).
Во-вторых, обеспечил дополнительную трепку и лишил работы плутоватого мальчишку-пастуха (“ – Поди-ка сюда сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг… Тут он схватил мальчугана за руку и всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив”).
В-третьих, попытался защитить честь своей дамы (на которую, впрочем, никто всерьез и не покушался), таким образом: “ – Вы же мне заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту соей повелительницы. – С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось” [30].
Так ЧТО же проецирует Дон Кихот? Прежде всего, агрессию и чувство вины. Не надо бить меня копьем по голове, послушайте лучше самого Сервантеса!
“Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам, был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник… Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга, – а досуг длился у него чуть ли не весь год, – отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти забросил не только охоту, но даже свое хозяйство, и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрети их, он продал несколько десятков пахотных земель… [30]”.
Охота – занятие агрессивное. И неужели здоровый пятидесятилетний мужик (между прочим, время кризиса «середины жизни») не понимает, что должен заниматься делом – хозяйством (ведь он в ответе еще и за юную племянницу!), а не продавать родовую землю и бездельничать. Кроме того, ему следовало бы уже иметь семью, а он не способен обольстить даже крестьянку. Выход из кризиса для параноидной личности – отрицание жизненного провала; проекция.
Для укрепления проекции необходимо действие – параноики обычно очень активные люди. Они непрерывно функционируют. В психологическом плане различают три уровня патологического функционирования: невротический, пограничгый, психотический. Возьмем, к примеру, отрицаемую фантазию о собственной неверности, проецируемую в форме патологической ревности. «Нормальный» параноик знает за собой эту слабость и стремится не потакать ей: в силу своего личностного типа он неизбежно будет отмечать все подозрительные мелочи, но будет действовать (разговор с женой, собственное расследование) только в случае веских доказательств.
На невротическом уровне любая мелочь болезненно фиксируется и взывает к немедленному реагированию – не всегда адекватному (к примеру, хронометраж жены), но, в принципе, социально допустимому. На пограничном уровне граница явно преодолена – в доме непрерывно скандалы и женские слезы; ситуация настолько тяжела для жены, что даже если она поначалу была кристально чиста – теперь мысли о жизни с другим и в самом деле одолевают бедную женщину. Тем самым пограничный параноик произвел проективную идентификацию; на этом уровне ему еще требуется подтверждение проекции реальностью – он его и получает по принципу «сделай сам». А на следующем, психотическом уровне никаких подтверждений и не требуется: если реальность не соответствует проекции – тем хуже для реальности! Отелло душит Дездемону. Дон Кихот кидается на мельницу.