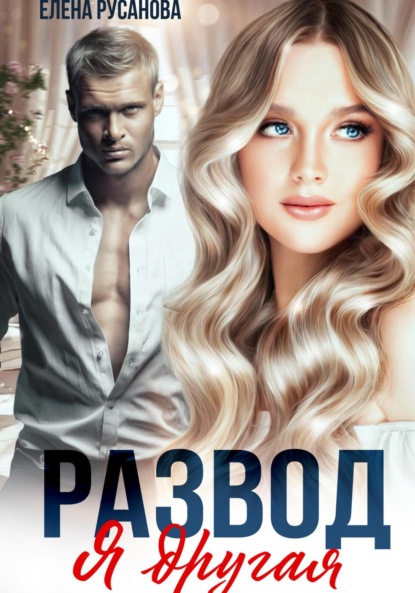Черновик
ЧерновикПолная версия:
Елена Русанова Оттенки счастья для Сироты
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
На ней была пара. Молодые, улыбающиеся, на каком-то пикнике или в парке. Мужчина и женщина. Они стояли у дерева, и мужчина со спины обнимал женщину. Мужчина смотрел на женщину не в объектив, а на неё. И в его взгляде была такая нежность, такое обожание, что у меня кольнуло под сердцем. Женщина, красивая, с лёгкой, светлой улыбкой, смотрела чуть в сторону. Тихое, абсолютное счастье.
Я подняла глаза на Тимура. Он стоял, скрестив руки, и смотрел в стену, избегая моего взгляда.
– Ты… знаешь кого-нибудь из них? – осторожно спросила я.
Он кивнул, коротко, резко. Потом, не глядя, достал из кармана свой телефон, несколько секунд искал что-то в нём и снова протянул мне. На экране – современное фото. Мужчина в костюме, на каком-то официальном мероприятии. Суровое, властное лицо. Седина на висках. Но глаза… разрез глаз, линия бровей…
– Похож, – прошептала я, сравнивая с мужчиной на старой фотографии. – Тот же человек. Только… много лет спустя. Постаревший. Ожесточившийся. Кто это?
– Козлов, – глухо ответил Тимур. – Редкостная тварь.
В нём была ненависть. Холодная, как лезвие.
Я снова посмотрела на старую фотографию. На эту пару. На их немое счастье, застывшее во времени.
– Но они… они прекрасны вместе, – сказала я почти невольно, увлеченная силой эмоции, пойманной фотографом. – Он её обожает. Это видно с первого взгляда. Она… она ему верит. Чувствуется, как ему важно это её доверие.
Я улыбнулась, поднимая взгляд на Тимура, чтобы поделиться этим открытием, этим кусочком чужого, но такого настоящего счастья.
И слова застряли у меня в горле.
Он смотрел на меня. И в его глазах бушевала буря. Но не из печали или ностальгии. Там была ярость. Глубокая, первобытная, черная ярость. Она искажала его черты, делая его почти незнакомым.
– Тимур? – Что… что случилось? Ты знаешь эту женщину?
Он медленно, с трудом перевёл взгляд с фотографии на меня. Казалось, ему потребовались нечеловеческие усилия, чтобы вымолвить следующее. Голос был низким, хриплым, каждый звук давался с болью.
– Это моя мама.
Воздух вылетел из моих лёгких. Пазл в голове с грохотом сложился, но картина, которая получилась, была уродливой и пугающей. Его мама и этот Козлов, смотрящий на неё с такой любовью. Мозг, уже перегруженный эмоциями, выдал самый очевидный, самый кошмарный вопрос. Он сам просился на язык, прежде чем я успевала его отфильтровать, облечь в мягкие, осторожные слова. Я открыла рот, чтобы спросить: «А этот мужчина… он не…?»
Я не успела произнести ни слова.
Тимур резко шагнул ко мне. Не с угрозой, а с какой-то отчаянной, животной потребностью пресечь, остановить, уничтожить саму возможность этого вопроса. Его рука взметнулась вверх, не для удара, а как барьер, отсекающий невидимую тварь.
– Даже не произноси этого вслух! – прогремел он.
Голос не был криком. Он был рыком. Глухим, рвущимся из самой груди, полным такой боли и ярости, что я физически отшатнулась, прижав фотографию к себе, как щит. Стояла, держа в руках хрупкое свидетельство прошлого, и понимала, что за порогом этой комнаты, лежала бездна его боли. Бездна, в которую он только что позволил мне заглянуть.
Глава 29
Тимур ушёл. Дверь закрылась негромко, почти деликатно, но в тишине квартиры этот звук прозвучал как выстрел. Я стояла, прислушиваясь к затихающим шагам на лестнице, а потом – и к полной, оглушительной тишине. Внутри всё сжалось в тугой, тревожный комок. Он боролся со своими демонами – я видела это по напряжённым мышцам на его спине, по тому, как он стискивал челюсть, глядя в никуда. И я чувствовала, что моё присутствие сейчас – не помощь, а помеха. Ему нужно было побыть одному. Но знание это не делало пустоту вокруг менее острой, не заглушало щемящее чувство беспомощности.
Работа всегда была моим спасением, моим убежищем. Когда мир становился слишком сложным и непонятным, линии на бумаге подчинялись мне. Здесь я была хозяйкой. Я достала пару небольших заказов – зачётные проекты чёрно-белого рисунка по графике. Ирония ситуации заставила меня горько усмехнуться. Я рисовала рисунки сдержанные и лаконичные, что передавалось чёткостью и строгостью линий, пока в моей душе царил хаос, раздираемый внутренними бурями.
Карандаш скользил по бумаге автоматически. Руки помнили движения, а мысли упрямо возвращались к нему. Куда он пошёл? Что он делает? Дышит ли холодным ночным воздухом, пытаясь остудить пожирающий его изнутри огонь? Или сидит где-то в одиночестве, сжимая виски пальцами? Каждый час тянулся бесконечно. Я бросала взгляд на часы, и стрелка, казалось, замирала, издеваясь надо мной.
Когда перевалило за полночь, тишина в квартире стала густой, почти осязаемой. Она давила на уши, нависала тяжёлым пологом. Я отложила заказы, потому что они не спасали. Спасти меня мог лишь он, но его всё не было.
Тогда я достала ту самую папку. Мои пальцы сами нашли тот лист. Рисунок, что был начат ещё в доме моих родителей, был закончен именно в этой квартире, в те дни, что не было Тимура. Силуэт мужчины, крепкий, уверенный, но стоящий спиной. И женские руки, обнимающие его сзади, цепко, как будто боясь отпустить. Я рисовала его по памяти, по ощущениям. Это был не просто портрет. Этот рисунок стал выплеском моей тоски, отчерченной графитом.
И сейчас, глядя на него, я почувствовала острое желание оживить этот призрак. Наполнить его цветом, дыханием, жизнью. Карандашный набросок был тенью, а я хотела солнца. Я лихорадочно приготовила краски, кисти, палитру. В этом действии был странный, почти ритуальный смысл. Пока его нет физически, я могу создать его здесь, на холсте. Приручить. Оставить при себе.
И в этот момент входная дверь отворилась. Сердце упало, а потом забилось с такой силой, что зазвенело в ушах. Шаги в прихожей не тяжёлые и раздражённые, а усталые, но… ровные. Он вошёл в комнату, и весь мой мир, который до этого балансировал на острие тревоги, мгновенно вернулся на свою ось. Он был здесь. Со мной.
Он не сказал ни слова. Просто подошёл сзади и обнял. Его руки обвили мою талию, подбородок лёг на макушку. Я замерла, впитывая его тепло, его запах – ночной холод, смешанный с его собственным ароматом. Вся тревога, всё напряжение начали таять, как иней на стекле под утренним солнцем.
– Мне нравится, – его голос был тихим, немного хриплым от усталости или от эмоций. – Это я?
Вопрос повис в воздухе. Я кивнула, не в силах вымолвить слово. Боялась спугнуть эту хрупкую минуту тишины и близости.
– Ты не против? – наконец прошептала я.
– Нисколько, – он ответил просто, и в этих двух слогах было больше принятия, чем в самых долгих речах.
И тогда во мне что-то щёлкнуло. Желание разделить с ним своё исцеление, свой способ справляться с демонами. Наивное, рискованное желание.
– Может, попробуешь? – голос звучал неуверенно даже в моих ушах. – Это… правда помогает. Отвлечься. Расслабиться.
Он посмотрел на меня. Взгляд был тяжёлым, изучающим, скептическим. Но в глубине его глаз, тех самых, что обычно скрывали бурю за спокойствием, что-то мелькнуло. Искра любопытства? Вызова?
– Ладно, – сказал он, и это было похоже на капитуляцию, на которую он сам не до конца верил.
Я начала объяснять, показывать, рассказывать о мазках, о смешивании цветов, о том, как я вижу мир через призму красок. Я говорила, поглощённая своим энтузиазмом, а он… Он смотрел не на холст, не на краски. Он смотрел на меня. Его взгляд был физическим прикосновением. Он скользил по моим губам, следил за движением рук, останавливался на оголённом плече. В этом взгляде не было простого интереса. В нём была какая-то первобытная, плотоядная интенсивность. Он не слушал слова. Он читал меня. И под этим взглядом я начинала плавиться изнутри, забывая, о чём говорю.
И потом он сделал движение. Не резкое, но решительное. Он отодвинул в сторону холст с рисунком. Его пальцы обхватили не кисть, а тюбик краски. Алой, как кровь, как страсть, как опасность. Он выдавил немного на палитру, обмакнул палец. И его глаза встретились с моими.
В тот момент я всё поняла. Холстом был не лист бумаги. Им была я.
Первое прикосновение его пальца, покрытого холодной, влажной краской к моей ключице, заставило меня вздрогнуть. Не от холода. От шока, от предвкушения, от абсолютной беззащитности, которую я ему добровольно отдала. Я не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни звука. Я могла только наблюдать, как он, сосредоточенно хмуря брови, словно величайший художник перед шедевром, проводит линию по моей руке. Краска была липкой, странной, но под ней кожа горела огнём его касаний.
Это была пытка сладкая и невыносимая. Каждое прикосновение было и вопросом, и утверждением. Он рисовал на мне свои мысли, своих демонов, своё желание. Мне казалось, что он оставляет на моей коже не просто узоры, а карту своей души – тёмную, запутанную. Я таяла и растворялась. Границы моего тела размывались под его пальцами. Я перестала быть просто Алиной. Я стала полотном, пространством, которое он заполнял собой.
Когда открытые участки кожи были покрыты причудливыми вихрями и линиями, он не остановился. Его руки, теперь уже в красках разных цветов – синей, как ночь, фиолетовой, как тайна – потянулись к подолу моей майки. Взгляд его был немым вопросом, на который я ответила, едва заметно подняв руки. Ткань соскользнула, и холодный воздух коснулся кожи, но тут же его сменило тепло его ладоней и влажный след красок. Каждое прикосновение к новому, сокровенному участку было откровением. Я чувствовала себя одновременно и бесконечно уязвимой, и невероятно сильной, потому что отдавала ему всё, и он брал это с благоговением, смешанным с одержимостью.
Джинсы упали на пол бесшумно. И вот я стою перед ним, дрожащая, расписанная им, как древняя икона, принадлежащая только ему. Его глаза пылали триумфом и чем-то таким диким, отчего перехватывало дыхание.
Потом он протянул мне тюбик. Зелёный, цвет жизни, роста, надежды. Безмолвное приглашение. Мои пальцы дрожали, когда я взяла краску. Первые мои мазки на его торсе были робкими, неуверенными. Я боялась сделать больно, сделать некрасиво. Но, глядя в его глаза и видя в них не терпение, а поощрение, я осмелела. Я перестала думать. Руки сами вспомнили движения. Я рисовала на его коже свои ответы, свою нежность поверх его боли. Зелёные ростки, обвивающие его мускулы, золотые нити, связывающие нас. Я закрашивала его тьму своим светом.
Мы были словно два художника, пишущих одну картину на двух разделённых, но жаждущих соединения холстах. Воздух между нами накалился до предела, наполнился запахом масляных красок, нашего дыхания, нашего общего, непереносимого напряжения.
И в какой-то момент мы оба замерли. Краски были забыты. Мы стояли, покрытые яркими, ещё влажными следами, и просто смотрели друг другу в глаза. В его взгляде я увидела всё: и бурю, и тишину после неё, и ту бездонную, пугающую нежность, которую он так редко позволял себе показывать. Вся накопившаяся за вечер, за дни энергия – тревога, тоска, страх, облегчение, ярость, нежность – сконцентрировалась в одной точке, в пространстве между нашими взглядами.
И эта нить лопнула.
Не было больше разделения. Было только стремительное, всепоглощающее слияние. Мы набросились друг на друга не как два тела, а как две стихии, наконец-то нашедшие выход. Его губы на моих были не поцелуем, а утверждением права. Мои руки в его волосах – не лаской, а якорем в бушующем море.
Не было больше отдельных ощущений. Был вихрь. Взрыв сверхновой где-то в глубине моего существа. Это было падение и полёт одновременно. Каждая клетка моего тела кричала, пела, плакала и ликовала. Я теряла себя, растворялась в нём, в его тепле, его дыхании, его сути. И в этом растворении я находила себя с новой, невероятной силой. Границы исчезли, краски с наших тел смешались, создавая новый, невообразимый цвет – цвет нас. Запах масла и пота, тяжёлое дыхание в такт, тихие стоны, которые были не звуками, а вибрациями одной общей души – всё это слилось в единую симфонию бытия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.