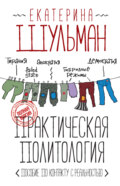Екатерина Шульман
Возвращение государства. Россия в нулевые. 2000–2012
Как было сказано в предыдущей главе, мы будем стараться уйти от поиска роковых развилок, после которых все идет не так, как должно было пойти. Не будем считать таковой и «рокировку» 23 сентября 2011 года – когда было публично объявлено, что баллотироваться на президентских выборах будет премьер Путин, а не действующий президент Медведев.
Тем не менее нельзя не отметить, что это значимая дата в нашей политической истории. Политическая машина, которая могла бы поступить иначе – возможности для этого были, – сделала свой выбор. Такого рода решения, несмотря на все легенды по этому поводу, принимаются не одним человеком. Ему может принадлежать финальная формулировка, но свое решение он принимает под влиянием объективных условий той среды, в которой находится. А эта среда – политическая система, и в более узком смысле – высший слой правящей бюрократии, силовой, гражданской и экономической.
В чем были риски и опасности этого решения? В большинстве авторитарных и полуавторитарных политических систем проблему составляют не сами выборы и их результаты – они обычно не вызывают ни у кого сомнений. Рискованный политический этап наступает после выборов, когда общество должно принять объявленный ему результат – или воспротивиться ему.
Действительно, события развернулись неожиданным образом. В декабре 2011 года состоялись очередные парламентские выборы. К этому моменту машина управления выборами была в достаточной степени выстроена как на региональном уровне, где формируются основные результаты, так и на федеральном. Представление о необходимости контролировать результаты было с 1996 года глубоко имплантировано в сознание политического класса в целом и не вызывало сомнений ни идеологически, ни административно. Но при этом уровень общественного развития и гражданской активности к тому времени был уже таков, что наблюдатели и журналисты возмутились тем, что увидели. Весьма возможно, что такого же рода практики и методы применялись и раньше, особенно на региональных выборах, но к 2011 году произошло то, что называется изменением нормы: что еще вчера было приемлемым и не вызывало никаких вопросов, вдруг начинает массово возмущать (см. цветную вклейку, рис. 2–6).
В декабре 2011 года волна возмущения, спровоцированная очевидными нарушениями на избирательных участках, привела к череде публичных акций, уличной протестной активности, что стало неожиданностью для политической системы. Эти события впечатлили властную машину, и в ответ был принят целый ряд мер как для смягчения эффекта произошедшего, так и для выстраивания государством собственных, контролируемых каналов обратной связи между обществом и властью: например, именно тогда и с такой целью была создана Общественная палата.
В то время еще не были созданы ни тот корпус репрессивного законодательства, которое было выстроено в 2012–2013 годах, ни та целостная система силового реагирования на протесты, которая была выстроена к 2014 году. В 2011 году цена протеста была относительно невысокой. Это позволило пройти достаточно массовым протестным акциям, в основном в крупных городах с более значительным, чем в целом по стране, процентом молодого образованного населения.
Кульминацией их стала акция 6 мая 2012 года на Болотной площади, которая по официальной версии закончилась массовыми беспорядками и дала повод для одного из наиболее масштабных судебных политических процессов в новейшей истории России.
Шестой созыв Государственной Думы, выбранный при этих обстоятельствах, с самого начала нес на себе печать сомнительной легитимности. Это был созыв, избранный и получивший мандаты во время беспрецедентных массовых протестов. Шестой созыв, в отличие от предыдущих двух, был в гораздо большей степени созывом депутатской инициативы. Депутаты, оказавшиеся в нем, считали необходимым проявлять себя законотворчески и публично, чтобы привлечь внимание как своего партийного начальства, так и федерального политического менеджмента.
Итак, на 6–7 мая 2012 года в России имелся недавно избранный парламент, чье избрание вызвало протесты, и только что избранный президент, чье избрание также вызвало протесты, и чья инаугурация проходила в пустом городе, из центральной части которого были удалены все люди, чтобы не допустить возможности проявлений этого недовольства (см. цветную вклейку, рис. 2–7).
Как завершается роман Пушкина «Евгений Онегин»: «И тут героя моего в минуту злую для него оставим». Оставляем мы нашего коллективного героя действительно в минуту не самую лучшую. И дело тут не только в меняющихся общественных настроениях.
На любой исторический вызов возможно реагировать двумя основными способами: либо пытаться меняться и развиваться, то есть становиться более открытыми, либо окукливаться и пытаться сохраниться в максимальной степени в том виде, в котором система себя застала. Выбор между самосохранением и развитием, изоляцией и открытостью, восприятием внешнего мира как угрозы или ресурса, и различные сочетания элементов этих стратегий – длящийся сюжет российской политической истории. Ирония истории состоит в том, что реформаторские действия государственной власти совсем не всегда приводили к тем результатам, какие были запланированы. И наоборот: очень часто стремления и действия, направленные на то, чтобы ни в коем случае не меняться, стабилизироваться и сохраниться, приводили к политическим изменениям, в том числе радикальным. Чтобы оставаться на месте, надо бежать вдвое быстрее, и ничто так не пожирает ресурсы, как сохранение статус-кво.
Глава 3. Изготовление большинства. Люди 2000-х
В этой главе мы рассмотрим то, что происходило в 2000-е с российским социумом.
Легенда, столь же популярная, как и легенда о лихих 1990-х, гласит, что это было время путинского благополучия – золотые годы высоких нефтяных цен, в течение которых население России благоденствовало так, как никогда раньше. Некоторая правда в этих утверждениях есть.
Реальные располагаемые доходы населения действительно росли, хотя и не так радикально, как демонстрирует нам государственная пропаганда. Даже в кризисном 2008 и следующем за ним 2009 году произошло не падение, а замедление роста. Люди действительно стали богаче, и консьюмеризм стал общенациональной ценностью (см. цветную вклейку, рис. 3–1).[3]

В 2000-х годах россиянам стал доступен волшебный мир кредитов, потребительских и ипотечных. Люди начали активно приобретать жилье и машины. Истинное значение этой кредитной удавки жители городов почувствовали к 2010-м годам, когда закредитованность стала причиной новой волны специфической преступности и не менее своеобразной предпринимательской активности: например, отправиться воевать в соседние государства, поскольку это единственный шанс заработать и расплатиться с кредитом.
Но пока, в течение рассматриваемого периода, из отрицательных последствий консьюмеристского бума для городского населения стали заметны разве что большие проблемы с городским дорожным движением, как следствие появления торговых центров и машин в таких количествах, которых не было ни при советской власти, ни в 1990-е. Впоследствии, уже в 2010-х годах, это вызвало многочисленные и непопулярные реформы в крупных городах, прежде всего в Москве и Петербурге – и постепенно городская повестка парковок и пробок стала повесткой политической.
Обратимся теперь к тому, как в этой социально-экономической обстановке чувствовал себя российский государственный аппарат – не как политическая машина, а как социальная страта. Эти годы были, кроме всего прочего, временем роста числа государственных служащих, как региональных, так и федеральных. В 2009 году их было максимальное количество за весь период, потому что потом, к 2012 году, произошло некоторое снижение. Но чтобы вы не волновались за судьбу российской бюрократии, скажем, что в дальнейшем ее численность снова будет расти и в 2019 году составит 2,4 млн человек.[4]
Двухтысячные годы для России были не только годами высоких бюджетных доходов, но и годами раскармливания бюрократического класса. К концу 2000-х чрезвычайно увеличился не только государственный сектор в экономике, но и доля в населении России госслужащих федерального и регионального уровня, а также широко понимаемых бюджетников, то есть людей, обязанных своими ежедневными доходами государству. Им и достались основные выгоды «жирных нулевых». Особенно велик процент госслужащих среди занятого населения в регионах, и прежде всего в регионах-донорах Дальнего Востока и Северного Кавказа.[5] Это имело и продолжает иметь достаточно очевидные и значимые политические последствия (см. цветную вклейку, рис. 3–2).
Итак, Российская Федерация 2000-х – это страна, которая получает углеводородные доходы, раздает их в первую очередь своим собственным служащим, во вторую очередь позволяет гражданам пользоваться плодами этих доходов и платит деньги всему внешнему миру: выплачивает свои собственные долги, выплачивает долги Советского Союза, прощает советские и российские кредиты, выданные другим странам. В крайне обобщенном виде это магистральное направление политико-экономического процесса тех лет.
Во второй половине рассматриваемого периода росла – и достаточно значимо – средняя ожидаемая продолжительность жизни. Для российского социума характерна постыдно большая гендерная разница в средней продолжительности жизни: женщины живут значительно дольше мужчин. Это значит, что люди умирают от социально обусловленных факторов: от убийств, самоубийств, ДТП, от излечимых и предотвратимых болезней (прежде всего сердечно-сосудистых), от алкоголизма, от тюрьмы и так далее. Это преимущественно, хотя и не исключительно, мужские несчастья. В 2000 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин была 59 лет (уровень Зимбабве – Того). В 2012 году уже 64,56 (уровень Кении – Эфиопии). У женщин рост тоже наблюдается: от 72,2 в 2000-м к до 75,8 в 2012-м (см. цветную вклейку, рис. 3–3).
Естественного прироста (без учета въездной миграции) количества населения за эти годы, вопреки распространенному мнению, не произошло. Более того: вплоть до 2013 года оно продолжало снижаться, и только в 2013–2015 годы наблюдался нормативный рост (см. табл. 2).
Таблица 2. Компоненты изменения численности населения России, 2000–2019, тыс. чел.[6]


Дело в том, что структура нашей демографической пирамиды такова, что даже с тем ростом рождаемости и снижением смертности, который наблюдался в 2000-х, снижение численности населения было если не неизбежно, то весьма вероятно.
Посмотрим на две демографические пирамиды, больше напоминающие елочки, – за 2002 и 2010 годы (рис. 3–4).[7]


Во-первых, мы видим ту самую разницу в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами: чем старше возрастная группа, тем больше в ней женщин. Видим продолжающийся процесс старения населения. Видим некоторый молодежный навес: в 2002 году это были дети от 10 лет и старше, в 2010 году уже двадцатилетние молодые люди – поколение последнего советского бума рождаемости конца 80-х. Также видны в нашей демографической пирамиде (как в 2002 году, так и в 2010-м) повторяющиеся каждые 25–30 лет выемки. Особенно велика та выемка, которая в 2002 году находится на уровне 55 лет, а в 2010-м – на уровне 65 лет. Это эхо прошедшей войны, проявляющееся каждые 20–25–30 лет: непреодолимое наследие страшного русского XX века, который выжег демографические запасы страны.
О том, как в течение десятилетия трансформировались ценности этого консьюмеристского, атомизированного, стареющего социума, в котором мало молодежи и много женщин старше сорока, мы расскажем в дальнейших главах, а пока отметим тот фактор социальных изменений, который в 2000-х общество одновременно постоянно осознавало и предпочитало (за известными героическими исключениями) публично игнорировать.
В 1999 году в России началась Вторая чеченская война. Хотя после 2000 года больших армейских операций не проводилось, режим КТО (контртеррористической операции) сохранялся на территории Чечни и Дагестана до 2009 года. Для местных жителей, военных и правоохранителей это означало, во-первых, риск гибели в результате реальных военных действий, во-вторых – для общества в целом – высокую тревожность, вызванную страхом терактов. Это порождало запрос на наведение порядка практически любыми методами. Третье, чуть менее очевидное последствие – то, что можно неполиткорректно назвать чеченизацией как российского правящего класса, так и общественных норм в целом: люди, которые либо воевали в Чечне и вернулись, либо жили там и переехали в Центральную Россию, привезли с собой специфические представления о том, как надо вести себя с товарищами, с начальниками, подчиненными, врагами, женщинами и детьми. Следы этого влияния видны в очень многом из того, что происходило в России: например, в изменениях уголовного законодательства, в легитимации силовых практик, к которым привыкли правоохранительные органы на Северном Кавказе. А в следующем десятилетии мы увидим руководителей этих регионов в составе федеральной политической элиты – самыми громкими спикерами, самыми заметными публичными фигурами на границе политики и энтертейнмента, полноценными звездами нового информационного пространства.