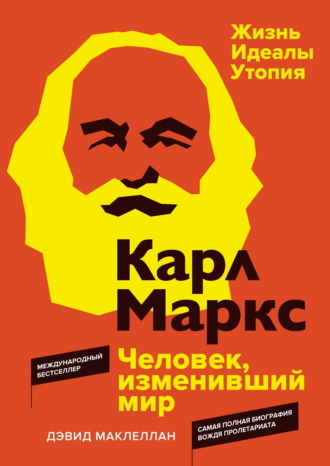
Дэвид Маклеллан
Карл Маркс. Человек, изменивший мир. Жизнь. Идеалы. Утопия
Вторым фактором стало впечатление, произведенное на Маркса чтением «Предварительных тезисов к реформе философии» Фейербаха. Маркс уже читал Фейербаха, когда писал докторскую диссертацию. Но его magnum opus, «Сущность христианства», в котором утверждалось, что религиозные верования являются лишь проекциями отчужденных человеческих желаний и способностей, не произвел на Маркса такого сильного впечатления, как на Руге [14]. Зато «Тезисы…» оказали на него немедленное и значительное влияние: они были опубликованы в Швейцарии в феврале 1843 года в подвергшемся цензуре сборнике очерков для Deutsche Jahrbücher Руге. В них Фейербах применил к спекулятивной философии подход, который уже использовал в отношении религии: теология все еще не была полностью упразднена, но у нее оставался последний рациональный оплот в философии Гегеля, которая была такой же великой мистификацией, как и любая теология. Поскольку диалектика Гегеля начиналась и заканчивалась бесконечным, конечное – а именно человек – было лишь фазой в эволюции сверхчеловеческого духа: «Сущность теологии – трансцендентная и экстериоризированная человеческая мысль» [15]. Но философия не должна была начинаться с Бога или Абсолюта, ни даже с бытия как предиката Абсолюта; философия должна была начинаться с конечного, конкретного, реального и признать примат чувств. Поскольку пионерами такого подхода были французы, истинному философу надлежит быть «галло-германской крови». Философия Гегеля была последним прибежищем теологии и как таковая должна быть упразднена. Это должно было произойти благодаря осознанию того, что «истинное отношение мысли к бытию таково: бытие – субъект, мысль – предикат. Мысль возникает из бытия, а не бытие возникает из мысли» [16].
Маркс ознакомился с «Тезисами» Фейербаха сразу после их публикации и написал восторженное письмо Руге, который прислал ему их: «Единственный пункт в афоризмах Фейербаха, который меня не удовлетворяет, – это то, что он придает слишком большое значение природе и слишком малое – политике. А ведь союз с политикой – единственное средство для современной философии стать истиной. Но то, что произошло в XVI веке, когда у государства были последователи, столь же восторженные, как и у природы, несомненно, повторится» [17]. Для Маркса путь вперед лежал через политику, но политику, которая ставила под сомнение существующие представления об отношениях государства и общества. Именно «Тезисы» Фейербаха позволили ему осуществить свой особый поворот диалектики Гегеля. Для Маркса в 1843 году (как и для большинства его радикально-демократических современников) Фейербах был Философом. Каждая страница критики политической философии Гегеля, которую Маркс разрабатывал летом 1843 года, свидетельствует о влиянии метода Фейербаха. Правда, Маркс придал своей критике социальное и историческое измерение, отсутствующее у Фейербаха, но один момент был центральным в обоих подходах: утверждение, что Гегель изменил правильное соотношение субъектов и предикатов. Основная идея Маркса заключалась в том, чтобы взять реальные политические институты и продемонстрировать тем самым, что гегелевская концепция отношения идей к реальности была ошибочной. Гегель пытался примирить идеальное и реальное, показывая, что реальность есть развертывание идеи и, следовательно, она рациональна. Маркс, напротив, подчеркивал противоположность между идеалами и реальностью в светском мире и классифицировал все предприятие Гегеля как спекулятивное, под которым он подразумевал, что оно основано на субъективных представлениях, расходящихся с эмпирической реальностью [18].
Вдохновленная фейербахианской философией и историческим анализом, эта рукопись стала первой из многих работ Маркса (вплоть до «Капитала»), которые будут начинаться со слова «Критика» – термина, пользовавшегося большой популярностью среди младогегельянцев. Представленный в ней подход – осмысление и проработка чужих идей – был очень близок Марксу, который предпочитал развивать собственные идеи, критически анализируя других мыслителей. В своей рукописи, которая, очевидно, была лишь черновым наброском, Маркс использовал следующий метод: копировал абзацы из «Философии права» Гегеля, а затем добавлял свой критический комментарий. Он обратился только к заключительной части «Философии права», посвященной государству. Согласно политической философии Гегеля, которая была частью его общего стремления примирить философию с действительностью, человеческое сознание объективно проявляется в правовых, моральных, социальных и политических институтах человека[36]. Эти институты позволили духу обрести полную свободу, а достижение этой свободы стало возможным благодаря общественной морали, присутствующей в сменяющих друг друга группах семьи, гражданского общества и государства. Семья воспитывала в человеке нравственную самостоятельность, в то время как гражданское общество организовывало экономическую, профессиональную и культурную жизнь. Только высшая ступень социальной организации – государство, которое Гегель называл «реальностью конкретной свободы», – способно синтезировать конкретные права и всеобщий разум в завершающую стадию эволюции объективного духа. Таким образом, Гегель отвергал мнение о том, что человек свободен от природы и что государство ограничивает эту естественную свободу[37]; а поскольку он считал, что ни один философ не может выйти за пределы своего времени, и поэтому отказывался от теоретизирования об абстрактных идеалах, он полагал, что описанное им государство в какой-то степени уже существовало в Пруссии [19].
В своем комментарии Маркс последовательно рассмотрел монархическую, исполнительную и законодательную власть, на которые (согласно Гегелю) делилось государство, и показал, что предполагаемая гармония, достигаемая в каждом случае, на самом деле ложна. В отношении монархии основная критика Маркса заключалась в том, что она рассматривает народ лишь как придаток к политической конституции; в то время как при демократии (так Маркс в то время называл предпочитаемую им форму правления) конституция является самовыражением народа. Чтобы объяснить свою точку зрения на связь демократии с предыдущими формами конституции, он привел параллель с религией:
«Как религия не создает человека, а человек создает религию, так и конституция не создает народ, а народ создает конституцию. В определенном отношении демократия имеет такое же отношение ко всем другим формам государства, как христианство ко всем другим формам религии. Христианство – это религия par excellence[38], сущность религии, обожествленная человеком как особая религия. Точно так же демократия – это сущность всех конституций государства, социализированный человек как особая конституция государства» [20].
В Древней Греции и в Средние века политические аспекты жизни были тесно связаны с социальными; только в Новое время политическое государство стало абстрагироваться от жизни общества[39]. Решение этой проблемы, при котором «политическая конституция была религией народной жизни, небом ее всеобщности в сравнении с земным и реальным существованием», Маркс назвал «подлинной демократией» [21]. Эта концепция может быть обобщена как гуманистическая форма правления, при которой свободный социализированный человек является единственным субъектом политического процесса, в котором государство как таковое исчезло бы.
Обратившись к взглядам Гегеля на исполнительную власть, Маркс привел несколько интересных отрывков о бюрократии, которые представляют собой его первую попытку дать социологическое определение государственной власти и отчасти отражают его трудности с чиновничеством в бытность редактором Rheinische Zeitung [22]. Гегель говорил, что государство выступает посредником между конфликтующими элементами гражданского общества посредством корпораций и бюрократии: первые объединяют отдельные частные интересы, чтобы оказать давление на государство; вторые выступают посредниками между государством и выраженными таким образом частными интересами. Под бюрократией Гегель подразумевал совокупность высших государственных служащих, набираемых по конкурсу из средних классов. На них возлагалась задача формулирования общих интересов и поддержания единства государства. Их решениям препятствовал произвол стоящего над ними государя и давление корпораций снизу.
Маркс начал с того, что осудил эту попытку посредничества, которая не разрешала, а в лучшем случае лишь маскировала исторически обусловленные противоположности. Гегель хорошо понимал процесс распада средневековых сословий, подъема промышленности и экономической войны всех против всех[40]. Действительно, некоторые из наиболее ярких характеристик капиталистической этики Маркс взял почти непосредственно у Гегеля [23]. Но, пытаясь построить формальное государственное единство, Гегель лишь создавал дальнейшее отчуждение[41]: человеческое существо, которое и так было отчуждено в монархии, теперь было еще более отчуждено в растущем преобладании исполнительной власти, бюрократии. Все, что он предложил, – эмпирическое описание бюрократии, отчасти такой, какая она есть, а отчасти такой, за какую она себя выдает. Маркс отверг гегелевское утверждение о том, что бюрократия является беспристрастным и, следовательно, «универсальным» классом. Он перевернул гегелевскую диалектику, утверждая, что, хотя их функция в принципе была универсальной, на практике бюрократы превратили ее в свое частное дело, создав групповой интерес, отдельный от общества. Таким образом, бюрократия, будучи особым, замкнутым сообществом внутри государства, присвоила себе сознание, волю и власть государства. В борьбе со средневековыми корпорациями бюрократия неизбежно побеждала, поскольку каждая корпорация нуждалась в ней для борьбы с другими корпорациями, тогда как бюрократия была самодостаточна. Бюрократия, возникшая для решения проблем, а затем породившая их, чтобы обеспечить себе постоянный смысл существования, стала целью, а не средством, и поэтому ничего не достигла. Именно этот процесс обусловил все характерные черты бюрократии: формализм, иерархию, мистику, отождествление собственных целей с целями государства. Маркс подытожил эти характеристики в отрывке, проницательность и точность которого заслуживают подробного цитирования:
«Бюрократия в собственных глазах считается конечной целью государства. Цели государства превращаются в цели бюрократии, а цели бюрократии – в цели государства. Бюрократия – круг, из которого никто не может вырваться. Ее иерархия – иерархия знаний. Верхушка доверяет нижнему эшелону понимание индивидуального, а нижний эшелон оставляет верхушке понимание всеобщего, и таким образом каждый обманывает другого. Бюрократия представляет собой воображаемое государство наряду с реальным государством и является спиритуализмом государства. Таким образом, каждый предмет имеет двойное значение – реальное и бюрократическое, как и знание двойственно – реальное и бюрократическое (и то же самое с волей). Но к реальной вещи относятся в соответствии с ее бюрократической сущностью, ее потусторонней духовной сущностью. Бюрократия держит в руках сущность государства – духовную сущность общества; государство – ее частная собственность. Общий этос бюрократии – секретность, тайна, охраняемая внутри иерархией, а снаружи – своей природой закрытой корпорации. Поэтому публичный политический дух, а также политический менталитет представляются бюрократии предательством ее тайны. Поэтому принцип ее знания – авторитет, а мышление превращается в идолопоклонничество. Но внутри бюрократии спиритуализм превращается в грубый материализм, материализм пассивного послушания, веры в авторитет, механизм фиксированного и формального поведения, фиксированных принципов, установок, традиций. Для отдельного бюрократа цель государства становится его личной целью в виде конкуренции за высокие посты – карьеризма. Он рассматривает реальную жизнь как материальную, ибо дух этой жизни имеет свое отдельное существование в бюрократии» [24].
Основная критика Маркса в адрес Гегеля была такой же, как и в предыдущих разделах: атрибуты человечества в целом были перенесены на конкретного человека или класс, которые таким образом представляли собой иллюзорную универсальность современной политической жизни. Наконец, Маркс обратился к гегелевским мыслям о законодательной власти, и в частности о прусских сословиях, которые, по мнению Гегеля, представляли собой синтез государства и гражданского общества. Маркс возражал, что подобный взгляд фактически предполагает разделение государства и гражданского общества, рассматривая их как сущности, которые необходимо примирить, и в этом кроется вся проблема, поскольку «отделение политического государства от гражданского общества неизбежно приводит к отделению политического человека – гражданина – от гражданского общества, от его реальной эмпирической действительности» [25]. Чтобы получить исторический ракурс для критики Гегеля, летом 1843 года Маркс не только погрузился в политические теории Макиавелли, Монтескье и Руссо, но и сделал обширные заметки по новейшей французской, английской, американской и даже шведской истории, а также написал хронологическую таблицу периода 600—1589 годов, которая заняла 80 страниц. В результате Маркс пришел к выводу, что Французская революция полностью уничтожила политическое значение сословий, которым те обладали в Средние века: гегелевская идея о том, что они являются адекватными представителями гражданского общества, архаична и свидетельствует об отсталости Германии. Концептуальные рамки Гегеля основывались на идеях Французской революции, но решения оставались средневековыми; это свидетельствовало о том, насколько отсталой была политическая ситуация в Германии по сравнению с немецкой философией[42]. Действительно, единственным сословием в средневековом смысле этого слова, которое еще оставалось, была сама бюрократия. Огромный рост социальной мобильности привел к тому, что старые сословия перестали существовать в том виде, в котором они изначально различались по потребностям и работе. «Единственное общее различие, поверхностное и формальное, – это различие между деревней и городом. Но в самом обществе различия развивались в сферах, которые находились в постоянном движении и принципом которых был произвол. Деньги и образование – таковы главные отличительные признаки» [26]. На этом Маркс прервался, отметив, что уместно будет обсудить это в последующих разделах (так и не написанных), посвященных гегелевской концепции гражданского общества. Тем не менее в замечании, предвосхитившем будущее значение пролетариата в его мысли, он указал, что наиболее характерной чертой современного гражданского общества является то, что «класс без собственности, класс, который непосредственно нуждается в работе, класс физического труда, составляет не столько класс гражданского общества, сколько основу, на которой покоятся и движутся составные части общества» [27]. Маркс резюмировал свое возражение Гегелю следующим образом: «Едва только гражданские сословия как таковые становятся политическими сословиями, тогда отпадает необходимость в посредничестве, а как только посредничество становится необходимым, они перестают быть политическими <…> Гегель хочет сохранить средневековую систему сословий, но в современных условиях законодательной власти; и он хочет законодательной власти, но в рамках средневековой системы сословий! В этом есть худший вид синкретизма[43]» [28].
Поскольку вся проблема возникла, по мнению Гегеля, из-за отделения государства от гражданского общества, Маркс видел две возможности: если государство и гражданское общество по-прежнему разделены, то все как индивиды не могут участвовать в законодательной власти иначе как через депутатов, «выражение разделения и просто дуалистического единства» [29]. В случае если гражданское общество становится политическим обществом, то значение законодательной власти как представительной исчезает, поскольку она зависит от теологического типа отделения государства от гражданского общества. Следовательно, народ должен стремиться не к законодательной, а к правительственной власти. Маркс завершил свои рассуждения фрагментом, который ясно показывает, как летом 1843 года он представлял себе будущее политическое развитие:
«…Речь идет не о том, должно ли гражданское общество осуществлять законодательную власть через депутатов или через всех в отдельности. Это скорее вопрос о степени и максимально возможном расширении избирательного права, как активного, так и пассивного. Это настоящее яблоко раздора политических реформ, как во Франции, так и в Англии <…>
Голосование – это фактическое отношение реального гражданского общества к гражданскому обществу законодательной власти, к представительному элементу. Или голосование – это непосредственное, прямое отношение гражданского общества к политическому государству, не только внешне, но и в действительности <…> Только при всеобщем избирательном праве[44], как активном, так и пассивном, гражданское общество действительно поднимается до абстракции самого себя, до политического существования как своего истинного всеобщего и сущностного существования. Но реализация этой абстракции есть также выход за пределы абстракции. Делая свое политическое существование актуальным как свое истинное существование, гражданское общество также делает свое гражданское существование несущественным, в отличие от своего политического существования. И когда одно отделяется, другое – его противоположность – падает. В рамках абстрактного политического государства реформа голосования – это распад государства, но точно так же и распад гражданского общества» [30].
Таким образом, Маркс пришел к тому же выводу, что и в своем рассуждении об «истинной демократии». Демократия подразумевала всеобщее избирательное право, а всеобщее избирательное право привело бы к распаду государства[45]. Из этой рукописи ясно, что Маркс принимал фундаментальный гуманизм Фейербаха, а вместе с ним и фейербаховское переворачивание субъекта и предиката в гегелевской диалектике. Маркс считал очевидным, что любое будущее развитие должно предполагать восстановление человеком социального измерения, которое было утрачено с тех пор, как Французская революция уравняла всех граждан[46] в политическом государстве и тем самым подчеркнула индивидуализм буржуазного общества. Хотя он был убежден, что социальная организация больше не должна основываться на частной собственности, но не выступал за ее отмену и не прояснял различные роли классов в социальной эволюции. Неточность его позитивных идей совсем не удивительна, поскольку рукопись Маркса представляла собой не более чем предварительный обзор текста Гегеля и была написана на очень быстром этапе интеллектуальной эволюции как Маркса, так и его коллег. Более того, сохранившаяся рукопись неполна, и в ней есть ссылки на предполагаемые доработки, которые либо никогда не предпринимались, либо теперь утрачены [31].
Письмо Маркса к Руге, написанное в сентябре 1843 года и позднее опубликованное в Deutsch-Französische Jahrbücher, дает хорошее представление об интеллектуальной и политической позиции Маркса непосредственно перед отъездом из Германии и о том, какое значение он придавал тому, что называл «реформой сознания». Ситуация может быть не очень ясной, писал он, но «в этом как раз и состоит преимущество новой линии: мы не догматически предвосхищаем события, а стремимся открыть новый мир путем критики старого»[47] [32]. Ясно было, что любой догматизм неприемлем, и в том числе различные коммунистические системы: «Коммунизм, в частности, является догматической абстракцией, хотя под ним я подразумеваю не любой мыслимый и возможный коммунизм, а реально существующий коммунизм, которому учили Кабе, Дезами[48] и т. д. Этот коммунизм сам по себе – лишь своеобразное представление гуманистического принципа, зараженного своей противоположностью – частным индивидуализмом. Поэтому отмена частной собственности отнюдь не тождественна коммунизму; и не случайно, что в оппозиции к коммунизму неизбежно возникают другие социалистические доктрины, такие как Фурье, Прудон и т. д., поскольку сам он является лишь частным, односторонним воплощением социалистического принципа. Более того, весь социалистический принцип – это лишь одна из граней истинной реальности человеческой сущности» [33].
В Германии реализация этой человеческой сущности зависела, прежде всего, от критики религии и политики, поскольку именно они находились в центре внимания; готовые системы были бесполезны; критика должна была взять за отправную точку современные взгляды. В терминах, напоминающих гегелевский рассказ о прогрессе Разума в истории, Маркс утверждал: «Разум существовал всегда, но не всегда в рациональной форме» [34]. В любой форме практического или теоретического сознания рациональные цели уже были заложены и ждали критика, который бы их раскрыл. Поэтому Маркс не видел возражений против того, чтобы отталкиваться от реальной политической борьбы и объяснять причины ее возникновения. Смысл заключался в том, чтобы демистифицировать религиозные и политические проблемы, внушая осознание их исключительно человеческих аспектов. Он заканчивал свое письмо:
«Поэтому наш лозунг должен быть таким: реформа сознания не через догмы, а через анализ мистического сознания, которое неясно для самого себя, проявляется ли оно в религиозной или политической форме. Тогда станет ясно, что мир давно мечтает о чем-то, для реального обладания чем ему необходимо лишь полностью развитое сознание. Очевидно, что проблема заключается не в том, чтобы заполнить некую великую пустоту между идеями прошлого и идеями будущего, а в том, чтобы завершить идеи прошлого. Наконец, становится ясно, что человечество не начинает новую работу, а сознательно доводит до конца свою старую.
Таким образом, цель нашего журнала можно выразить одним словом: самосознание (в смысле критической философии) нашим веком его борьбы и желаний. Это задача для всего мира и для нас. Она может быть решена только объединенными силами. На кону – признание, не более того. Чтобы получить прощение своих грехов, человечеству нужно лишь признать их такими, какие они есть» [35].
Это представление о спасении через «реформу сознания» было, разумеется, крайне идеалистичным, но типичным для немецкой философии того времени. Маркс и сам прекрасно осознавал интеллектуальный беспорядок в среде радикалов и писал Руге вскоре после завершения своей критики Гегеля: «Хотя “откуда” не вызывает сомнений, но еще большее смятение царит в отношении “куда”. Дело не только в том, что реформаторов охватила всеобщая анархия. Каждый должен будет признаться себе, что у него нет точного представления о том, что должно произойти» [36]. Именно интеллектуальный климат Парижа в конце концов вынудил Маркса совершить переход из области чистой теории в мир непосредственной, практической политики.


