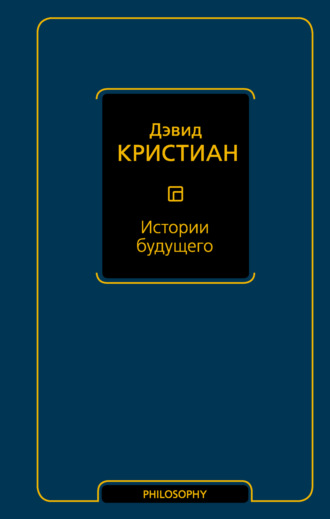
Дэвид Кристиан
Истории будущего
Часть первая
Размышления о будущем
Как мыслят философы, ученые и живые организмы
Глава 1
Что такое будущее?
Время как река и время как карта
«В мире сем мы восседаем, как в большом театре, а истинные источники и причины всякого события совершенно скрыты от нас; не обладаем мы ни достатком мудрости, чтобы предвидеть, ни нужной силой, чтобы предотвратить те бедствия, которые нас неизбывно подстерегают. Мы пребываем в вечном ожидании [sic! – Авт.] между жизнью и смертью, здравием и болезнью, изобилием и нуждой, каковые распределяются среди рода человеческого некими тайными и неведомыми способами, а их воздействие зачастую оказывается неожиданным и всегда необъяснимо».
Дэвид Юм. «Естественная история религии»10
Что такое будущее? Ответ должен быть простым. Ведь мы все живем во времени. Значит, будущее – та стадия времени, которая еще не наступила?
Беда в том, что любое сколько-нибудь серьезное размышление по этому поводу практически сразу показывает, сколь сложен вопрос. У современных исследователей будущего даже нет единого мнения о том, что такое будущее. Как пишет Джим Датор, «кажется, будто время и будущее – два центральных понятия в исследованиях будущего, но на самом деле время почти не обсуждается основоположниками этого направления и редко подвергалось проблематизации впоследствии»11.
Это ничуть не удивительно! Мысли о будущем способны взорвать мозг. Философия времени уводит в научные дебри, полные прекрасных идей, метафизических зарослей и философских ползучих тварей. Я постараюсь в нее не углубляться. Но мы зашли достаточно далеко, чтобы рассмотреть те затруднения, которые, подобно лианам, обвиваются вокруг понятий времени и будущего.
Чтобы понять будущее, нужно осознать время; но существует ли вообще время? Или это слово просто служит обозначением какого-то концептуального призрака? В гуманитарных науках некоторые ученые предпочитают расплывчатые определения – скажем, темпоральность (по всей видимости, его можно истолковать как «проживание времени»)12. Современная наука не дает полных ответов. Как будто никто не живет достаточно долго для того, чтобы по-настоящему справиться со временем. Гектору Берлиозу [8] приписывается фраза: «Время – великий учитель, но, к сожалению, оно убивает всех своих учеников»13. Когда тратишь слишком много времени на изучение чего-либо, то, подобно персидскому астроному и поэту XI века Омару Хайяму, начинаешь ощущать себя танцором-суфием, который кружится в танце:
Ты с душою расстанешься скоро, поверь,
Ждет за темной завесою тайная дверь.
Пей вино! Ибо ты – неизвестно откуда.
Веселись! Неизвестно – куда же отсель… [9]
В «Потерянном рае» Дж. Мильтона даже последователи Сатаны не осознают времени:
Другие, в стороне,
Облюбовали для беседы холм
(Умам – витийство, музыка – сердцам
Отрадны), там раздумьям предались,
Высоким помыслам: о Провиденье,
Провиденье, о воле и судьбе —
Судьбе предустановленной и воле
Свободной, наконец, – о безусловном
Провиденье, плутая на путях
К разгадке… [10]
Святой Августин много размышлял о времени, когда искал цель Божьего деяния. В чудесной 11-й книге «Исповеди», этом основополагающем тексте о времени, он спрашивал: «Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко?» Пусть он был глубоким и тонким мыслителем, но проблема времени, казалось, всегда ускользала от его понимания: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю». Августин настолько опечалился этому факту, что воззвал к Господу с молитвой о помощи: «Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывай от меня, Господи Боже мой, добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа, не скрывай от меня разгадки; дай проникнуть в это явление, сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего, Господи» [11]. Как пишет философ Дженанн Исмаэль, «налицо чрезмерное обдумывание»14.
Два подхода ко времени
Проблема времени занимала и занимает философов, мудрецов, земледельцев, шаманов, теологов, логиков, антропологов, биологов, математиков, физиков, игроков в азартные игры, пророков, ученых, статистиков, поэтов и прорицателей, а также все, кто беспокоился о своем будущем и будущем своих близких. Современные философы времени выделяют два основных подхода к проблеме времени, из которых каждый имеет собственные последствия для нашего понимания будущего15. Оба подхода, нужно отметить, восходят к древней философской традиции. Гераклит (ок. 535–475 гг. до Р. Х.) воображал мироздание как пространство непрерывных изменений. Отсюда следовало, что будущее должно отличаться от прошлого по определению. Ближайший современник Гераклита Парменид считал изменения иллюзией, а потому утверждал, что прошлое, настоящее и будущее должны быть во многом одинаковыми. Многие философские и богословские традиции пытались установить природу отношений между постоянством и изменением. Древние индийские тексты, известные как Упанишады, настаивают на том, что существует «внутреннее ядро, или душа» (атман), неизменная и тождественная себе, среди внешней области непостоянства и изменения. Во многих буддийских текстах, впрочем, встречается утверждение, что в мире нет внутреннего и неизменного ядра; все находится в движении16.
Первая из двух наших метафор следует Гераклиту. Время – своего рода поток, или река, влекущая нас через беспрестанные изменения. С этой точки зрения будущее должно отличаться от прошлого, и опознать его непросто. Именно так мы обычно воспринимаем время в повседневной жизни, а потому эта метафора сегодня кажется естественной для большинства из нас. Такое время схоже с бурным миром взлетов и падений, радостей и горестей, рождений и смертей; в некоторых индийских текстах этот мир описывается как сансара.
По другую руку стоят те, кто считает, будто наше ощущение течения времени и перемен – лишь соблазнительная иллюзия. «Реальное время», как выражался философ, покойный Д. Г. Меллор, вовсе не течет17. Оно больше похоже на карту, чем на реку. Это нечто вроде божественного взгляда на время – взгляда сверху. Согласно данной точке зрения, изменение – не то, что происходит, а скорее различие между двумя точками на карте в восприятии муравья, ползущего между ними. Наше ощущение отличия будущего от прошлого объясняется тем самым нашим собственным перемещением, а вовсе не предполагаемым течением времени. Следовательно, различие между прошлым и будущим невелико, а будущее в некотором смысле должно быть познаваемо, поскольку оно уже нанесено на карту. Та мысль, что постоянство лежит в основе поверхностных изменений повседневной жизни, обусловила, быть может, представление большинства людей о времени, как я покажу в главе 5. Но в современном быстро меняющемся мире ее воспринимают наиболее серьезно те философы и ученые, что обеспокоены логической загадкой времени как потока (об этой загадке мы поговорим чуть позже в настоящей главе).
Одна метафора подразумевает, что мы встроены во время, другая – что мы, пожалуй, способны вознестись над временем. В недавнем обзоре философии времени два обозначенных подхода называются, соответственно, «динамическим» и «статическим». Правда, философы нередко называют такие временные последовательности – в знак уважения к известной статье (1908) британского философа Дж. Эллиса Мактаг-гарта – А-сериями и В-сериями18. Перед нами, разумеется, научный жаргон, но он так широко используется философами времени, что к нему стоит попривыкнуть.
На практике две указанные метафоры во многом совпадают. Даже Мактаггарт, рассматривавший время как иллюзию, соглашался с тем, что «мы наблюдаем время только как формирующее обе эти серии» [12]. Сочетание этих метафор встречается нам в одном из самых известных определений времени, данном сэром Исааком Ньютоном. В «Математических началах натуральной философии», важнейшем труде научной революции, Ньютон пишет: «Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью» [13]. Время Ньютона «течет», как река, но оно «абсолютно» и имеет протяженность, или «длительность», как линия на карте.
Время как река: будущее в А-серии
Чтобы сделать метафору времени как реки менее абстрактной, присоединимся к юному герою Марка Твена Гекльберри Финну и его другу Джиму, которые сплавляются по Миссисипи:
«В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и восемь, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды! Нам не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода в общем стояла хорошая, и с нами ровно ничего не случилось – ни в эту ночь, ни на другую, ни на третью.
Каждую ночь мы проплывали мимо городов; некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая грядка огней – ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, над ним стояло целое зарево… Каждый вечер, часов около десяти, я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на десять, на пятнадцать муки, копченой грудинки или еще чего-нибудь для еды; а иной раз я захватывал и курицу, которой не сиделось на насесте… Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал взаймы арбуз, или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь» [14].
Течение времени в А-серии столь же величественно, как величественна сама Миссисипи. Оно уносит в будущее обломки целой вселенной, всякую звезду и всякую галактику, каждый атом, каждого жука, точно так же, как Миссисипи несет плоты, рыбацкие лодки, каноэ, яхты, колесные пароходы и коряги. Наша жизнь – часть этого потока.
Гекльберри Финн и Джим живут в динамичном, постоянно меняющемся гераклитовом мире, пока плот увлекает их в будущее. Кое-что кажется похожим – например городки, мимо которых они проплывают ночь за ночью, однако мелкие подробности продолжают меняться. Философы используют технический термин passage (букв. «течение». – Ред.), чтобы передать это ощущение бесконечных изменений. Рубаи Омара Хайяма в прекрасном переводе Эдварда Фицджеральда [15] (девятнадцатый век) вполне отражает смысл этого явления:
Этот мир красотою Хайяма пленил,
Ароматом и цветом своим опьянил.
Но источник с живою водою – иссякнет,
Как бы ты бережливо его ни хранил! [16]
Во-вторых, мы узнаем из метафоры времени как реки, что будущее лежит в определенном направлении. Плот несет своих пассажиров вниз по течению от отправной точки в Сент-Питерсберге, штат Миссури (Марк Твен, судя по всему, имел в виду свой родной город Ганнибал). Будущее лежит ниже по течению или впереди, а то и просто ниже, если, подобно множеству говорящих на мандаринском наречии [17], мыслить прошлое как вершину, а будущее – как низ; или даже позади, если, подобно многим общинам австралийских аборигенов и носителей гавайского языка, мыслить будущее как нечто у себя за спиной19. Где бы оно ни таилось, будущее лежит в ином направлении, нежели прошлое.
В-третьих, мы постигаем, что будущее скрыто. В лучшем случае мы видим нечто вроде тумана, без ярких подробностей, запахов и красок, придающих прошлому и настоящему их блеск. В прошлом, припоминает Гекльберри Финн, как «брал взаймы» дыню или «захватывал» курицу, которой «не сиделось на насесте». Настоящее мимолетно, как случайный «глухой смешок» в ночи. Но, пока здесь, оно реальнее всего остального. Только в настоящем мы ощущаем ветер кожей лица, ловим ритм могучей реки, чувствуем вес «одолженной» дыни или обоняем запах дров. Наш опыт настоящего настолько ярок, что некоторые философы («презентисты») утверждают, будто это и есть единственная реальность. Помню, как слышал в Англии слова буддийского монаха Ариясило: «Прошлое сгинуло. Будущее еще не наступило. Слушай птиц!»
В последовательности А-серии прошлое и будущее сильно различаются. На схеме ниже показаны некоторые их различия. Эту схему подготовил Банк Англии в 2013 году, наглядно разъясняя прогноз по инфляции. Разделы до 2013 года описывают прошлое. Они основаны на подробной информации и образуют единую линию. После 2013 года подробности исчезают, а узловые точки расходятся туманным конусом возможностей, который вскоре становится слишком широким, чтобы сообщать что-либо полезное. Всего через три года Банк Англии способен на маловнятный прогноз о том, что 90 процентов вероятных исходов попадают в промежуток от снижения на 0,5 процента до роста почти на 4,5 процента. Разделенные лишь прозрачной завесой настоящего, прошлое и будущее в последовательности А-серии ничуть не схожи.

Рис. 1.1. Схема ожидаемой инфляции от Банка Англии (май 2013 г.).
Примечание: Незатененная область отражает уровень инфляции до 2013 г. Здесь все показатели известны. Правее же наблюдается добрая сотня возможных вариантов – при условии, что параметры будут «сходными» с теми, каковые рассчитывались на момент подготовки схемы. Темная область отражает наиболее вероятные варианты. Легко заметить, как быстро прогноз становится слишком общим, чтобы приносить пользу.
Источник: Kay and King, Radical Uncertainty, loc. 1625 Kindle.
Особенно загадочен тот миг, когда прошлое и будущее встречаются. Двигаясь вниз по течению, мы как будто приближаемся к призрачному межпространственному флоту возможных будущих. Но по мере приближения все больше и больше вариантов будущего рассыпаются в ничто, а затем туман рассеивается, и остается всего одно будущее. Оно становится ослепительным настоящим и скользит в прошлое.
Эта картина имеет некоторое сходство с той, что известна квантовым физикам как коллапс волновой функции. Множество возможных положений и движений субатомных частиц можно описать математически через вероятностную волновую функцию, отчасти похожую по форме на прогноз Банка Англии по инфляции. Если произвести замеры, все эти возможности вдруг исчезают, и остается единственное наблюдаемое состояние (как характеристика инфляции в минувшие годы на схеме). В последовательности А-серии возможные варианты будущего как будто рушатся, приближаясь к нам. Куда они деваются? Существовали ли они когда-либо на самом деле?

Рисунок 1.2.А-серия: бокал для коктейля
Можно обобщить основные признаки А-серии в виде диаграммы, к которой мы еще не раз вернемся в этой книге: назовем ее конусом будущего20. Чтобы получить представление об общей форме таких конусов, вернемся к рисунку 1.1, на котором показан прогноз Банка Англии относительно грядущих процентных ставок. Приведем рисунок в порядок, повернем его на девяносто градусов против часовой стрелки – и вот вам схема, включающая прошлое и будущее. Слегка похоже на коктейльный бокал: все наши данные говорят о том, что прошлое одно, поэтому оно отображается общей линией, а будущее расширяется в конус со множеством возможностей.
Время как карта: будущее в последовательности В-серии
Размышление о будущем посредством А-серии кажется правильным большинству людей в современном мире. Но так было не всегда. Философам времени и традиционным религиям известен второй тип времени, больше похожий на карту, чем на реку. Это как бы время с точки зрения богов – или В-серия по Мактаггарту.

Рис 1.3.
Время В-серии проще и упорядоченнее, чем в А-серии. Прошлое, настоящее и будущее не так уж отличаются друг от друга; это просто области на карте. «Сейчас» – это точка данного мгновения, а будущее находится в стороне от текущей позиции. Другой наблюдатель станет определять настоящее, прошлое и будущее иначе, как наблюдатель в Нью-Йорке воспринимает Запад иначе, чем наблюдатель в Москве. Вот схема, отражающая некоторые особенности времени в В-серии. Первым бросается в глаза отсутствие конуса! Эта схема больше похожа на червя, чем на бокал для коктейля.
Посмотрите на свой список дел или на школьное расписание – чем не темпоральный аналог географической карты? Стоматолог в 9:45, встреча в 11:30, ужин с друзьями в 18:30. Перед нами описание темпорального ландшафта, в котором будущее и прошлое – просто разные места. Конечно же, метафора карты предполагает и то, что будущее познаваемо: в 18:30 я встречусь с друзьями.
Время В-серии принимает, по выражению Хью Прайса, «взгляд из ниоткуда», когда все мгновения равнозначны21. Это вид на карту сверху. Вообразите, что вы летите высоко над Миссисипи и замечаете Гекльберри Финна и Джима на плоту. В отличие от них, вы не ощущаете силы течения реки, но сможете догадаться, откуда они отплыли и куда движутся. Для вас разные части вашего путешествия существуют как бы в едином пространстве. Умей мы воспарять достаточно высоко, можно было бы даже вообразить карту всего, что когда-либо существовало или будет существовать во вселенной. Координаты этой универсальной карты охватывают все пространство и время, от самого давнего прошлого до самого отдаленного будущего. В итоге нам предстанет огромный застывший комок всех событий и случаев, жизней и смертей, странная четырехмерная сущность, которую философ Уильям Джеймс назвал «блочным мирозданием» [18]. (А Эйнштейн говорил о «пространственно-временном континууме».) Блочное мироздание полнится объектами и событиями. Текущий миг не такой уж особенный, потому что, как утверждал Уильям Джеймс, «всякое событие, когда бы оно ни состоялось, полностью и в равной степени реально в том же отношении, в каком реальны события, происходящие в различных пространственных точках»22. Блаженный Августин не прибегал, разумеется, к современному научному жаргону, но и он, как кажется, верил, что Господь замышлял блочное мироздание: «Ты ведь вечно неизменен и одинаково от века знаешь все, что преходяще и изменчиво» [19]. Или, цитируя философа Саймона Блэкберна, «все события, прошлые, настоящие и будущие, существуют, как мухи в янтаре, разделенные большими или малыми расстояниями»23.
В блочном мироздании не нужно оплакивать умерших или беспокоиться о будущем. Альберт Эйнштейн запечатлел это чувство в письме с соболезнованиями семье своего старого друга Мишеля Бессо [20]: «Он ушел из этого странного мира немногим раньше меня. Это ничего не значит. Для нас, верующих физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим – лишь упрямая иллюзия»24. Инопланетяне-тральфамадорцы из романа «Бойня номер пять» Курта Воннегута могли бы посочувствовать: они-то живут в четырех измерениях, и для них никто не умирает, потому что «все мгновения прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать». Сходные взгляды на время можно найти во многих философских и религиозных традициях. Японский монах тринадцатого столетия Догэн [21] писал: «Жизнь – это положение времени. Смерть – это положение времени. Они подобны зиме и весне, и в буддизме мы не говорим, будто зима становится весной, а весна становится летом»25.
Время В-серии имеет и другие странные особенности. Без конкретного «сейчас», закрепляющего наши образы реальности, приходится думать обо всем как о протяженном во времени и в пространстве, поэтому нужно всерьез рассматривать идею времени как четвертого измерения. Это означает, что при взгляде на Гека Финна и Джима с высоты они могут показаться не движущимися точками, а своего рода червеобразными линиями, что тянутся вниз по течению реки Миссисипи. Тральфамадорцы Курта Воннегута воспринимают людей как огромных тысяченожек, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков – на другом» [22]. Метафора карты еще угрожает нашему ощущению, будто изменения должны протекать лишь в одном направлении, от прошлого к будущему. По карте можно двигаться во всех направлениях, так почему бы не перемещаться и назад во времени, и вперед?
Многие философы и ученые готовы мириться с эксцентричностью времени в В-серии, потому что время в А-серии порождает, такое ощущение, все больше философских и логических загадок. Возьмем представление о настоящем мгновении, отделяющем прошлое от будущего. В В-серии это мгновение – отнюдь не особенное. Это просто характеристика того, где и когда вы оказались. Но во времени А-серии настоящее – особое место, которое разительно отличается от прошлого и будущего. Так разве нельзя провести черту по «сейчас»? Сколько длится это «сейчас»? Августин утверждал, что «настоящее не продолжается» [23]. Эта мысль оборачивается парадоксами, хорошо известными греческим философам. Как может что-либо произойти, если для этого нет времени? Философ Зенон (495–425 до Р. Х.) предлагал подумать о летящей стреле. За бесконечно малое мгновение она не сможет преодолеть никакое расстояние. Значит, она должна пребывать в покое – как до того и как в следующий миг. Следовательно, стрела не движется. Идея бесконечно малого «сейчас», кажется, не работает ни философски, ни интуитивно.
Но что, если «сейчас» не бесконечно мало? Что, если время, подобно материи и энергии, гранулировано? Это чем-то помогает? Возможно, существует мельчайший атом времени – хронон. Быть может, хронон – это время, за которое свет преодолевает наименьшее возможное расстояние, 10–35 метров. Конечно, наш внутренний опыт постижения «сейчас» не может быть настолько ничтожным. Уильям Джеймс называл психологическое «сейчас» «особым настоящим». Оно, по-видимому, длится две или три секунды, пока разум собирает множество ощущений в единую картину настоящего, потому что наше восприятие зависит от неврологических процессов, которые редактируют и связывают информацию от многих «датчиков» и «процессоров», интерполирует отсутствующие данные, и ему требуется некий срок на все это26. Для нас граница между настоящим и будущим представляет собой размытие впечатлений, образов, мыслей и звуков. Но если настоящее не бесконечно мало, то часть его должна проникать в будущее, а другая часть – уходить в прошлое, как темпоральная палочка для коктейля. Не делает ли это бессмысленной мысль о том, что будущее, настоящее и прошлое различны? Время в В-серии избегает перечисленных парадоксов, потому что не признает «сейчас» особенным.
Святой Августин отметил еще одно затруднение со временем серии А: где находятся прошлое и будущее, когда мы пребываем в настоящем, как всегда случается во времени А-серии? «Кто решился бы сказать, что трех времен, прошедшего, настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами учили детей, не существует; что есть только настоящее, а тех двух нет? Или же существуют и они? Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее, став прошлым, уходит в какой-то тайник?» [24] На самом деле мы никогда не переживаем альтернативное будущее. Мы неизменно принимаем единственное будущее, и к тому времени, когда наступает, оно превращается в настоящее. Так в каком же смысле существуют альтернативные варианты будущего до того, как мы встретим, так сказать, хотя бы одного члена этой делегации? Да имеется ли вообще делегация? Во времени В-серии будущее – просто точка на карте, поэтому таких проблем не возникает.
А вот еще затруднение, чреватое обилием вариантов. Если время и вправду течет, то как быстро? Гекльберри Финн рассчитал скорость течения Миссисипи у берега – четыре мили (6,4 километра) в час. Можно ли замерить время? Да, если мы знаем, что оно течет мимо. Ньютон понимал это затруднение и пытался его разрешить, отделяя абсолютное время – в его понимании некие пределы, подобные берегам Миссисипи – от времени относительного. Он толковал идею абсолютного времени, обращаясь к богословию, о котором размышлял ничуть не меньше, чем о физике. Он утверждал, что всеобщее присутствие Бога обеспечивает исходный «каркас» для пространства и времени. Позже он отринул эту мысль, но однажды описал мироздание через проницательную метафору – как «сенсориум бестелесного, живого и разумного существа»27.
В светском мире современной науки теологические решения уже не в почете. Мыслители девятнадцатого столетия попытались заменить ньютоновское представление о Боге как «каркасе» реальности концепцией «эфира», тонкой, словно паутина, среды, через которую перемещаются энергия и материя и по которой можно измерить скорость их перемещения. Предпринималось множество попыток обнаружить этот эфир, но ни одна из них не увенчалась успехом. Самой известной из их числа был эксперимент Майкельсона – Морли, проведенный в 1887 году. Ученые исходили из предположения, что скорость света должна быть меньше при движении против или поперек течения эфира, а потому надеялись выявить различие в скорости двух световых лучей, которые движутся под углом девяносто градусов друг к другу. Но никакого различия выявить не удалось. Тем самым сторонники теории А-серии сохранили гипотезу о потоке, текущем из прошлого в будущее, но не получили способов измерения этого потока. В главе 2 мы рассмотрим революционное решение Эйнштейна, раскрывшее эту загадку.
Детерминизм, причинность и стрела времени
Время в В-серии избегает парадоксов А-серии, но ставит два важных вопроса для размышлений о будущем. Во-первых, представление о блочном мироздании можно истолковать так, что будущее якобы предопределено и нет необходимости делать выбор. Тем самым подводится, как кажется, черта под свободой воли, этикой и моралью. Во-вторых, во времени В-серии изменения как бы не имеют четкого направления. Это серьезный вызов для мышления о будущем, поскольку мы лишаемся одного из наиболее эффективных способов прогнозирования – ведь если А влечет Б, то, когда событие А происходит, мы можем предсказать событие Б в ближайшем будущем. Ударьте по мячу; я уверенно предсказываю, что в ближайшем будущем он начнет двигаться. Если коротко, детерминизм и причинность угрожают нашим базовым предположениям о том, как справиться с будущим. Это высокая цена за простоту времени в В-серии.
К счастью, на эти вопросы есть хорошие ответы, которые подкрепляют наши интуитивные ощущения, которые подсказывают, что (1) мы все-таки можем строить будущее, ибо оно не полностью предопределено прошлым, и что (2) причина предшествует следствию, поскольку многие изменения протекают в единственном направлении – от прошлого к будущему.
Некоторые из перечисленных доводов восходят к древности, но в своей современной форме они опираются на фундаментальный сдвиг в научном мышлении, случившийся в конце девятнадцатого столетия и задавший рамки текущего понимания реальности и будущего для науки и философии. С семнадцатого века и вплоть до начала века двадцатого большинство ученых признавало детерминизм логичным и даже воодушевляющим. Они надеялись, что наука будет открывать все больше и больше механических законов, которые усилят нашу способность предсказывать будущее, и считали, что все события в «механистической» вселенной, от гибели солнца до лишней чашки кофе поутру, были, есть и будут предопределены с мига творения. Омар Хайям передал идею детерминизма поэтически:
Когда глину творенья Аллах замесил,
Он меня о желаньях моих не спросил.
И грешил я по мере отпущенных сил.
Справедливо ль, чтоб в рай меня Бог не впустил?
Если Омар Хайям прав, то всякое планирование возможного будущего бессмысленно. Счет игры известен заранее. Отменяет ли время B-серии идею выбора заодно со всеми нашими представлениями об ответственности, этике и морали? Ответ таков – совсем не обязательно.
Классический современный взгляд на детерминизм изложил великий французский ученый Пьер-Симон де Лаплас, блестящий математик, которому выпало жить в эпоху жизнерадостной уверенности во всесилии науки. В 1814 году он воспроизвел детерминистскую логику постньютоновской науки в работе под названием «Опыт философии теории вероятностей». «Происходящие события связаны с предыдущими посредством того очевидного принципа, что то или иное на свете не может случиться без причины… Потому мы должны рассматривать нынешнее состояние мироздания как следствие предшествующего состояния и как причину того, что воспоследует. Допуская наличие разума, способного постичь все силы, одушевляющие природу, и соответствующее положение живых существ, – разум, достаточно обширный для того, чтобы подвергнуть эти сведения анализу, – мы признаем, что он охватил бы одной и той же формулой движения величайшие тела мироздания и легчайшие атомы; для него не было бы неопределенности, а будущее, как и прошлое, предстало бы въяве перед его взором».
На практике же, признавал Лаплас, человеческий разум всегда будет оставаться «бесконечно отдаленным» от понимания, присущего такой всеведущей сущности28. Наше неведение обеспечивает иллюзию свободы выбора. Но надо помнить, добавлял Лаплас, что свободный выбор – именно иллюзия.
Этот довод известен с древности. Еще две тысячи лет назад Цицерон вложил его в уста своего брата Квинта в сократовском диалоге «О дивинации». Квинт защищает утверждение стоиков, будто «все на свете происходит по велению судьбы», потому что имеется «упорядоченная последовательность причин, где одна причина связана с другой и где всякая причина влечет следствие». Отсюда Квинт заключает, как и Лаплас, что при достаточном объеме знаний возможно предсказывать будущее. «Время продвигается наподобие разматывающегося каната, оно не являет ничего нового, ничего такого, что бы раскрылось впервые» [25].
Крайний детерминизм всегда беспокоил богословов и философов, поскольку при отсутствии свободы выбора люди не могут нести ответственность за свои поступки, а значит, нужно прощаться с этикой и моралью. При этом богословы авраамической традиции стремились согласовать представление о свободе человеческого выбора с представлением о всемогущем и всеведущем Божестве. Ученым же требовалось установить, оставляют ли законы науки место для индивидуального выбора, непредвиденных обстоятельств или обыкновенной случайности.
Против крайнего детерминизма всегда хватало сильных доводов. Так, Августин, полемизируя с Цицероном, утверждал, что людям дана свобода выбора, несмотря на всемогущество и всеведение Бога. Господь предоставил человеку ограниченную свободу выбора, но в Своем неизмеримом «предвидении», Сам находясь вне времени, Он также «предусмотрел», что мы будем желать свободно!29 Современные философы времени выдвигают сходные утверждения: мол, блочное мироздание реально, однако создается оно как механическими причинами, которые в целом предсказуемы, так и событиями, непредсказуемыми в момент их возникновения, будь то квантовые события или выбор, совершенный целеустремленным существом. Блочное мироздание доступно лишь «взору» сущностей, стоящих вне потока времени, но конструируется оно (по крайней мере, частично) сущностями, включенными в этот поток. Сегодня идея совместимости свободы воли и детерминизма известна под банальным обозначением «компатибилизм» [26].


