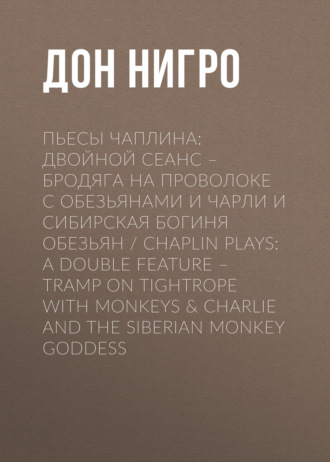
Дон Нигро
Пьесы Чаплина: Двойной сеанс – Бродяга на проволоке с обезьянами и Чарли и Сибирская богиня обезьян / Chaplin Plays: A Double Feature – Tramp On Tightrope With Monkeys & Charlie And The Siberian Monkey Goddess
Don Nigro
Chaplin Plays: A Double Feature – Tramp On Tightrope With Monkeys & Charlie And The Siberian Monkey Goddess/2015
Перевел с английского Виктор Вебер
* * *
«Пьесы Чаплина» написаны так, чтобы игрались они вместе, в один вечер, как «Пьесы Чаплина: двойной сеанс». Но вполне возможно их исполнение по отдельности: «Бродяга на проволоке с обезьянами» и «Чарли и сибирская богиня обезьян»
Песня «Жимолость и пчела/ The Honeysuckle and the Bee» написана Альбертом Г. Фитцем и Уильямом Г. Пенном для детской музыкальной сказки «Колокольчик в Стране чудес/Bluebell In Fairyland» (1901). Песня «Океанский вал/ The Oceana Roll» написана Роджером Льюисом и Люсьеном Денни в 1911 г.
Посвящается Иветте Думенг и Татьяне Кот
Стирая пыль с темного зеркала
Подражание Юн-чиа Та-ши (ум. 713)
«Когда ты говоришь, оно молчит.
Когда ты молчишь, оно говорит.
Когда ты его ищешь, оно теряется
Ты не можешь удержать его,
но не можешь от него избавиться.
Все луны, отражающиеся в воде,
есть одна луна, одна реальность,
содержащая в себе все реальности,
выше всякой похвалы и хулы.
Дверь всегда открыта.
Бездна любви всегда перед тобой,
чтобы свалиться в нее».
«Кто может сказать мне, кто я такой?»
«Король Лир»
Бродяга на проволоке с обезьянами
Один персонаж – ЧАРЛИ, бродяга.
Место действия – опустевшая съемочная площадка или бутафорская театра. Диван. Перед ним кофейный столик. Письменный стол со стулом.
(Из темноты доносится кларнет и фисгармония, играющие мелодию песни «Жимолость и пчела». Свет падает на ЧАРЛИ. Он то ли на опустевшей съемочной площадке, то ли в бутафорской театра. Диван. Кофейный столик перед ним. Письменный стол со стулом).
ЧАРЛИ. Ты что-то такое делаешь, а потом внезапно, словно по мановению волшебной палочки, вдруг осознаешь: «А я ведь знаю, что за этим последует». Это так похоже на фильм, который видел раньше, и ты думаешь: «Подождите, я это помню. Именно там я и появился». Ты входишь в середине фильма. Остаешься, пока точка твоего появления не пройдет полный круг. Словно входишь и выходишь с карусели. Может, смерть, она такая же. Мы так увлечены фильмом, в котором живем, что удивляемся внезапному ошеломляющему осознанию, что здесь мы уже были. И думаем: «Да, я помню эту часть. Именно там я появился».
(Достает карманные часы, смотрит на них, трясет).
Мои часы остановились. Сейчас утро или вечер? Когда ты в театре, чувство времени теряется. Я не понимаю времени. Каким образом Джеки Куган превратился в дядю Фостера? Почему Малыш теперь толстый, лысый старик с противным голосом? Фильмы – это магия, потому что сродни путешествиям во времени. Ты смотришь фильм, в котором снимался сорока годами раньше, и тамошние события происходят параллельно с твоей нынешней жизнью. Запусти одновременно несколько фильмов, десяти-, двадцати- и тридцатилетней давности, и они начнут сливаться вместе, напоминая комнаты, заполненные пианино, играющие в голове Бога все написанные мелодии. Не удивительно, что Бог безумен. Он – что миллионер в «Огнях города». Любит меня, когда пьян. Не узнает, когда трезв.
Бог создавал мир на роликовых коньках. Но в одном из неудачных дублей, упал с обрыва в глубокую пропасть, и больше о нем не слышали. Нам говорят, что упал дьявол, но на самом деле это был Бог. Если они оба – не одна личность, которая смотрит на себя в зеркало.
Мне часто снится, что я падаю. В моем сне я – на проволоке в цирке, высоко над толпой, и на меня нападают обезьяны. Обезьяны на моей голове. Обезьяны кусают мой нос. Обезьяны стаскивают с меня штаны. Я на большой высоте, страховочной сетки нет, и облеплен обезьянами. Моя жизнь – искусство. На самом деле обезьяны – как любые другие актеры. Тебе необходимо тщательно их подготовить, чтобы они делали то, что ты хочешь. Но иногда они забрасывают тебя дерьмом.
В моем сне я вот-вот свалюсь, и хочу позвать на помощь, но, разумеется, Бродяга не говорит. Только в комиксах, в овалах для слов, когда он катится вниз по склону холма на гигантском круге сыра, с маленькой птичкой, сидящей на кончике его… Ладно, он говорит. Вы можете увидеть, что он говорит, если приглядитесь. Но когда он открывает рот, слова с его губ не слетают. Во всяком случае, вы ничего не слышите. Может, собаки слышат. Но для вас изо рта просто вылетает воздух. Я даже не помню, чтобы шевелил губами, но мне говорят, что шевелил.
Когда появился звук, я пробовал для Бродяги разные голоса. Даже брал уроки вокала. Если хочешь, чтобы голос звучал громче, иди к океану и кричи на чаек. Они накричат на тебя. Ты кричи на них. И так далее, пока не сможешь произнести ни звука. Потом входи в воду, пока не поплывет шляпа. Потому что среди этих голосов нет правильного. Ни один не работает. Чтобы дать Бродяге голос, нужно убить в нем общее для всех. Нарушить молчание – для него смерть.
Когда фильмы стали звуковыми, я едва не перебрался в Китай. Звук во многом убил кино. С ним появились гигантские камеры и мили проводов. Микрофоны свисали с потолка, как дьявол, ловящий души. Я не знаю, как они могли ожидать, что мы создадим что-то прекрасное в окружении всего этого мусора. А что еще хуже, вся эта техника сделала фильмы такими дорогими, что киноиндустрия превратилась в контролируемый денежными мешками, централизованный, беспощадный бизнес.
Но со временем Бродяга начинает говорить. На самом деле, он поет. Поет франко-итальянскую сладенькую муру, а потом с облегчением уползает в молчание, шагает с Полетт по разделительной полосе к облакам на горизонте.
И все-таки здесь я говорю. То есть не могу я быть им. Да только, я, очевидно, он. Но с того момента, как я начинаю говорить, я становлюсь кем-то еще. Если бродяга говорит в пустом театре, есть какой-то звук? И, если на то пошло, есть ли сам театр? Кто из нас кино? Вы или я? Единственный способ сохранить идентичность – молчать.
Вы должны полюбить Бродягу. Устоять перед ним невозможно. Он – маленький человек, и у него ничего нет, и нет ни единого шанса что-то приобрести, но он умный, и упрямый, и может ударить исподтишка или дать пинок под зад, когда вы не смотрите. Еще он любит. Бродяга любит. Мы можем это определить. Но я – кто-то еще. Вы меня слышите? Есть здесь кто-нибудь? Послушайте меня, когда я не говорю с вами. Это не немой фильм. Я пытаюсь сказать вам, что человек, которого вы видите на экране, это кто-то еще. Я его создал. Сам приклеил его усы. Но он, по большей части, по-прежнему для меня загадка. Так что в зеркале я вижу человека, который не он.
Почему, к примеру, этот другой человек, давайте назовем его Чарли, почему он испытывает непреодолимое желание лишать девственности девушек-подростков? Очень юных девушек. Сладких и нежных, как бутоны. Но они – яд. Все они яд. Так почему он соблазняет их? Или они соблазняют его? Потом следуют иски по установлению отцовства, вынужденные женитьбы, измены, скандальные разводы. В кино такого нет. В кино она дает мне розу. Я подношу ее к губам. В кино любовь действительно возможна. Но который из них я? Обаятельный маленький бродяга с сердцем из золота или похотливый старик, охотящийся на невинных? Может, ни один из них. Все это игра.
Всегда есть опасность, что эти фарсы, разыгрываемые под дождем, могут превратиться в настоящую любовь. Трудно представить себе большую неудачу. В моем сне Полетт крадет бананы. Самая талантливая из всех моих жен. У нее детская привычка. Она носит с собой нож. Женщину легче любить, когда она где-то далеко. Еще легче, если она мертва. А женщине, которая вообще не существовало, я могу поклоняться, как богу. Но это стало бы фатальной ошибкой.
Я безумно люблю женщин, но не очень-то они мне нравятся. Женщины постоянно изменяют. Разумеется, я такой же, но в свое оправдание могу сказать: раз они все равно собираются мне изменить, тогда я могу изменить им первым. Человек, которого мы любим, всегда иллюзия. Призрак на экране. Я – один из этих призраков.
Я свое время я был знаменитостью. Все любили меня. Но, с другой стороны, они любили и Кеннеди, и посмотрите, что они с ним сделали. В фотоателье меня используют для фотографирования. Могут взять мою голову и приставить к любому телу. А компанию мне составляет собака. Под носом щель, в которую можно вставить усы. Это такая пустота, когда тебя никто не любит. Но когда все думают, что любят тебя, это просто кошмар. Потому что человек, которого они любят, не существует. Выяснив это, они начинают ненавидеть тебя. И все это время ты знаешь, что внутри тебя никого нет.
Любовь – это пролог к ненависти. Если тебя никогда не любили, тебе нечего терять. Если любили хоть раз, ты знаешь, каково это, и ты в ужасе от того, что может это потерять. А как только они видят, что ты боишься это потерять, считай, что уже потерял. И как только ты это теряешь, ты приходишь в ужас от того, что это уже никогда не вернется. И, естественно, ничего не возвращается. Ты находишь что-то еще, но никогда – то, что потерял, и что бы это ни было, ты все равно потеряешь это снова. Сначала они тебя игнорируют. Потом замечают. Любят. Устают от тебя. Ненавидят. И, наконец, убивают. Спросите Иисуса. Он расскажет вам истории, от которых ваши ладони начнут кровоточить.
Когда твоя мать – ребенок, сошедший с ума, ты проводите жизнь, гоняясь за полубезумными юными девушками. Разнообразными французскими шлюхами. Девушка, с пауками в волосах. Мне невероятно трудно реагировать на доброе отношение. Антагонизм – с этим я знаю, как себя вести. Но доброе отношение – это другое. И великий артист должен быть безжалостным. Однажды я заставил Эдну Первиэнс съесть двенадцать банок тушеных бобов, прежде чем мы сыграли эпизод, как должно. И это была женщина, с которой я тогда спал в одной постели. Выбрасывайте старых возлюбленных, как мусор, когда проку от них вам нет. Никогда не застревайте в чьем-то еще фильме. А не то вам не удастся из него выбраться.
Преданность своей профессии. Я знал жонглера по имени Зармо, который годы работал над следующим фокусом: балансируя кий на подбородке, подбрасывал биллиардный шар и ловил его на кончик кия. Потом подбрасывал второй шар и ловил его на первый. Ему потребовалось несколько лет, чтобы научиться это делать и, наконец, он исполнил этот трюк на публике. Получилось идеально, а в ответ публика лишь вежливо похлопала. Сойдя со сцены Зармо сказал: «Когда ты все делаешь с легкостью, впечатления на них это не производит. Лучше в первый раз потерпеть неудачу, и исправиться во второй. Но с грустью добавил, что не достиг еще такого совершенства, чтобы в первый раз терпеть неудачу. Вот что свойственно настоящему артисту. Такая преданность профессии. Мужество потерпеть неудачу в первый раз. Может, это безумие. Но это все, что у нас есть.
Контроль. Контролируй каждый момент в фильме, каждую мелочь в отношениях. Потерять контроль – все равно, что обезуметь. Победить в этой игре можно, только сохраняя контроль. В играх я дока. Мог побить Дугласа Фэрбенкса во всем, кроме гольфа, в который играть отказывался, потому что это игра для богатых идиотов. Кино – это игра. Игра – контролируемый кошмар.
В свое время мне снились многие вселенные. Я нес жареную утку на подносе по заполненному людьми танцполу. Заключенный внутри проектора. Я подбираюсь к врагу, замаскированный под дерево. В Клондайке голодающий мужчина принимает меня за огромного цыпленка. Кино – это пойманный сон, одержимо тиражируемый вновь и вновь. Зеркало живое. Оно движется. Но в центре лабиринта паук. Если хочешь избежать реальности, ныряй как можно глубже, и ты обнаружишь себя в фильме. Реальность – это бездонная бездна странности, и опасность там везде. Хижина каждого опасно кренится на самом краю пропасти. Медведь всегда следует за тобой. Горилла всегда поджидает тебя на мосту.
Если ты постоянно создаешь бесконечно сложные лабиринты искусства, которые накладываются на реальность вне матки и все существующее в ней страдание, не удивительно, что со временем ты в них теряешься. И все-таки в поведении этих двух хаотичных систем, если присмотреться, обнаруживается порядок. Я не создаю кино. Кино создает меня.
Внизу человек, который называет себя Чарли Чаплином. Ради Бога, не впускайте его в дом. Это ужасный тип. Когда он не живописует свое диккенсианское детство, чтобы вызвать к себе сочувствие, люди, с которыми он отождествляет себя, далеко не бедные. Люди, с которыми, он отождествляет себя, богачи и убийцы, и зачастую это одни и те же люди. И он, среди прочего, успешный бизнесмен. Логичное продолжение бизнеса – убийство. И война – это бизнес по-крупному.
Я знаю, до вас доходили слухи, что я – коммунист. Но, как и Бармалей, я не коммунист сейчас, и никогда им не был. Сознаюсь, я всегда питал слабость к русским. Что-то в них есть. Какая-то очень мощная магия. Достоевский смотрит в зеркало и видит убийцу, который смотрит на него. И это правда, иногда я позволял себя крайне неудачные высказывания, к примеру, сказал, что Сталин поступил правильно, отправив в Сибирь нескольких тормозящих развитие писателей и актеров. Я знаю, каково это, оказаться на морозе. Побывал в Клондайке, где за мной гонялся медведь. А Голливуд похож на вечеринку Пончиков. Чтобы выжить, ты должен пожрать своих друзей. Мы просто вырежем этот комментарий из фильма.
Вот почему всем лучше, когда я не говорю. Проблемы возникают, стоит мне заговорить. Я – поэт. Душой я анархист. Я не патриот. Я аморальный. Я – актер. Мое настоящее имя Леонард Зелиг, знаменитый человек-саламандра. Я общаюсь всегда и со всеми, изоляция – это не мое.
Часто мне кажется, что я – кто-то еще. Но не могу вспомнить, кто именно. Вот я и должен быть тем, кто я есть. Заточенный в доме смеха. Слишком много зеркал. Чье это лицо? Все зеркала двойственны, как темное зеркало, через которое пробралась Алиса, чтобы попасть в Зазеркалье. На той стороне она осталась такой же, какой была на этой? А я? Я – не тот, кто я есть. Я – противоположность Бога. Бог и дьявол, глядящие друг на друга в зеркало. Оба никого не видят. Это ужасно, стареть в таком количестве зеркал.
Один японец рассказал мне историю о яйцах. Когда ты держишь в руке яйцо, его воспоминания передаются тебе через скорлупу. Бог – это яйцо, чья сердцевина везде, а периферия – нигде. Я одном из моих снов я кладу яйца в задний карман. Потом мой интерес вызывает девушка. Когда тростью я задираю ей платье, чтобы посмотреть, какого цвета у нее трусики, она толкает меня, и я сажусь на яйца. Мне так хотелось взглянуть на ее трусики, что я забыл про яйца. Мы все забывали про яйца. Теперь мы все помним. Секрет хорошего рассказчика историй – заставить слушателей забыть про яйца. Если ты забываешь про яйца, вспомнить о них – особое удовольствие. Ты можешь по достоинству оценить, как это хорошо, вспомнить, только если речь о чем-то забытом. То, что мы ищем, обычно неподалеку. И слишком близко, чтобы увидеть. На нашем затылке.







