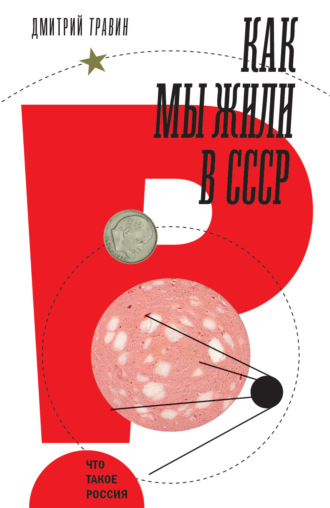
Дмитрий Травин
Как мы жили в СССР
– Дмитрий Александрович, вы, наверное, не знаете, что это такое?
– Вот это… такое… генитальное?
– Если вам угодно так выразиться. Это плод авокадо [Жолковский 2000: 144].
Столь же диковинным плодом для жителей СССР являлось киви. Один крупный российский менеджер вспоминал, что впервые услышал про него лишь в конце 1980‑х [Хоффман 2008: 89]. Не то чтобы попробовать, даже узнать о существовании этих заморских чудес в Советском Союзе было трудно. Я тоже тогда ни про киви, ни про авокадо не слышал. Но однажды в книжке прочел о существовании такого продукта, как йогурт. Понял, что он, по-видимому, из «племени» молочнокислых. Но получил возможность попробовать лишь много лет спустя.
«Пирожок дешевый и лечение бесплатное»
Первым самостоятельным действием у меня, как, наверное, у многих московских и ленинградских детей рубежа 1960–1970‑х, был поход в булочную с зажатыми в кулачок копейками, выданными отцом на покупку батона. За 25 копеек… Или за 22… Эти получше, повкуснее. Были еще за 18, 16, 15, 13, 11, 9 и за 7… Хотя у каждого батона имелось название, советские люди в быту использовали его редко. Характерная для СССР той эпохи стабильность цен порождала бытовой прагматизм. Быстрый переход к делу:
– Тетенька, мне батон за двадцать две и полбуханки за шестнадцать.
Нет смысла запоминать название и цену продукта одновременно. Голова сама освобождалась от лишней информации. Поскольку про необходимое для оплаты число копеек покупателю знать обязательно, безликое словосочетание «батон городской» исчезает из обихода.
Впервые в жизни с необходимостью использовать при покупке торговую марку я столкнулся лишь после тридцати: в 1993 году в Стокгольме, когда покупал в ларьке мороженое. Попытался было сказать продавцу что-то типа «мороженое за двадцать две», но тот не понял. И лишь тогда для меня открылся богатый, разнообразный мир брендов, характерных для рыночной экономики с ценами, меняющимися в зависимости от времени и места продажи.
У нас в 1960‑х были стабильные цены, но еще не было супермаркетов. Первый супермаркет я увидел в эстонском курортном поселке Усть-Нарва, причем строили его буквально на наших глазах. Жизнь менялась. «Торговая точка» западного типа казалась непривычной и огромной в сравнении с обычными продуктовыми магазинчиками. В пореформенные годы, бывая порой в Нарва-Йыэсуу (так название поселка звучит по-эстонски), я удивлялся, как же на самом деле мал тот супермаркет в сравнении с современными питерскими.
Отец посылал меня за батоном (по-питерски – булкой) в маленькую хрущобу, идти до которой было примерно минут пять. И сами мы жили в хрущобе, построенной на южной окраине Ленинграда в самом начале 1960‑х, то есть при правлении Никиты Сергеевича Хрущева, запомнившегося народу малогабаритным строительством. «Хрущоба продовольственная», в отличие от обычной, жилой, кроме квартир, имела в двух торцах первого этажа по магазинчику – булочную и молочный. В них продавались так называемые товары первой необходимости. В булочную я и топал, зажав в кулачке копейки. Признаком «новой жизни» в продовольственной хрущобе было самообслуживание. Если в центре Ленинграда, согласно старой традиции, продукты, как правило, еще «отпускали» через прилавок с помощью продавца, то здесь хлеб был разложен по сортам на полках, к которым покупатели по очереди подходили сами. Щупали батон большими двузубыми вилками (крепко привязанными, чтоб не сперли) и, если свежесть удовлетворяла, накалывали и забирали. Я, правда, не накалывал, а сразу лапал рукой: мальчишка – что с такого взять? Полиэтиленовых упаковок для хлеба еще не существовало. Лежал он «голышом». И если вдруг падал на пол, то возвращался затем на полку «слегка запыленным», про что покупатель, появившийся через пару минут после падения, уже не догадывался. А уносил я батон из булочной в авоське – специальной сеточке, сплетенной в виде сумки, которую по дороге в магазин удобно прятать в карман. Больших полиэтиленовых пакетов не существовало так же, как и малых. Советский «продуктовый мир» легко подвергался экологически верной утилизации, однако не соответствовал, увы, элементарным правилам гигиены.
Мне очень нравились походы в булочную. По дороге домой можно было отщипнуть горбушку, попробовав вкусный, ароматный хлебушек раньше, чем он ляжет на стол к обеду. Мир был ясен и светел, хлеб – свеж и душист. Свежим он, правда, являлся не всегда. Отправляя меня в магазин, папа не доверял способности сына вилкой прощупать продукт, поэтому инструктировал: подойдешь к кассирше и спросишь, какой батон самый свежий. Я, правда, инструкции эти выполнять не очень любил, поскольку солидная дама, едва снисходившая к мальчишке, отвечала таинственной фразой: «Завоз ночной». И я не вполне понимал, как правильно на это реагировать.
Где-то на другом конце города, на Петроградской стороне, моя будущая жена ходила с мамой за более солидными покупками. В более солидный магазин, где продавались и сыр, и колбаса, и сладости, и хлеб с булкой, и макароны с крупами, и молоко со сметаной. Тот магазин был разбит на отделы, в каждом из которых стоял продавец и взвешивал продукты: триста «Докторской», двести «Российского», полтораста «Мишки на севере». А взвесив и завернув в оберточную бумагу (здесь тоже обходились, естественно, без полиэтиленовых пакетиков), говорил, сколько конкретно копеек (реже – рублей: товаров на большие суммы советские обыватели накупали лишь к праздникам) надо пробить в кассе. Собрав информацию, покупатель оказывался в длинной очереди на оплату и должен был, пока в ней стоял, не забыть цену купленного товара. Потом, взяв чеки на разные отделы, он шел вновь к продавцам и получал от них ранее взвешенные, а затем отложенные в сторонку продукты.
На базаре у продавцов не имелось даже бумаги, используемой для расфасовки продуктов в магазинах. Джигиты умело сворачивали кульки из газеты и щедро насыпали туда плодов родной земли за не менее щедрое вознаграждение.
За сметаной в магазин приходили со своей тарой. Была, понятно, фасованная – в маленьких стеклянных баночках. Но развесная считалась свежее. Ее при тебе большим черпаком доставали из большого бидона. Затем продавщица протирала тряпкой (одной на всех покупателей) закапанные края банки, прикрывала бумагой и затягивала толстой черной резинкой, чтобы содержимое не расплескалось по дороге. Про такую торговлю ходил анекдот: одна продавщица кричит другой: «Таня, сметану не разбавляй, я уже разбавила!» При активном разбавлении продукта водой никакая свежесть уже не окупала волшебное превращение жирной густой сметаны в жиденький водянистый кефирчик.
Стеклянную тару, оставшуюся от фасованной продукции и не востребованную по второму разу внутри семьи, сдавали за небольшие деньги государству в специальных приемных пунктах. Мужики тащили туда переполненные авоськи с винными бутылками, и выручки хватало на новый портвейн. А на меня смотрели косо: что за парень такой явился с баночками из-под сметаны. Впрочем, не всегда тару удавалось успешно сдать, поскольку, если у приемщика кончались свободные ящики, авоськи приходилось тащить обратно. До лучших времен.
Таре вообще уделялось мало внимания. И обществом, и государством. Был бы продукт, а в чем унести – найдется! Поэтому стеклянные банки и бутылки раза в два утяжеляли ношу домохозяйки, прежде чем наша промышленность разработала доморощенные картонные упаковки для молока. Яйца развозили по магазинам в ячеистых лотках, но покупатель должен был перегружать их в какую-то свою тару и тащить домой с риском раскокать по дороге. Мой папа иногда их до дома в целости не доносил, за что подвергался маминой критике. Как-то раз, помню, донес с гордостью, достал на кухне и спросил с иронией: «Ну, поглядим, сколько разбитых?» Тут-то пакет у него из рук выскользнул, и яйца грохнулись на пол. Ни одного не уцелело, но смеху хватило на всех.
Мало внимания уделялось и заводской подготовке продукта, который традиционно обрабатывала хозяйка у себя на кухне. Куру покупали целиком. Иногда с торчащими из разных мест волосками, которые приходилось опалять над газовой плитой. Грудка, окорочка, крылышки и всякие прочие куриные части находились при социализме именно там, где им природой положено, а не в отдельных пакетиках, как при капитализме. Если любишь, скажем, есть курью грудку, то изволь и курьи ножки слопать в придачу. Отдельно взятые курьи ножки существовали лишь в сказке: на них, как известно, стояла избушка Бабы-яги. Появление в начале 1990‑х такого феномена, как «ножки Буша», сформировало у нас целую мифологию, поскольку отдельно взятые окорочка казались явлением странным: то ли они в Америке так и появляются на свет без курицы, то ли все остальные курьи части съедает мировая закулиса.
Мороженым лакомились обычно на улице, и это был праздник. Очень большой – если за 28 копеек с шоколадной глазурью и орешками. Просто большой – брикет в глазури за 22. Стандартный праздник, если так можно сказать, случался при покупке стаканчика за 19 копеек в бумажной упаковке, откуда содержимое требовалось доставать специальной палочкой. Но лучше него была сахарная трубочка в вафле. Всего за 15 копеек. Дешевле – лишь эскимо в шоколаде (слишком маленькое) и мороженое фруктовое (слишком водянистое).
На улице же пили из автомата газированную воду с сиропом по 3 копейки. Граненый стеклянный стакан к автомату прилагался. Но не привязывался. Порой его крали алкаши, чтобы разливать за углом портвейн. Но если напасть сия эту чудо-технику миновала, стакан можно было помыть мощной струей, вытекавшей из автомата, а затем наполнить живительной влагой, бросив медяк в специальную щелку. В плане гигиены «мощная струя» вряд ли помогала, но об этом никто не думал. Очень уж вкусно было.
Мороженое и газвода – это летом. А зимой – пирожки. Горячие. Прямо на морозе. Завернутые в обрывок странной бумаги типа длинной ленты для кассовых чеков. Именно про такую торговлю шутил на концертах Михаил Жванецкий, что в СССР, мол, пирожки дешевые и лечение бесплатное. Зрители всегда смеялись. Не говорили сатирику про злобную клевету на советскую действительность, поскольку знали, что лечение живота и впрямь может за потреблением пирожков последовать. Ржали и ели. Ели и ржали. Я тоже ел. Поскольку нравилось. Еще больше нравились ленинградские пышки (по-московски – пончики), которые запивали стаканом своеобразного кофе, в просторечии именуемого бочковым. В пышечных всегда стояла большая бочка, из которой этот напиток наливался, а пополняла сей сосуд тетя в белом халате, выходившая время от времени из кухни с ведром. Как попадал кофе в это ведро и как его варили, никто толком не знал.
Важной особенностью советской продовольственной торговли было плановое «оптимальное» распределение магазинов по территориям. Если в центре Ленинграда гастрономы и булочные могли еще «исторически» находиться неподалеку друг от друга, то в спальных районах их целенаправленно строили на расстоянии. Конкуренции ведь все равно нет. Ни по ценам, ни по ассортименту. Так зачем лепить магазины друг на друга? Особенно когда продавцов, кассиров и грузчиков не хватает. В результате каждый окраинный обыватель ходил обычно в свою определенную торговую точку. Ходить в иную было далековато.
Вплоть до начала эпохи реформ такая система не составляла особых проблем (особенно на фоне прочих проблем советской торговли – дефицита и плохого обслуживания), но затем сильно осложнила демонополизацию. Искусственно созданный микрорайонный магазин-монополист какое-то время пренебрегал конкурентами и начинал нормально работать лишь под сильным давлением расплодившихся в 1990‑е ларьков – убогих, но худо-бедно заставлявших своих привилегированных собратьев уделять внимание покупателям.
Советские магазины в спальных районах были безликими. «Наш молочный», «наша булочная», «наш гастроном». Различались они по номерам – но зачем помнить номер, если даже торговую марку нет смысла держать в голове? В центре же магазины имели порой свое индивидуальное лицо. Тщательно скрытое, правда, под советской маской. Я знал от деда, что булочная, куда мы иногда с ним заглядывали после прогулки в Юсуповском саду, называлась до революции филипповской (сад, кстати, назывался Юсуповым!). А на Невском существует большой «Елисеевский магазин». В переводе на советский новояз – «Гастроном центральный».
Зебристость в жизни советской женщины
О питании при социализме мы сказали немало. Теперь подойдем к этой проблеме с обратной стороны. В самом буквальном смысле. Известный советский диссидент Владимир Буковский описал в мемуарах совершенно анекдотическую историю. Наблюдал он ее в семье своих знакомых.
Однажды я неожиданно застал их в ожесточенном споре, – писал Буковский. — Вся семья, включая старую бабку, спорила о Ленине. У каждого было свое представление о том, чего же хотел Ленин, во что верил и какие принципы исповедовал. Но что меня больше всего поразило – они цитировали Ленина, и каждая цитата опровергала другую <…> И так две недели. Я уже стал из терпения выходить: о чем ни заговорю, их все на Ленина сносит… Внезапно все разъяснилось анекдотическим образом. Оказалось, что за отсутствием туалетной бумаги снесли они в туалет Полное собрание сочинений Ленина. Естественно, каждый из них видел разные страницы этого собрания, с различными статьями, а иногда и разных периодов, и, конечно, они не могли прийти к единому мнению, что же он проповедовал [Буковский 2007: 97–98].
Случай с трудами Ленина, конечно же, экстраординарный, не исключаю, что выдуманный. Но вообще-то в советский туалет и впрямь приходилось идти с печатной продукцией. Туалетная бумага являлась товаром остродефицитным. Пользовался народ по большей части газетками, причем в общественные уборные их даже приходилось нести с собой. Туалеты были бесплатными и, соответственно, «необорудованными». Одним из самых известных проявлений советского черного юмора стал анекдот на эту тему. Человек идет по улице, надев на шею огромную связку с рулонами туалетной бумаги. Все встречные спрашивают его, где достал. Тот уже устал отвечать. Наконец, не выдержав, он срывается: «Из химчистки несу». А вот реальная история, пересказанная в дневниках артиста Ролана Быкова. Некая дама вдруг увидела, как навстречу один за другим идут люди, увешанные туалетной бумагой. Она бросилась искать источник дефицита и нашла его в соседнем дворе. Увы, продавщица, желая скорее закончить работу, потребовала от покупателей приобретать бумагу не связками даже, а ящиками. И вот людям пришлось с ходу искать партнеров и скидываться по шесть рублей. «Вижу, мужчина одинокий со своими шестью рублями. Я ему: „Вам нужна туалетная бумага?“ Он мне с радостью: „Родная! Дорогая! Какое счастье!..“» [Быков 2011: 160–161].
Похожая ситуация складывалась во многих сферах советского быта. Нельзя сказать, что в стране отсутствовали одежда, обувь, мебель, детские игрушки и т. д. Наоборот, порой всего этого было столь много, что магазины подолгу не могли реализовать товары. В 1930‑е годы или сразу после войны люди, наверное, радовались бы подобному изобилию. Однако к эпохе 1970‑х потребности стали уже иными, а товарное предложение качественно не менялось. Михаил Герман в своих мемуарах вспоминает, как в 1963 году купил удобную портативную пишущую машинку «Колибри». Ее пришлось в Ленинград привозить из Москвы, но даже не это стало главной проблемой. Машинку с русским шрифтом и в столице-то свободно было не купить. Пришлось приобретать «испанскую», а затем кустарным способом устанавливать на нее русские литеры. Так «в нетворческих муках» писались в Советском Союзе книги и диссертации [Герман 2000: 401].
Но что там машинка! Главной проблемой и главной мечтой советского человека была машина. Автомобиль – ключевая покупка жизни, если не считать кооперативной квартиры. Свою историю с приобретением машины в Москве начала 1970‑х подробно описала Ирэн Андреева:
В общедоступном автомагазине, кажется, на Бакунинской, существовала открытая многотысячная очередь частников, которая не только не убывала, а, наоборот, прирастала с каждым днем. В нее, кроме новеньких жаждущих, записывались и счастливчики, уже дождавшиеся нового автомобиля, – на приобретение следующего. В тот же день, не теряя времени. Потому что пройдет несколько лет, пока список дойдет до тебя. А ведь надо, чтоб предыдущий автомобиль еще не развалился и его можно было бы прилично продать. Иначе, где же взять деньги, ведь цены на машины растут так же быстро, как и сама очередь. Надо еще не забыть, что автомагазины были далеко не во всех городах. Поэтому в Москву стекались со всех концов страны покупатели, которые через подставных лиц – знакомых или спекулянтов – тоже протискивались в эту несусветную очередь. Чтобы получить новую машину, очередник должен был представить справку о продаже прежней, так как две машины одному лицу иметь не разрешалось [Андреева 2009: 24–25].
Забирать купленную машину нужно было не в автосалоне, какие мемуарист к тому времени уже видела за границей, а на окраине города, в грязи. С раннего утра «там уже шевелилась густая темная толпа беспокойных людей, напиравших на грубое бревно, преграждавшее, как шлагбаум, вход на огромную площадку <…> Мы простояли перед бревном часа три, продрогли» [там же: 27]. Цена «Жигулей» была тогда 5500 рублей. Зарплата мемуариста – 225 в месяц (неплохая по меркам того времени). Купить машину удалось за счет займов и приработков. Понятно, что это удовольствие было тогда доступно лишь крайне небольшой части советского общества.
В 1971 году на вопрос социологов о наличии автомобиля лишь чуть больше 2% респондентов ответили положительно. Для сравнения: холодильником обладали почти 30% [Грушин 2003а: 324]. В 1973 году на один из московских заводов попала английская делегация. Гости сразу: «Какая у вас средняя зарплата? 150? Ага… Надо три года не есть и не пить, чтобы купить автомобиль» [Черняев 2008: 39]. Но даже при столь жутком соотношении цена/зарплата дефицит был страшный. Своих машин производилось мало. Импорта автомобилей, способного удовлетворить дефицит, не было. На улицах чрезвычайно редко можно было увидеть иномарки. Да и вообще города не были перегружены транспортом. Возле факультета, где я учился, обычно была припаркована лишь одна профессорская «Волга». Профессора ездили на метро, хоть были по меркам рубежа 1970‑х весьма не бедными людьми.
Но вернемся к мемуарам Андреевой. Следующие «Жигули» она покупала через шесть лет.
К этому времени уже во многих организациях профкомы, конечно вместе с парткомами, составляли списки «соискателей» на получение автомобилей. Начал действовать новый порядок. Министерство получало квоту и делило ее по подчиненным организациям. В первую очередь себе. Затем заводам и фабрикам. В последнюю очередь – всяким там НИИ [Андреева 2009: 29].
Правда, в министерство каждый очередник за своей машиной ходил сам. И давал взятку. Но размер ее был просто смехотворным – бутылка хорошего коньяка. Нерыночные механизмы распределения тут явно доминировали над рыночными.
В закрытых городках, работавших на военно-промышленный комплекс, снабжение автомобилями, как и продовольствием, было значительно лучше, чем в остальной стране. Скажем, отец моего собеседника Аркадия Гутникова – начальник конструкторского бюро в ЛОМО (Ленинградском оптико-механическом объединении) – смог приобрести «Запорожец» во время командировки из Ленинграда в таинственный Арзамас-16 [Гутников, интервью].
Товарный дефицит советского времени охватывал буквально все возможные сферы. Сегодня порой только из мемуаров и дневников узнаёшь о том, что еще нельзя было тогда свободно купить. Например, известный музыкант Андрей Макаревич3 рассказывал, как однажды в молодости сделал ремень для своей гитары из ремня от отцовского протеза:
Очень уж мне нравилась эта кожа, ничего подобного нигде нельзя было взять. Я вообще не устаю удивляться, как быстро человек привыкает к хорошему – ведь ничего нельзя было купить, кроме товаров, необходимых для кое-какого поддержания жизни на биологическом уровне [Макаревич 2007: 51].
Другой пример – железнодорожные билеты. Обычно я всегда, так или иначе, их покупал. Но в отпускной сезон на ключевых направлениях непосредственно перед выездом могли возникнуть проблемы. Вот зарисовка лета 1978 года:
Появляется парень (поездной электрик) и предлагает желающим поездку без билета: «Деньги – мне» <…> От очереди отделяются еще три парня, и мы всей толпой шествуем к поезду. Там нас распихивают по вагонам [Ронкин 2003: 387].
Городское такси. Заказать машину на дом было нетрудно. Правда, долгим мог оказаться срок ожидания (да и телефон имелся далеко не в каждой квартире), но такси приезжало. А вот «поймать» машину на улице зачастую было проблематично. Водитель почему-то всегда оказывался занят. «Еду в парк», «Беру заказ», «Не по пути» – таковы были типичные ответы, поскольку и здесь спрос превышал предложение. Лишняя работа шоферу не требовалась.
Только весной 1977 года, когда такси внезапно подорожало вдвое, на добрые полгода таксисты стали улыбчивыми и перестали спешить в парк [Герман 2000: 422].
Стиральный порошок.
Помню, как у станции метро «Коломенская», – пишет журналист Анатолий Рубинов, — остановился грузовик, и с него сверху вниз стали продавать пестрые коробки <…> Брали по десять коробок, по двадцать. Вагоны от метро «Коломенская» до «Сокола» запахли «Лотосом». Лиц многих пассажиров не было видно – их заслоняли красивые коробки [Рубинов 1988: 17].
Детские товары. Вот официальное письмо, направленное журналом «Коммунист» в московский универмаг «Детский мир» в феврале 1963 года:
В связи с рождением ребенка у сотрудника журнала местком просит разрешить приобрести в вашем универмаге детскую кровать (или колясочку) и ванночку [Бовин 2003: 91].
Самый страшный случай дефицита – лекарства. У кинорежиссера Георгия Данелии случилась клиническая смерть. Потребовались лекарства, достать которые не мог даже министр здравоохранения. Тогда позвонили в Германию журналисту Норберту Кухинке, который снимался у Данелии в «Осеннем марафоне» (лохматый литературовед, переводивший Достоевского). Тот мигом купил, что нужно, и передал знакомому пилоту, летевшему в Москву. Однако потребовалась еще помощь академика Евгения Примакова, который со знакомым генералом КГБ приехал в «Шереметьево» убеждать таможенников срочно пропустить этот необычный «груз» [Данелия 2006: 353].
Много еще можно приводить примеров советского дефицита. Но главной проблемой для большинства населения, конечно, была одежда. До какого-то времени покупатели удовлетворялись тем, что можно купить хоть какие-то вещи. Поколения, пережившие войну или перебравшиеся в города из нищей, разоренной коллективизацией деревни, были терпимы к низкому качеству, радуясь самому наличию товара. Однако и среди них порой зрело недовольство.
Как-то раз еще в 1950‑х слесарь-стахановец подарил любимой жене три пары шелковых чулок. На следующий день жена спросила: «Ваня, и тебе не стыдно? За что ты меня обидел?» Чулки оказались полосатые, рябые. Верх цвета загара, а низ – бурого оттенка. Вроде бы налицо явный брак, однако на самом деле он вполне соответствовал стандартам, установленным в советской трикотажной промышленности. На бюрократическом языке это деликатно называлось «зебристостью» [Гурова 2008: 89]. Может, предполагалось, что грациозная зебра является идеалом красоты для советской женщины?
Впрочем, к 1970‑м, когда зарубежная легкая промышленность резко рванула вперед, обеспечивая массовый спрос сформировавшегося общества потребления на одежду и обувь разных цветов, фасонов и стилей, проблема «зебристости» стала для советской экономики далеко не главной. Подраставший семидесятник, изредка просматривавший зарубежные модные журналы и постоянно просматривавший зарубежные кинофильмы с модно одетыми людьми, начинал понимать, что мы живем в каком-то ином мире.
Среди шестидесятников в годы их молодости стиляги были лишь малой группой, противопоставлявшей себя общей массе и за это порой получавшей «по заднице» от настоящих комсомольцев. Стилягам, например, прямо на улице резали их слишком узкие модные брючки (сегодня, мол, танцует джаз, а завтра родину продаст). В 1970‑е такое уже трудно было представить. Стремление к западным стандартам потребления могло вызывать недовольство родителей или бабушек, но в самом подрастающем поколении оно было практически всеобщим. Точнее, тот, кто лично проявлял равнодушие к одежде (я был среди них), смотрел на увлечение других как на совершенно нормальное явление. Отсутствие всеобщей «светлой мечты» поощряло толерантность в быту. Семидесятнику было по большому счету плевать на то, как выглядит сосед, поскольку каждый выживает, как может. Для кого-то важнее карьера, для кого-то джинсы… Но как то, так и другое имеет право на существование.
Характерно, что советское руководство прекрасно понимало, как сильно мы отстаем от Запада. К примеру, Брежнев в 1972 году устроил разнос министру легкой промышленности: «Товарищ Тарасов – у вас на складах… млн пар обуви валяется (мемуарист не приводит конкретную цифру. – Д. Т.). Их уже никто никогда не купит, потому что фасоны лапотные» [Черняев 2008: 30]. Лишняя продукция составляла, по имеющимся оценкам, порядка четверти всего производства. Особенно по обуви и одежде. Нереализованные запасы уничтожались в огромном количестве [Кудров 2007: 420]. Но советскому человеку о «лапотном производстве» ничего не рассказывали. Нашему покупателю втюхивали мысль, что налицо просто временные трудности.


