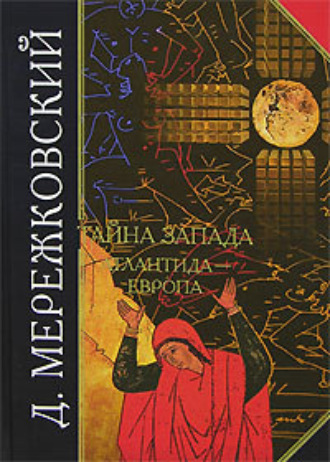
Дмитрий Мережковский
Тайна Запада. Атлантида – Европа
XXXV
Люди как будто знали когда-то всю тайну Плоти и Крови, но забыли; хотят вспомнить и не могут; ищут в темноте ощупью – вот-вот найдут. Нет, не найдут: мелькнет и пропадет, вспыхнет и потухнет, поманит и обманет. Жажда неутоленная, неутолимая: пьют воду, как бы во сне, просыпаются и жаждут еще неутолимее. Или в пустыне идут на призрак воды в мареве; призрак лжет не совсем: есть где-то вода, отраженная в мареве, но так далеко, что прежде чем дойдут, – умрут от жажды, и солнце кости их в пустыне выбелит; другие за ними пойдут, и еще и еще, без конца, так что забелеет костями весь путь.
XXXVI
Танталов голод и жажда – вот мука всех древних таинств плоти и крови, а Дионисовых, ко Христу ближайших, особенно; вот отчего жертву терзающий – терзаемая жертва сам; вот под каким жалящим «оводом» мэнады беснуются, каким бичом гонит их Лисса, богиня Бешенства, каким «укусом скорпиона» пронзает.
В лунной вьюге, вьются, лунные призраки, на снежных полях Киферона – «чертовых гумнах», как ведьмы на Лысой горе, голые, страшные, дикие; воют, как волчихи голодные, кличут, зовут, улюлюкают. Бешеные, сами не знают, что делают; им все равно, кто ни попадись, человек или зверь, – во всякой жертве бог.
Рвите же тело зубами,
Пейте горячую кровь!
(Д. Мережковский. Рождение богов, с. 110–125)
XXXVII
Первый мир от этого погиб, – погиб бы и второй, если б не пришел Спаситель.
То, чего искали древние, мы нашли, не искавши, получили даром, и спокойны. Не слишком ли спокойны? Как бы не потерять? Будем же хранить, что имеем, и, прежде чем судить тех несчастных, «больных», «одержимых», «безумных», погибших, – будем помнить, что, если б не искали они, мы бы не нашли; если б не погибли они, мы бы не спаслись.
XXXVIII
Как в Дионисовых таинствах плоти и крови демоническое борется с божеским, «черная магия» – с «белою», показывает лучше всего Танталов, кажется, бездонно-древний, но почти неузнаваемо стершийся, миф: так очень старая монета стирается или на берегу океана, выглаженная волнами галька, – может быть, затонувшего дворца или храма жалкий обломок.
TANTAL
ATLANT
Это взаимно-обратное и взаимно-искажающее сочетание звуков, с бездонно-глубоким корнем tlaô, «страдаю», «терплю», – если филологически случайно, то, может быть, не случайно «мистерийно-магически», потому что Тантал есть, в самом деле, «обратный», «превратный», как бы в дьявольском зеркале искаженный и опрокинутый Атлас-Атлант.
XXXIX
Кто он такой? Как это ни стерлось в мифе, можно еще угадать: Тантало-Атлант – первый человек, Адам, только что вышедший из рук Божьих, почти совершенный, почти мудрый, благой всезнающий, «всеблаженный», «всепрекрасный», подобно атлантам в мифе Платона, – почти бог. Призрачные для нас, но для мифа настоящие, боги Олимпа – то ли из великодушья, то ли из свойственного существам блаженным, невниманья к несчастным, – не видя этого рокового «почти», любят Тантала, как отец любит сына-первенца; балуют его, ласкают, принимают в свой божественный сонм, совещаются с ним о делах земных и небесных; узнавая по нем человеческие свойства, решают, стоит ли создавать подобных ему; приглашают в гости на Олимп, сажают за трапезу, поят нектаром, кормят амброзией, питием и пищей бессмертья. Все хорошо бы кончилось, и Тантал сделался бы богоподобного человечества праотцем, будь он всезнающ, мудр и благ – не почти, а совсем. Но, будучи тем, чем был, и чем будут все люди-боги, он, подобно атлантам, «не вынес счастья, развратился и возгордился»; так же как их, обуял его «дух титанической, божеской гордости», hybris, дерзкое желание не получить от богов многое, а взять все; свергнуть их, чтобы самому одному стать на их место. Может быть, он уже знал, как будут знать посвященные в таинства, что Олимпийские боги – призраки; знал или почти знал и то, как это сделать, чем победить богов, – тем, чего они, блаженные, совсем не знают, – бесконечною мукою любви бесконечной, высшею свободою жертвы. Сына своего, единственного, Пэлопса, любил он больше или почти больше, чем себя самого: его-то и решил принести в жертву Богу – Себе, потому что уже сказал в сердце своем: «Я – Бог».
XL
Чтобы отблагодарить и отпотчивать богов, как следует, он пригласил их на землю – на высшую, как сам он, точку земли – заоблачную вершину горы Сипилийской, той, где будет изваян облик Матери Скорбящей, Кибелы-Деметры; расставил золотые, вокруг золотого стола, стулья и, когда боги пришли, предложил им на блюде что-то, подобное агнцу. Те, не зная, что это, долго не решались отведать, может быть, брезгая человеческой пищей. Только Матерь Деметра, милосердная, не побрезгала, из жалости к Танталу, взяла с блюда кусок, отведала, и вдруг побледнела, вскочила, зашаталась, так что боги подумали – умрет; закричала, как безумная: «В котел! в котел! в котел!» Хитрый Гермес понял, что это значит; схватил все, что было на блюде, стряхнул в кипевший тут же, на огне, кухонный котел. И вышел из него, в белом облаке пара, прекрасный, как бог, свежий, как райский цветок, младенец Пэлопс, закланный, разрезанный на части и сваренный в котле Танталом, как Дионис-Загрей – титанами. Так же выйдет из кипящего котла – Атлантиды, потопа-землетрясения – второе человечество.
XLI
Тантал почти не ошибся: если бы отведали боги ужасного яства – земного нектара человеческой крови, земной амброзии человеческой плоти, – то умерли бы все, сникли бы, как призраки. Но милосердная Матерь спасла богов; спасла и людей тогда впервые, как потом всегда будет спасать, потому что «люди-боги» ничтожнее, презреннее всех ничтожных богов и демонов.
Тантала же Зевс, ударив молнией в вершину горы, низверг в преисподнюю, где он и мучается вечною мукою всех людей-богов, – ненасытимым голодом, неутолимою жаждою. Древо Жизни, склоняясь, подносит к устам его золотые плоды, но, только что он хочет вкусить от них, – восклоняется до неба; Воды Жизни притекают к устам его, но только что он хочет испить от них, – утекают в глубину бездонную (Pindar., Olympr., I, 40 et schol. Bacchyl. id. fragm., 84. – Cook, Zeuz. 244).
XLII
«Будем же, помня Тантала, хранить, что имеем», – могут сказать христиане, но их сейчас так мало (христиан, впрочем, не знающих, что они имеют, очень много), и так слабы они, по чужой или по своей вине, – так загнаны в самые темные углы, «катакомбы», бывшей христианской цивилизации, что судьбы мира помимо них решаются; что бы ни говорили они и ни делали, мир идет своим чередом, как будто нигде никогда никакого христианства и не было, подобно лунатику, идущему по карнизу пятиэтажного дома, как будто закона тяготения вовсе не было. Может быть, слишком поздно узнает лунатик, что этот закон есть; может быть, и мир узнает так же поздно, что есть христианство.
Кажется, закон, столь же неотменимый для душ человеческих, как для тел закон тяготения, гласит: всякой душе нужен экстаз для жизни, как воздух нужен огню для горения. Этому закону подчинены не только отдельные души людей, но и собирательные души народов, племен, культур, а может быть, и душа всего человечества. Люди благочестивые (их, одиноких, и потому бессильных, может быть, не меньше и сейчас, чем всегда) знают имена восходящих ступеней экстаза: Честь, Долг, Любовь, Бог; христиане же знают имя высшей ступени, самое забытое и неизвестное из всех имен: Христос.
XLIII
Тот же неотменимый закон гласит: если жажда божественного Экстаза остается неутоленною, то отдельные души людей, так же как собирательные души народов, впадают в экстаз сатанинский – такую же страшную болезнь, как у томимых жаждою животных, – водобоязнь, бешенство. Первый припадок ее – всемирную войну – мы только что видели. После него человечество едва выжило, и сейчас отдыхает, погруженное в летаргический сон или обморок. А души отдельных людей продолжают искать экстаза, каждая – в своем углу, на свой страх, в высоком или низком, смотря по качеству душ: в личных подвигах или наркотиках, в святой любви или в Содоме, в игре на бирже или теософии, в коммунизме или патриотизме, и проч., и проч.; неутоляющих экстазов – соленых вод – у нашей «культуры демонов» сколько угодно.
Люди, как путники, умирающие от жажды в пустыне, допив последние капли воды и вывернув мех наизнанку, жадно вылизывают тинистое дно; или, как потерпевшие кораблекрушение, стесненные в лодке, среди океана, палимые жаждой и голодом, перед тем, чтобы кинуть жребий, кому быть пожранным, вскрывают себе жилы и пьют свою кровь.
XLIV
Души народов спят, но проснутся, может быть, для второго припадка бешенства – второй всемирной войны. Самые трезвые люди, самые «реальные политики», согласятся, полагаю, что после второго припадка человечество не выживет: это будет, в самом деле, конец – Атлантида-Европа.
Что же делать? Бесполезно об этом говорить с идущим по карнизу лунатиком; надо, чтоб он сначала проснулся и вспомнил, что есть христианство; надо, чтобы и сами христиане, пальцем не двинувшие, чтобы предупредить будущую войну (если не могли тогда и сейчас не могут, то ведь и это кое-что значит для нынешнего христианства), – надо, чтобы и сами христиане поняли, что Христос, может быть, не совсем то, чем Он им кажется. Только тогда поймут они сами и сумеют другим сказать, что значат эти насыщающие всякий голод и всякую жажду утоляющие слова:
Плоть Моя истинно есть пища,
и кровь Моя истинно есть питие.
13. Дионис будущий
I
Редкие, побывавшие почти внутри смерча и спасшиеся чудом пловцы вспоминают, что в последние минуты перед тем, как ему разразиться, – над самою осью вертящегося с непостижимой быстротой, водяного волчка-хобота, в совершенно круглом, между угольно-черных, разорванных туч, отверстии, сияло такое райски-голубое небо, какого больше нигде никогда не увидишь.
Знают святые, а может быть, и посвященные в древние таинства, что в буре экстаза наступает вдруг тишина, подобная голубому небу над смерчем. В круговороте божественной пляски, уносящей души, солнца и атомы, есть неподвижная ось: к ней-то и влечется все захваченное в круговорот. Сам экстаз все еще жажда, только тишина – утоление; сам экстаз все еще путь, только тишина – цель; сам экстаз все еще мир, только тишина – Бог.
II
Вот почему Елевзинские таинства, самые святые в древности – самые тихие, совершаются в дни ранней осени, тишайшие в году.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь,
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.
Вот почему спондофоры, миротворцы – возвестители таинств, и начинаются они только тогда, когда умолкает шум оружья, наступает мир – тишина: здесь уже как бы предчувствие того Тишайшего, кто скажет: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам».
III
«Богосупружество», «богорождение» – последняя часть Елевзинских таинств наиболее для древних свята, а для христиан – кощунственна.
«В стыде, aischrô, совершаются таинства», – обобщает поздний византийский писатель все ранние свидетельства христианских учителей (Psellus, Graecor. opinion. de daemon., ap. – Harrison, Prolegom., 568). «Стыда ради нельзя о них и говорить, и лучше не выводить на свет того, что совершается во мраке… Лицезрители молчат о том, что действительно достойно умолчания», – полагает Григорий Богослов (Арх. Хризанф. Религия Древнего мира, 1875, 564) и Григорий Назианзянин: «Свету дневному стыжусь предавать ночные таинства; что делает Деметра и что с нею делают, знает о том Елевзис; знают и те, кто об этом молчит, потому что должен молчать» (Gregor. Nazians., Orat. XXXIX, 4. – Foucart, Mysteres d’Eleusis, 1893, II, 46). – «Славное зрелище, священнодействие пристойное!» – горько смеется св. Климент Александрийский (Clement Alex. Protrept., II, 21). – «Все божество во святилище, все воздыхание посвященных, все исповедание есть являемый знак мужского пола, simulacrum membri virilis», – возмущается Тертуллиан (Tertullian., adv. Valent., I).
Здесь, в «богосупружестве», так же как там, в «боговкушении», ужас христиан и язычников взаимный. Только «ужасное или постыдное», atrocia aut pudenda, по слову Тацита, видят они друг в друге.
Те же, кто уличал христиан в детоубийстве, уличает их и в распутстве. «В день Солнца (воскресенье), сходятся они для общей трапезы, с детьми, сестрами и матерями, все без различья пола и возраста. Когда же вино распаляет в них похоть, кидают кусок мяса на расстояние, большее, чем длина веревки, на которой привязана собака к светильнику; сделав к мясу прыжок, она опрокидывает светильник, свет гаснет и, пользуясь бесстыдной темнотой, утоляют они несказанные похоти, кому с кем случится» (Minuc. Felix., Octav., IX).
Будем же помнить, учитывая силу христианских свидетельств и здесь, в Елевзинском, брачном, так же как там, в Дионисовом, жертвенном таинстве, – этот взаимный ужас.
IV
Ужас первохристиан нам слишком понятен, по нашему собственному опыту. Как относимся мы к тайне Двух: «Будут два одна плоть» и как относятся к ней древние, хотя бы только в одной, но самой глубокой и огненной, в таинствах уже загорающейся, точке пола? Если обнажить и упростить до конца эти два отношения, то разница между ними будет такая же – как между грезой влюбленного Вертера о тайной наготе Шарлотты и анатомическим скальпелем, рассекающим ту же наготу, уже трупную.
V
Часто людям снится, что они летают: машут руками, как птица – крыльями, и подымаются на воздух так легко, естественно, что удивляются, почему давно не догадались летать. Между двумя чувствами пола, – не идеями, а именно чувствами, – древним и нашим, – такая же разница, как между полетом во сне и невозможностью летать наяву.
Сколько бы древние ни оскверняли пол, – все-таки чувствуют они, – не думают, а именно чувствуют, что он свят, и чувство это тем сильнее, чем глубже в древность – в Ханаан, Вавилон, Крит, Египет – может быть, сильнее всего в «Атлантиде», «земном раю»; а мы, сколько бы ни освящали пол, все-таки чувствуем, что есть в нем что-то до конца для нас «грешное», полубесовское, полуживотное, «скотское».
Будучи последовательным, надо бы осудить Ветхий Завет – религию освященного, «обрезанного» пола, точно так же и за то же, как и за что христианские учителя осуждают древние таинства. Богу могла быть показана «крайняя плоть» в Иерусалимском храме, так же как в Елевзинском анакторе – знаки мужского и женского пола; в храме же христианском этого сделать нельзя, не оскверняя его и не кощунствуя. Пса, забежавшего в храм, выгоняют палкою; так выгнали из Церкви пол.
«Два будут одна плоть», – сказано в христианстве, но не сделано. Плоть и кровь вынуты из таинства брака, а вынуть их – значит уничтожить его, так же как вынуть Плоть и Кровь из таинства Евхаристии – значит его уничтожить.
VI
Есть ли вообще в христианстве «святой пол»? Мы знаем, что есть, так же, как знаем, что есть незримые для нас, дневные звезды; видеть их можно только в глубоких колодцах, а святой пол – только в глубокой христианской святости. Но мир идет своим чередом, как будто святого пола вовсе не было.
Что это, злая воля мира? Да, и это, но не только это: тут противоположность двух эонов, Сыновнего и Отчего, мелющих мир, как два жернова. Если нет эона третьего – Духа-Матери, то противоположность первых двух – противоречье безысходное; если же он есть, то, может быть, люди узнают в нем, какую для какого хлеба пшеницу мололи жернова.
VII
Что об одежде заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии…
если траву… так одевает Бог…
…то оденет и вас…
…Говорят ученики:
«Когда явишься нам,
и когда узрим Тебя?
Говорит Иисус:
когда обнажитесь и не устыдитесь…
…и одежды стыда ногами растопчете,
hotan ekdysêsthê kai mê aischynthêiê…
…hotan to tês aischynês endyma patêsête.
Это «незаписанное слово» Господне, agraphon, из Евангелия от египтян, сохранилось на клочке истлевшего папируса, найденном в древнем египетском городе Оксиринхе (Oxyrhynchos), в начале XX века, а последний стих – у св. Климента Александрийского (Grenfell and Hunt, Egypt Exploration Fund, II, p. 38–39, nr. 655, 253. – Henneke, Neutest. Apokr., 58). Подлинно ли слово? Мог ли так говорить Иисус? Мы не знаем, но, кажется, не мог. В эоне Сына, это слишком похоже на «тщетную тайну», немилосердную к людям. Где им сейчас помышлять о райской наготе? Слишком нужны им одежды стыда. Но, раз услышав, хотя бы только как будто из уст Господних, это чудное и страшное слово, уже нельзя его забыть: что-то светится в нем, как дневная звезда – в глубоком колодце.
В круге вечности, начало ближе к концу, чем середина; первый Завет, Отца, ближе к третьему – Духа-Матери, чем второй – Сына. Слово о святой наготе поняли бы древние лучше нашего, – и опять, чем глубже в древность, тем лучше, – может быть, лучше всего, в земном раю, в Атлантиде.
Если во втором Завете – Сына, слово это еще не было сказано, то, может быть, будет – в третьем Завете – Духа-Матери.
VIII
Люди слабы: очень вероятно, что много было греха в Елевзинских, так же, как во всех древних таинствах. Но не в этом дело. Может быть, на Страшном суде, милосерднейшем, нас будут судить не только по тому, что мы сделали, но и по тому, чего мы хотели. Кажется, вопреки злой пословице, добрыми намереньями не ад мощен, а путь в рай.
Что бы ни говорили христианские свидетели, даже святые, воля Елевзинских таинств – не злая, а добрая. Многое в ней еще дико или детски-беспомощно, но не кощунственно. Воля к чистоте, к целомудрию, слышится в каждом слове таинств.
Чудо великое возвещает людям Матерь всех, —
святым возвещает, верным своим;
вкравшимся же к ней обманом противится.
Входите же во храм Великой Матери,
только святые, чистые сердцем.
(Preller, Theogonie und Goetteriehre, 557)
Эту молитву, найденную в развалинах Фэста на Крите, первой отчизне Деметры, можно бы начертать и над входом в Елевзинское святилище.
«Чистый от чистых, гряду я к Тебе, Царица Подземная», – молится усопший в надписи на Петилийской гробовой скрижальце. Надо верить мертвым: что им лгать, перед кем?
IX
Брачным таинствам Деметры, Тэсмофориям, где почитались, как «неизреченные святыни», aporrêta, знаки мужского и женского пола, научились пелазгийские жены у Данаид, «неукротимых девственниц» (Herodot, II, 171). Права участвовать в таинствах лишало половое соитие, так же как прикосновение к трупу (Harrison, 1. с., 130).
В белые ризы облекся я,
от смертей и рождений очистился…
В Эпидаврской священной ограде Эскулапа запрещено было умирать и рождаться; тяжелобольные и родильницы удалялись оттуда (Champagny, Les Antonins, 1863, II, 175). Смерть и рождение, тлен и пол, равно нечисты; это поняли бы и христианские, даже буддийские подвижники.
Женщины в Афинских анфестериях, Дионисовых таинствах, давали клятву целомудрия: «Я чиста; я свята и чиста… мужем нетронута» (Harrison 1. с., 537). Только верховная жрица Афин могла видеть священнодейственный знак Дионисова пола. А в Италии, на площади Лавиниума, венчали его цветами только самые целомудренные женщины (Augustin., Civit. Dei, VII, 21. – Welcker, 600).
Требует чистоты почитание знака и в Елевзинских таинствах: в праздничных шествиях, фаллофориях, несли его самые чистые девушки (Movers, ТОТ). «Евнуху подобен» eunouchismenos, Елевзинский иерофант: перед совершением таинств, он умерщвляет похоть напитком из цикуты (Hippolit., Philos., V, 8. – Fr. Lenormant, Monographie de la voie sacrée Eleusinienne, 1864, p. 376). В боговкушении, теофагии, воздерживаются посвященные от мяса, а в богосупружестве, теогамии, – от плотского соединения.
«Тайной безмолвных кошниц (где хранятся знаки мужского и женского пола) заклинаю тебя, и прочим всем, что скрывает молчание Елевзинского святилища!» – молится Деметре, в «Метаморфозах» Апулея, образ чистейшей любви, Психея.
Х
Людям надо было бога Человека родить; как же им было не думать и о божественной тайне рождения, зачатия?
Очень простая, сельская, плетенная из ивовых прутьев, лопатообразная веялка, liknon, какой поселяне веяли хлеб на гумнах, – колыбель бога Младенца, Ликнита, с облеченным в святые покровы знаком Дионисова пола, хранилась среди Елевзинских «неизреченных святынь» (Harrison, 526, 530, 531). – «Таинство (веялки) совершается для очищения души, sacra ad purgationem animae», – толкует Сервий стих Виргилия о «таинственной Иакховой веялке», mystica vanus Iacchi (Serv. schol. ad. Virg., Georg. I, v. 165). – «Всякое подобное разделение, diacrisis, называется очищением, katharmos», – учит Платон (Plat., Soph., 226).
Ветхозаветное имя этого «очищения» – «обрезание». Иакховой веялкой отделяется в поле-эросе чистое от нечистого, как зерно от мякины. «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, им соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Лук. 3, 17). Первая искра этого огня, может быть, тлеет уже под Елевзинским пеплом.






