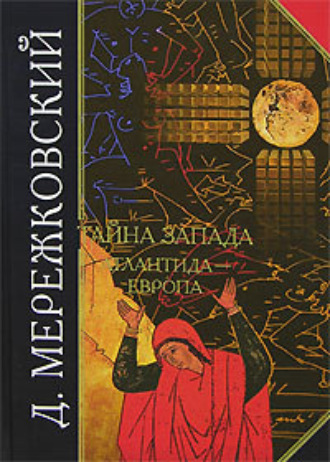
Дмитрий Мережковский
Тайна Запада. Атлантида – Европа
XIX
Жалки, как больные дети, слабы, как цветы под бурей, но богом хранимы от зла, людям страшны, «святы», Hosiai (Вяч. Иванов, III, 52).
Счастлив смертный… освятивший жизнь свою…
очистивший душу в непорочных таинствах, —
поют вакханки Еврипида (Euripid., 1. с., I chor., stroph. II).
Дельфийские мэнады, пробегав однажды всю ночь по высям и долам Парнасса, утром, изнеможенные, пали среди вражьего войска, на городской площади Амфиссы, и, не приходя в себя, уснули, полуголые, беззащитные, но пальцем никто их не тронул (Plutarch., de mulier. virt., 13. – Perdrizet, 84).
XX
Жаждут бога увидеть; бегают, ищут, зовут, кличут протяжными кликами – «завываньем», «улюлюканьем», ululatus, ololygmos, alala, с каким травят зверя ловцы (Perdrizet, 77). Жадно слушают, не ответит ли бог; нет, только горное эхо повторяет их собственный клик. И снова бегут, зовут, заклинают.
Сниди к нам, о Герой,
В храм Элеян святой,
В сонме нежных Харит,
С топотом бычьих копыт,
Царственный Бык,
Царственный Бык! —
кличут элидские жены (Plutarch., Quest. grec., XXXVI. – Harrison, 1. с., 437), и вакханки Еврипида:
Каков бы ни был образ твой, явись, —
явись огненнооким львом,
стоглавым змеем или горным туром, —
о, бог, о, зверь, о, тайна тайн, – явись!
(Euripid., Bacch., v. 1017, s. s.)
«Исступляются, пока не увидят желанного» (Philo, de vita comptempl., 2). Но видят только мимолетный «призрак», phasma, и удержать, воплотить его не могут; вместо вечного солнца болотный огонек, мерцающий; то «явление», epip hania, то «исчезновение», aphanismos (Rohde, Psyche, II, 12):
Вскоре вы не увидите Меня,
и опять вскоре увидите.
(Ев. Ио. 16, 16)
Жаждут, умирают от жажды, быть с Ним навсегда; смертною тоскою томятся, как любящие, покинутые Возлюбленным; руки на себя накладывают. О повальном самоубийстве милетских девушек, «тайно лишавших себя жизни через удавление», сообщает Плутарх (Plutarch., de mulier, virt. I, 608), а Мартиан Капелла – о «величайшем голоде смерти», appetitus maximus mortis, у того фракийского племени бассаров, чьи жены растерзали и пожрали Диониса-Орфея (Rohde, 36. – Jeremias, 190).
XXI
«Человекотерзатель», anthroporrhaistûs (Вяч. Иванов, V, 30), – имя бога, страшное для всех, кроме самих терзаемых: знают фиады, хотя еще и смутным знанием, – ясным узнают потом св. Мария Египетская и св. Тереза, – что слаще всех нег земных эти ласки-раны, лобзанья-терзанья небесной любви; лучше с Ним страдать и умирать, чем жить без Него и блаженствовать.
XXII
Все это лицевая сторона медали, но есть и оборотная. Чем грозит опьянение неправым экстазом, напоминает слово орфиков:
Тирсоносцев много, вакхов мало.
(Perdrizet, 11)
Это значит: просто безумствующих много, но безумствующих в Боге мало. А если так, то иногда и простой здравый смысл, в суде над экстазом, может быть правее, чем это кажется. Разума человеческого стоит лишиться, чтобы приобрести мудрость Божью, но, чтобы оказаться в человеческом безумьи, не стоит: лучше и «малый разум», чем никакого. Старую душу потерять, «выйти из себя», легко; но еще неизвестно, какую душу приобретешь, и кто в человека войдет, – Лютый или Кроткий, бес или бог. Ждут одного, а приходит другой. Эта игра опасная: чет или нечет, а ставка – душа.
«Дуры мы, дуры! Что мы наделали!» – плакать должны были многие несчастные, перед тем, чтобы сунуть шею в петлю, как милетские девушки.
XXIII
Ужас Дионисова безумья выразил в «Вакханках» Еврипид.
Вакх-Человек, под видом чужеземного пророка, возвращается на родину, в Бэотийские Фивы. Здешний царь Пентей не узнает его, отвергает безумье вакхических таинств и, видя грозящую городу опасность, велит схватить пророка, заковать и заточить в темницу, во дворце своем. Но узы спадают с него; дворец пылает и рушится. Вакх поражает Пентея безумьем и внушает ему страстное желанье подглядеть за тайнами фиад, самого наряжает фиадою, ведет на гору, прячет в ветвях на верхушке сосны и направляет на него исступленных женщин, как свору гончих – на зверя. Мать Пентея, царица Агава, принимая сына за горного льва, кидается на него, убивает, растерзывает, втыкает голову на тирс, пляшет с нею, поет, и так возвращается в город. Только здесь, опомнившись, понимает, что сделала.
Фиванские менады, ваша песнь
Кончается рыданием надгробным! —
плачет Хор, а Дионис торжествует:
Признали богом вы меня, но поздно!
Сам Еврипид, ученик Сократа, воплощенного Разума, отвечает Дионису, устами Агавы:
…в страстях,
Не должен бог уподобляться людям.
И устами Хора:
Воистину, прекрасная победа,
Где кровью сына обагрилась мать!
(Euripid., Bacch., passim. – M. Meunier, Euripide, Les Bacchantes 1923, p. 122–191)
Жалкая победа над людьми – безумья над разумом:
Вот каким злодеяньям вера в богов научила!
Tantum religio potuit suadere malorum!
XXIV
Двум Дионисовым кумирам, выточенным из той самой киферонской сосны, в чьих ветвях был спрятан и у чьих корней растерзан Пентей, поклонялись коринфяне (Pausan., Att., XX; II, 2, 6. – Meunier, 160). Здесь посвященные знали, что Пентей, чье имя значит «Скорбный», – сам Дионис. Если бы это знал Еврипид, понял ли бы он, что его трагедия кощунственна, что в лице Пентея Дионис Кроткий борется с Лютым, и не человека терзает, а в человеке терзается бог? Знает ли сам Еврипид, что значат эти слова Диониса Пентею:
Страшный, на страшную муку идешь,
Чтобы славу стяжать, возносящую к небу!
(Meunier, 150)
XXV
Древо Пентея будет Древом Жизни – крестом Диониса-Орфея распятого, на магической печати гностиков офитов, а на византийских и русских старинных иконостасах появится, не по заслугам, конечно, сам Еврипид, эллинский «пророк», рядом с ветхозаветными и благочестивый византийский инок, в «Страстях Господних», Christos paschôn, вложит в уста Богоматери, плачущей над снятым с креста телом Господа, плач Агавы (Brams, Christos patiens, 1885, p. 15–17. – Meunier, 182). Вот какое возможно в самом христианстве смешение кощунства с пророчеством.
XXVI
Римский сенат в 186 году до Р. X., обвинив около 7000 посвященных в Дионисова таинства в каких-то неизвестных преступлениях, может быть, подобных тем, за какие сжигались средневековые колдуны и ведьмы, большую часть их приговорил к смерти (Tit. Liv., XXXIX, 8, 19. – Fracassini, 84. – Carcopino, 179–180).
Подобная пожару, ярость Вакха
Уж близится и настигает нас,
мог бы сказать и Рим, как Пентей (Meunier, 129). Первое пламя пожара выкинуло лет триста назад, в пифагорейских общинах; второе – здесь, а третье – в общинах первохристианских. Те два – потушены в крови, а это – охватило мир.
Если не брезгать как будто некрасивым, потому что слишком к нам близким, сравненьем, то можно бы сказать: скованный во дворце Пентея, Вакх – как бы заложенный в гранитную толщу динамит, а «богоявление» Вакха стоящим вне дворца вакханкам – взрыв.
Хор. – Сойди в наш хор, сойди, о Бог громов!
Земля дрожит божественною дрожью,
Шатается и рушится дворец.
Падите ниц, Вакханки, – бог грядет!..
Смотрите, сестры: зыблятся, дрожат,
Разъединяясь, мраморные глыбы…
Сейчас раздастся Вакха крик победный.
Дионис. —Зажгись, зажгись, святой огонь громов!
Пылай, пылай пожаром, дом Пентея!
(Meunier, 111–112)
С косною длительностью мира борется буйная воля мэнад к внезапному Концу-Апокалипсису: взрыв вулканических сил разъединяет твердейшие глыбы природного и человеческого космоса.
Пылай, пылай пожаром, дом Пентея!
«Извлеку изнутри тебя огонь и превращу тебя в пепел», говорит Господь владыке морей, Тиру-Сидону (Иез. 28, 18), а может быть, и Атлантиде-владычице.
Скоро вся земля запляшет!
«Скоро всему конец!»
XXVII
Есть экстаз разрушительный, но есть и творческий.
Там же, в Македонии, где были написаны «Вакханки» Еврипида, через три-четыре поколения после него, от царицы Олимпии, Фракийской мэнады, и Зевса, Крылатого Змея, родился Александр (Plutarch., Alex., III). В битве при Гавгамелах, давшей ему власть над миром, он объявил себя, пред лицом всего войска, Дионисом, сыном Зевса, и если бы этому не поверило войско, не поверил он сам, то не дошел бы, не докатился, гонимый бурей экстаза, как легкий лист, до самого Инда, по следам Диониса Индийского. Жил и умер, опьяненный экстазом: на нем и построил первую духовную всемирность, первый дом человечества – будущий дом христианства – эллинизм.
Вот что значит экстаз для истории. Кажется, кому бы это и понять, как не нам, живущим в тесных лачугах национальных, на развалинах отчего Дома – христианской всемирности, или кочующих, как цыганский табор, под открытым небом; но вот, не понимаем.
XXVIII
«Скоро всему конец». Добрый конец или злой, – в этом, конечно, весь вопрос. Чет или нечет, злой или добрый конец, – эта игра, где ставка – душа всего человечества, происходит в самой глубокой и огненной точке экстаза, – в том, что обозначается в таинствах темным и диким, от дикой, может быть, людоедской, древности идущим словом omophagia, «сырого мяса вкушение». Есть и другое слово, «неизреченное», потому что слишком святое и страшное. «Жертву должно растерзывать и пожирать, по неизреченному слову», diaspan kata arreton logon, учат орфики (Вяч. Иванов, V, 39). Омофагия есть теофагия; вкушение жертвенной плоти и крови есть «боговкушение», «Евхаристия», – вот это для нас уже изреченное слово. Только один Человек на земле, – больше никто никогда, в этом чудо, – мог сказать: «Ядущий Меня жив будет Мною». – «Иудеи стали спорить между собою, говоря: как может Он дать нам есть плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни… Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем… Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какое это тяжкое слово, кто может это слушать?» Sklêros logos – «тяжкое», «жесткое», как бы каменное, нерастворимое ни в разуме, ни в сердце человеческом. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ев. Ио., 6, 52–66).
«Кто может это слушать»? Слушаем, но уже не слышим, так привыкли – оглохли за 2000 лет, а если бы услышали, то, может быть, отошли бы от Него и мы.
«Бога должно заклать», это человеческому разуму кажется безумным; «Бога должно пожрать», – еще безумнее; надо «сойти с ума», чтоб это понять и принять.
XXIX
Сам посвященный в Дионисовы таинства, Плутарх объясняет омофагию почти так же, как христианские учителя, «бесовским действием»: «В те роковые и страшные дни, когда терзается и пожирается сырое жертвенное мясо… то с постами и плачами, то с бесстыдством и безумством… с диким воплем, судорогами, исступлением – совершается, я полагаю, не почитание богов, а умилостивление и отвращение демонов… Да молчат же уста мои о тайнах сих!» (Plutarch., cde defect. oracul., XIV)
В Критских омофагиях, «вакхи терзают кровавыми устами внутренности блеющих коз», сообщает христианский писатель Арнобий, видимо, запугивая (Welcker, 639). «Терзают зубами живого быка, vivum laniant dentibus taurum, и разбегаются по чащам лесным, с нестройными кликами, делая вид, что беснуются», – пугает, конечно, и Фирмик Матерн (Firm. Matern., de errore prof. relig., VI). «Режут быка на мелкие части ножами», – объясняет Нонн (Nonn. Panopol., Dionys., VI, v. 205, s. s.).
«Диониса Ярого, mainolên, чествуют вакхи, в священном безумье, hieromania, пожиранием сырого мяса, венчанные змеями, восклицая: „Эван!“ и разделяя между собою части человеческих жертв», – вспоминает св. Климент Александрийский, может быть, то, что видел своими глазами в языческой юности (Clement Alex., Protr., II, 12).
XXX
«Людоеды», – говорят христиане язычникам; «людоеды», – отвечают, как эхо, язычники христианам: ужас взаимный и одинаковый. Первохристиане обвинялись в «детоубийственном таинстве», sacramentum infanticidii, на «вечерах любви». – «Предлагается младенец, обсыпанный мукой, и посвященных приглашают наносить ему удары ножом, чтобы очистить его от муки; но неумелые, нанося ему глубокие раны, убивают его, и присутствующие пьют с жадностью кровь и разделяют между собой члены убитого», – уверяет Минуций Феликс, просвещенный римлянин (Minuc. Felix, Octav., IX). «Ужасное или постыдное», atrocia aut pudenda, скажет Тацит о христианстве; то же скажут и христиане о язычестве.
Этот взаимный ужас надо учитывать, взвешивая достоверность христианских свидетельств о древних таинствах; надо помнить и то, что омофагия внушает страх самим язычникам, а у страха глаза велики. Слишком напоминают бабушкины сказки такие свидетельства, как Аполлодорово, будто «Аргивские женщины убивают и пожирают детей своих» (Apollodor., III, 5, 2), или рассказ Плутарха о трех Миниадах, дочерях Орхоменского царя: «Впав в исступление Вакхово, взалкали они человечьего мяса, кинули жребий о детях своих, и та, на которую он пал, отдала сына богу, и растерзали они младенца, и пожрали, как волчихи голодные» (Plutarch., Quest. graec., 38). А речного бога Лама, царя Лестригонского, дочери Гиады, самого Диониса Младенца кормилицы, нежно ласкали, лобзали его, как вдруг, обезумев от любви, начали терзать, и растерзали бы, если бы крылатый Гермес, подкравшись, не восхитил его (Nonn. Panopol., ар. Koehler, 18).
Как бы, однако, ни уменьшали мы силу подобных свидетельств, кое-что остается от них. Нет основания не верить тому, что сообщает Плутарх о принесении в жертву Дионису Лютому трех персидских пленников, накануне Саламинской битвы или Павзаний – о замене младенцев козлятами в жертвоприношениях тому же Дионису, в Бэотии (Pausan., IX, 8), или неоплатоник Порфирий – о жертвенном растерзании человека на островах Хиосе и Тенедосе, и о заклании младенцев на Крите, в жертву Кроносу (Porphyr., de abstinent., II, 55, 56), или св. Климент Александрийский – о человеческих жертвах у ликтийцев, тоже критского племени (Clement Alex., Protr. III, 4). Кажется, с Крита – Атлантиды в Европе – и занесена омофагия в Грецию, как и все остальное в Дионисовых таинствах.
Взвешивая все эти свидетельства, не должно забывать, что у Марафонских и Тразименских стрелков наконечники стрел все еще кремневые, как у людей Каменного века (J. Morgan. Recherches sur les origines de l’Egypte, 1896, I, 187).
Дионисическое племя бассаров, обитавшее в диких горных ущельях Фракии, от вершин Родопа до р. Эбра, «в неистовстве человеческих жертв и вкушений жертвенных, нападая друг на друга и друг друга пожирая, уничтожили себя без остатка» (Porphyr., de absfin., ар. – Вяч. Иванов, V, 34. – Perdrizet, 40). Может быть, и это будет менее похоже на сказку, если предположить, что только часть племени уничтожила себя, а остальная, одержимая повальным безумьем, «величайшим голодом смерти», естественно вымерла.
XXXI
Что исступленные в омофагиях делают, мы не знаем с точностью: знаем еще меньше, что они думают и чувствуют. Но страшный луч света кидает на это неизвестное роспись найденного в Камире (Kamêiros), во Фракии, большого глиняного чана-водоноса, hydria, V века до Р. X. Красным по черному, как бы багровым, во тьме Ледниковой ночи, заревом людоедских костров, изображены три дикаря в звериных шкурах. Один из них держит на левой руке безжизненно, как лохмотье, висящее, должно быть, еще теплое, тело только что зарезанного мальчика; голова закинута назад, волосы длинные, как у девочки падают вниз; бледное лицо спокойно, как у мертвого бога. Тот, кто держит его, подносит ко рту оторванную или отрезанную руку, видимо, чтобы пожрать. Другой, справа, отвернулся и убегает, как бы в ужасе, но все-таки с жадным любопытством оглядываясь. А третий, слева, в плющевом или дубовом венке, с тирсом, бородатый, в длинном, жреческом хитоне, – может быть, сам бог Загрей-Дионис, – смотрит, как бы с благоволением, на совершаемое таинство – свое же собственное растерзание и пожрание титанами (Art. Bern. Cook, Zeus, 1914, p. 654. – Harrison, Prolegomena, 489).
Что это значит, мы поймем, если вспомним троицу Самофракийских Кабиров, приносящих в жертву четвертого, младшего брата своего, Кадмила-Дитя. Ужас бегущего напоминает Куртина: «Я ударил его ножом… Он затрепетал и начал биться… Вдруг первый луч солнца брызнул в окно. Что-то сотряслось во мне, нож выпал из рук, и я упал перед образом на колени, прося Бога принять милостиво новую жертву». А спокойствие того, кто смотрит на жертву с благоволением, напоминает нынешнего дикаря-людоеда, который, только что обратившись в христианство, снова впал бы в людоедство и, чтобы оправдать себя, напомнил бы миссионеру от него же слышанное: «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную».
«…Вы сегодня причащались?» – «Да, сподобился». – «Поздравляю». И дело с концом, и оба спокойны, а завтра, может быть, вторая всемирная война. Что ужаснее – то, древнее, или это, новое?
XXXII
Хуже или лучше, но омофагия не просто людоедство, во всяком случае. После нее, посвященные строго воздерживаются от всякого мяса и от кровавых жертв (Girard, Le senntiment religieux en Grèce, 1879, p. 212).
В белые ризы облекся я,
От смертей и рождений очистился
И блюду, да не коснется уст моих
Пища животная,
поют куреты, и вакханки Еврипида: «Счастлив, освятивший жизнь свою… очистивший душу… в непорочных таинствах!» Мизы-фракийцы, такое же дионисическое племя, как бассары, воздерживаются от вкушения всего, «имеющего душу, empsychos», сообщает Страбон (Strabo, VII, ар. Rohde, II, 133). То же делают некоторые скифы-кочевники, может быть, поклонники Земли, Zemla, Селемы, Дионисовой матери, – мы бы сказали, уже «толстовцы», «вегетарианцы» (Ephor., fragm. 76, 78).
Все исступленные Вакхом – «чистые», «святые», hosioi, для самих себя и для других. Им, конечно, первым внушил Орфей, Дионисов пророк, ужас к мерзостной пище» – человеческой плоти и крови. Тут же, в омофагии, может быть родилась и елевзинская заповедь: «Зла не делай животным», – ничему живому, а человеку тем более.
Так, на одном конце мира и на другом – так же. «Если хочешь принести Богу человеческую жертву, будь ею сам… плоть и кровь свою, а не чужую, отдай», – учит Кветцалькоатль, древнемексиканский Дионис-Орфей.
XXXIII
Впрок ли эта наука людям? Знают ли они, что делают в омофагии? То знают, то не знают; то помнят, то забывают.
«Критяне в таинствах делают все по порядку, что умирающий Младенец (Загрей) делал или испытывал, aut fecit, aut passus est», – сообщает Фирмик Матерн (Firm. Matern., VI). «Жертвы терзание и пожирание есть лицедейство, mimesis, страданий Дионисовых», – учат орфики (Вяч. Иванов, V, 38). В древние дни, тенедосцы посвящали Дионису лучшую телицу с тельцом во чреве и, когда телец рождался, ухаживали за маткой, как за родильницей; тельца же приносили в жертву, надев ему на копыта котурны и делая вид, что человека, поразившего его топором, хотят побить камнями, а тот бежал, спасаясь к морю (Aelian., Natur. anumal., XII, 34). Котурны – трагическая обувь, так же как белила на черных лицах титанов, пожирающих младенца Загрея, – трагические маски. Это и значит: жертва земная есть подобье, «лицедейство», mimesis, и «воспоминание», anamnesis. Жертвы Небесной, Агнца, закланного от начала мира.
Вот почему в таинствах заменяется иногда жертвенное животное хлебом, испеченным в виде этого животного (O. Pfleiderer. Das Christusbild, 1903, p. 86).
И опять, что на одном конце мира, то и на другом: перувианское «боговкушение», sanku, есть окропленный кровью тельца, маисовый хлеб (Robertson, Pagan Christs, p. 379), а древнемексиканское teoqualo – вылепленное из маисового теста изваяньице бога Солнца, Витцилопохтли, дробимое на части и вкушаемое посвященными (См. выше: Атлантида, I ч., XI, Отчего погибла Атлантида? VI). Вспомним царей Атлантиды в мифе Платона: «Заколали жертвенного быка на столбе Закона, кровью его наполняли кратер и, черпая золотыми фиалами, пили кровь».
Если все эти таинства не сплошное «безумье», а хотя бы отчасти религиозный опыт веков и народов, то вывод ясен: божеской плоти голод, божеской крови жажда, есть общий и непреложный закон человеческого сердца, от начала мира и, вероятно, до конца.
XXXIV
В жертвах самых древних, по крайней мере, за память человечества, – может быть, в древнейших было иначе, – «человек думал не столько о том, чтобы напитать божество, сколько о том, чтобы самому божеством напитаться. Тогда человек еще вовсе не жертвовал богу, – он пожирал его в тотэме (боге-животном) и сам становился богом» (Вяч. Иванов, V, 37). То же происходит и в позднейших Дионисовых таинствах, где «мэнады, терзая и пожирая своего бога под личиной жертвы, алчут исполниться богом, сделаться „богоодержимыми, entheoi“ (Вяч. Иванов, VIII, 21). Это и значит: омофагия есть теофагия, жертвенной плоти и крови вкушение есть боговкушение – «пресуществление (transubstatio) раздираемой жертвы в божественную душу самого Диониса», говорит Вяч. Иванов, может быть, самый глубокий исследователь древних таинств (Вяч. Иванов, VIII, 17). Так ли это? Можно ли сказать об этом, не кощунствуя, нашим христианским словом «пресуществление»? Если можно, то зачем бы и Христу на землю приходить? Нет, в древних таинствах все еще слишком смутно, слепо, сонно, похоже на бред, иногда чудовищно искажено и опрокинуто, как в кривом зеркале. «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (Достоевский), и еще неизвестно, кто победит.






