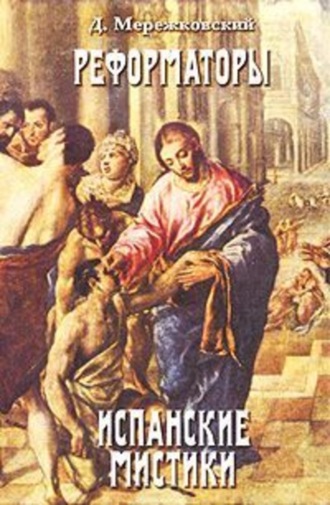
Дмитрий Мережковский
Св. Тереза Иисуса
4
Против отчего дома Терезы находилась доминиканская обитель Санто-Томазо, где была могила Великого Инквизитора, Торквемады. «Прах о. Фомы Торквемады в этой могиле покоится. Ереси бежит, как чумы, pestem fugit haereticam», – гласила на могиле надпись. Слышала, вероятно, Тереза в детстве, рассказ об одном из последних страшных дел Торквемады, легенду о Св. Младенце. Выкрестов иудейских из города Окканьи близ Авилы обвинили, справедливо или несправедливо, в том, что они украли христианского мальчика, распяли его в ночь на Страстную Субботу, искололи ножами, выточили из жил его кровь, вынули из груди сердце, высушили его, истолкли в порошок и смешали с украденным из церкви и тоже истолченным хлебом Св. Причастия, чтобы «изготовить колдовство», от которого должно было умереть бесчисленное множество христиан и Церковь погибнуть, а Синагога восторжествовать. В 1491 году, за четверть века до рождения Терезы, судьи Св. Инквизиции судили в г. Авиле этих действительных или мнимых злодеев и восемь из них приговорили к сожжению на костре – «делу веры» – acto de fé. Шестеро покаялись, но двое, Юче Франко, двадцатилетний юноша, и отец его, восьмидесятилетний старик, остались до конца нераскаянными; страшную пытку – раскаленными докрасна железными щипцами рвали им ребра – вынесли они без стона, без жалобы и, сгорая на медленном огне, сохранили непоколебимое мужество до последнего вздоха.
«Тоже Агумады, Закоптелые!» – может быть, прошептал, услышав об этом, Родриго, и глаза его блеснули восхищением.
«Что ты говоришь?..» – начала Тереза, возмутившись, и не кончила, – почувствовала вдруг, что он, может быть, прав. Если бы до ее сознания могло дойти это чувство, то, может быть, она подумала бы: «До какого отчаяния надо было довести людей, чтобы они совершили такое злодейство!»
Торквемада был человеком «благочестивейшим», как будто святым, потому что в самом деле любил если не Христа, то неотступную и соблазнительную тень Его, которая казалась людям тогда, и потом будет казаться, Христом. Был Торквемада и человеком «милосерднейшим», потому что в самом деле верил, что временным огнем спасает погибающих от вечного огня.
Встреча Терезы, в детстве, с Торквемадой – тоже пророческое знамение. Но если те три первых – возвещают добро в жизни ее и святость, то это, четвертое, – возвещает зло и грех. Будут преследовать ее всю жизнь в красном свете костров две черные тени – Торквемады, Великого Инквизитора, и мнимого Христа, не узнанного ею Антихриста.
5
«Матушка моя была женщина редких достоинств, – вспоминает Тереза. – Но доброго я почти ничего не перенимала от нее, а то, что в ней не было добрым, мне очень вредило. Она любила читать рыцарские книги. Это было для нее только развлечением и отдыхом… но для меня и для братьев моих – чем-то большим… Кончить все наши дела торопились мы, чтобы предаться этому чтению, а так как отец наш смотрел на него с неудовольствием, считая книги эти дурными, то мы читали их потихоньку от него… Этот маленький грех матушки незаметно ослаблял добрые чувства мои… Прячась от отца, проводила я многие часы дня и ночи за чтением и так пристрастилась к нему, что мне нужны были все новые книги, чтобы страсть мою утолить». В эти дни начала она писать, вместе с братом своим, Родриго, рыцарский роман.
Было время, когда яснейший гидальго Алонзо де Агумада еще не видел никакого зла в рыцарских книгах. В мрачном сводчатом покое, с валявшейся в углу кучею ржавых рыцарских доспехов – броней, шлемов, щитов и мечей, – проводил он дни и ночи за чтением этих книг и едва не помешался от них так же, как Рыцарь Печального Образа, дон Кихот Ламанческий.
Дети верят в сказки, а взрослые, не только в Испании XVI века, но и всегда, везде, верят в рыцарские или им подобные книги, с тою разницей, что детям, чтобы верить в сказки, не надо сходить с ума, а взрослым надо.
Если бы друзья дона Алонзо прочли «Дон Кихота», то, может быть, увидели бы, что эти два рыцаря схожи почти во всем: был и этот, как тот, ростом высок и страшно худ, с таким же, как у того, простым и печальным лицом, с детски ясными голубыми глазами и ангельски доброй улыбкой; так и этот, подобно всем гидальго Старой Кастилии, казалось бы, и в нищенском рубище, <был> благороднейшим рыцарем «яснейшей крови». Оба едва не помешались от рыцарских книг, но, опомнившись, прокляли их и хотя дон Алонзо не сжег их, но сделал, может быть, лучше: велел их отнести на чердак, на съедение крысам. И умерли оба, как добрые христиане, почти как святые. «Я уже не дон Кихот Ламанческий, а гидальго Алонзо Квиджано Добрый», – скажет Дон Кихот, умирая. То же мог бы сказать, в смертный час, и гидальго Алонзо де Агумада, потому что, вплоть до имени, все у них было общее.
Может быть, в те дни, когда еще он сходил с ума от рыцарских книг, маленькая Терезина, любимая дочка его, робко, на цыпочках, входила в комнату его, и, положив ей руку на голову, он улыбался ей грустно и ласково, так, что ей казалось, что от этой руки входит в нее какая-то сила; она еще не знала, что это чудная и страшная сила Мечты. Когда же снова обращал он усталые и воспаленные от чтения глаза на недочитанную страницу, девочка все так же робко, на цыпочках, выходила из комнаты, как от только что уснувшего тяжелобольного уходят потихоньку, чтобы его не разбудить.
Как-то раз, может быть в поисках пропавших утюгов и гладильной доски или других домашних вещей, донья Беатриче поднялась на чердак и, увидев в самом дальнем и темном углу груду валявшихся пыльных книг, взяла одну из них и зачиталась ею так, что не слышала, как зазвонили к вечерне; когда же, наконец, услышала, то вздрогнула и потихоньку, крадучись, сошла вниз, в комнату свою, точно сделала какое-то недоброе дело. Но, на следующий день, опять пошла туда же, взяла начатую книгу и, спрятав ее под одежду, спустилась, боязливо оглядываясь, как воровка, в спальню свою, где почти всю ночь провела за чтением. Так же и в следующие дни ходила на чердак за книгами и перенесла их почти все, одну за другой, в комнату свою, где запирала на ключ в большой кованый сундук из-под приданого. Прятала ключ под подушку, а по ночам, вставая, читала до зари. Видела часто, как мавры едят гашиш и курят опиум: так же и она опьянялась рыцарскими книгами. Знала, что это очень дурно, но как ни боролась и ни мучилась, не могла противиться соблазну медленно и сладостно отравляться мечтой и находить в ней все, чего не было у нее в жизни.
Однажды, войдя потихоньку в спальню, увидела она, что маленькая Терезина, стоя над открытым сундуком, читает книгу с таким жадным вниманием, что не слышала и не видела, как она вошла. Броситься хотела к ней мать, вырвать у нее книгу, спасти, – но этого не сделала, может быть, потому, что испугалась и устыдилась, не зная, что сказать, когда она спросит ее, почему, если книги эти так дурны, сама она читает их? Вышла из комнаты опять потихоньку, как воровка, или хуже того.
Вскоре тяжело заболела, а когда начала поправляться, заметила с ужасом, что ключ от сундука из-под подушки пропал, но никому ничего не сказала, может быть, все от того же страха и стыда, хотя и несказанно мучилась, что Терезина ест гашиш и курит опиум, сладостно и медленно отравляясь Мечтой.
Донья Беатриче вышла замуж за дона Алонзо, когда ей было лет пятнадцать, а ему за сорок. Он был вдовец с тремя детьми от первого брака, а от второго – родилось у него еще девять. Роды за родами следовали так быстро, что донья Беатриче была почти всегда больна, и ей казалось, что она всегда рожает и будет рожать. Та же судьба постигла ее, как стольких женщин: брак – убийство.
Девушки в Испании, выходя замуж, сохраняли девичье имя. Вещим оказался этот обычай для супруги дона Алонзо: замужем продолжала она быть девушкой, родившей девять человек детей. В молодости была красавицей, но годам к тридцати уже почти не оставалось следов от ее красоты, и в темных вдовьих одеждах, которые начала носить уже лет с двадцати, казалась она почти старой женщиной. Судя по всему этому, трещина давно уже зияла в супружеском счастии дона Алонзо и доньи Беатриче. Точно такие же трещины зияют почти во всяком супружеском счастьи, но одни не дают им расти, а другие дают, пока не зазияет трещина так, что в нее проваливается все, как в бездну. Кажется, нечто подобное произошло и с доном Алонзо и доньей Беатриче.
Слишком хорошо знает Тереза, что «Жизнь» ее, «Душу» будут читать чужие, холодные и, может быть, злые люди, судьи Св. Инквизиции: вот почему говорит она об этой детской, как будто маленькой, а на самом деле великой для нее трагедии с матерью слишком осторожно, бледно и плоско; но чем осторожнее, тем легче догадаться о ней.
В тридцать три года тихо угасла донья Беатриче, как лампада без масла, так и не сказала никому до конца о пропавшем ключе, и дон Алонзо, видя, что она умирает с каким-то камнем на сердце, не посмел ее об этом спросить. Видела это, может быть, и Терезина, – ей было тогда четырнадцать лет, – и тоже спросить не посмела.
После смерти жены дон Алонзо еще сильнее и мучительнее полюбил Терезину, и она – его. Часто и подолгу он беседовал с нею.
Однажды, войдя к нему в комнату и застав его за чтением недавно вышедшей книги «Великая победа за морем», «Gran Conquista de Ultramar», – книга эта была теперь его любимым чтением, – и она спросила его, почему он больше не читает рыцарских книг?
«Это очень дурные книги, – ответил он и, положив ей руку на голову, сказал: – Никогда не читай их и ты, Терезина, – обещаешь?»
«А как же матушка?..» – едва не спросила она, но вдруг чего-то испугалась и молча, бросившись к нему на шею, вся прижалась к нему: может быть, вдруг поняла, чтó сделала с матерью, и что сделала с нею мать.
«В тех дурных и глупых книгах говорится о том, чего никогда не бывает и не может быть, а в этой – о том, что было и может быть всегда», – если бы так начал ей говорить дон Алонзо, то она уже его не слушала бы и думала бы о своем: что лучше – то ли, что было однажды и может быть всегда, или то, чего никогда еще не было, но, может быть, будет когда-нибудь? И между тем как вглядывалась она в безнадежно грустные глаза его и в еще более грустную улыбку, ей начинало казаться, что и он не знает, что лучше.
6
Между донкихотством и донжуанством существует не только в Испании XVI века, но и везде, всегда, нерасторжимая связь. Что в войне Дон-Кихот, то в любви Дон-Жуан. Меч свой подымает Рыцарь Печального Образа на исполина – ветряную мельницу – с такой же святой и безумной отвагой, с какой Дон-Жуан протягивает руку свою Каменному Гостю, и гибель обоих одинаково страшна и блаженна, потому что оба знают, что прекраснее всего, что есть и может быть, то, чего никогда еще не было, но будет когда-нибудь.
Донкихотство и донжуанство – две створы той двери, через которую и св. Тереза входит в жизнь.
Только что «глаза ее открылись на прелести Божьего мира, и люди заговорили, что и для нее был щедр Господь на эти прелести», – как донкихотство кончилось для нее, и началось донжуанство, или, вернее, донжуанство и донкихотство слились в одно – в безумную преданность невозможной Мечте в «Небесное Рыцарство», Caballeria Celestial, – смешение внутренней действительности с внешнею; того, что кажется, – с тем, что есть. Маленькая Терезина с душой Дон-Кихота безумного тоже немного сходит с ума, воображая себя одной из тех «Прекрасных Дам», для которых влюбленные в них рыцари, Амадисы и Пальмерины, совершают бессмертные подвиги.
«Я полюбила наряжаться, потому что хотела нравиться, – вспоминает Тереза. – Я очень заботилась о белизне рук моих и о прическе; не щадила также духов и всяких суетных женских украшений, на которые была большой мастерицей». «Я умела говорить с моими двоюродными братьями о том, что их занимало, выслушивать их ребяческие признания в любовных делишках… Вскоре подверглась я дурному влиянию одной, часто наш дом посещавшей, родственницы. Матушка моя, видя ее легкомыслие и угадывая зло, какое могла она мне причинить, старалась выжить ее из дому, но напрасно, – столько было у нее предлогов для посещений (кажется, потому, что она была слишком близкой родственницей). Общество ее было мне очень приятно… потому что она помогала мне находить развлечения, которые мне нравились». Кажется, эта разбитная, повадливая и пронырливая дамочка была одной из тех невольных и невинных сводней, какими часто бывают стареющие легкомысленные женщины. «Помнится, мне было лет четырнадцать, когда установилась наша дружеская с нею связь… Также и служанки в доме, ослепленные корыстью, помогали мне делать зло… Никакого, впрочем, смертного греха, который бы меня удалил от Бога, я не нахожу в эти юные годы жизни моей, потому что страх Божий спасал меня от него, и еще больший страх нарушить законы чести». Слово «honra» употребляет она, что значит – «внешняя, условная честь», а не слово «honor» – «внутренняя честь, безусловная». «Но этот вечный страх за честь делал всю жизнь мою непрерывною мукою. Во многом, впрочем, если только я надеялась, что оно останется тайным, я не боялась идти и против законов чести». Если чести не потерять, значит, для девушки не быть соблазненной, не пасть, то под всеми этими глухими намеками угадывается довольно ясно какой-то любовный роман или с одним из двоюродных братьев ее, чьи «ребяческие признания» в любви, может быть, не только к другим, но и к ней самой, она так хорошо умела выслушивать, или с неизвестным маленьким Дон-Жуаном, с которым свела ее та легкомысленная родственница, невинная сводня. А если так, то, может быть, и будущая св. Тереза так же, как вся Испания, вся Европа XVI века, окажется между двух огней – между донкихотством и донжуанством, рыцарством любви небесной и рыцарством любви земной.







