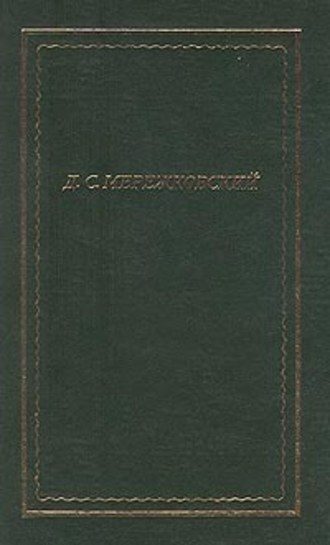
Дмитрий Мережковский
Полное собрание стихотворений
LXXIII
И благовест колоколов победный,
Как приговор таинственный, гудел...
Я в эти дни, к прискорбью мамы бедной,
Как будто в злой болезни, похудел:
По комнатам, как тень, слонялся, бледный
И нелюдимый, плохо спал и ел,
И спрашивала мать меня порою
В отчаянье: «Мой мальчик, что с тобою?..»
LXXIV
Но я молчал, стыдился дум моих,
Лишь изредка, не говоря ни слова,
К ней подходил, беспомощен и тих,
И маленьким, не думающим снова
Я делался от ласк ее простых,
Когда она, жалея, как больного,
И мудрое безмолвие храня,
С улыбкою баюкала меня.
LXXV
Спасителем моим Елагин милый
Был, как всегда: экзамены прошли,
И, как покойник, вставший из могилы,
Я свежестью дышал сырой земли,
От солнца щурился, больной и хилый,
Но радовали в море корабли,
Знакомый пруд, и ледник, и дорожка
Меж грядками душистого горошка.
LXXVI
Все трогало меня почти до слез —
С полупрозрачной зеленью опушка
И первый шелест молодых берез,
И вещая унылая кукушка,
И дряхлая подруга детских грез —
Родная ива, милая старушка,
И дачный вкус парного молока,
И теплые живые облака.
LXXVII
Катались мы на лодке с братом Сашей:
Покинув весла, зонтик дождевой
Мы ставили, как парус, в лодке нашей;
Казался купол неба над водой
Лазурной опрокинутою чашей,
И на пустынной отмели порой
С гниющим остовом ладьи рыбачьей
Картофель мы пекли в золе горячей.
LXXVIII
Закусывая парой огурцов
И слушая великое молчанье
Зеркальных вод и медленных коров
Протяжное унылое мычанье,
И в стеблях желтых водяных цветов
Ленивых струек слабое журчанье, —
Я все мои грамматики забыл,
Не думал, есть ли Бог, и счастлив был.
LXXIX
Скучать в домашней церкви за обедней
По праздникам в Елагинский дворец
Водили нас; я помню, в арке средней
Меж ангелами реял Бог Отец.
Но суетных мой ум был полон бредней,
Я думал: службе скоро ли конец?
Смотрел, как небо в перистых волокнах
Высоких туч блестит в открытых окнах.
LXXX
Крик ласточек сквозь пение псалмов,
Шумящие под свежим ветром клены,
Дыхание сиреневых кустов, —
Все манит прочь из церкви в сад зеленый,
И кажется мне страшным лик Христов
Сквозь зарево свечей во мгле иконы:
Любовью, чуждой Богу, мир любя,
Язычником я чувствовал себя.
LXXXI
И в этой церкви раз в толпе воскресной,
Среди девиц уродливых и дам,
Увидел профиль девушки прелестной,
Смотрел я жадно, волю дав очам:
Мне было все в ней тайною чудесной,
Подобной райским непонятным снам,
И я в благоговенье не заметил,
Цвет глаз ее был темен или светел.
LXXXII
Лишь смутно помню, что она была
Вся в белом кружеве; глубокой тенью
Ресниц и томной бледностью чела
Я изумлен и предан был смятенью:
Казалась мне, воздушна и бела,
Она принцессой Белою Сиренью,
Окутанною в сказочный туман.
Тайком невинный начался роман.
LXXXIII
И образ твой, елагинская фея,
Доныне сердцу памятен и мил;
Там, где к пруду спускается аллея,
За белым платьем иногда следил
И прятался я, подойти не смея;
Ни разу в жизни с ней не говорил,
Любви неопытную душу предал,
Хоть имени возлюбленной не ведал.
LXXXIV
Когда в затишье знойных вечеров
Гармоника кухарок собирала
В конюшню – царство важных кучеров,
И в облаках был нежный цвет коралла,
С толпою неуклюжих юнкеров
В крокет моя владычица играла
И бегала, смеялась громче всех:
Доныне в сердце – этот милый смех.
LXXXV
И, крадучись, как вор, к решетке сада
За дачей, где она жила, тайком
Я подходил, и было мне отрада
Смотреть на ветхий деревянный дом,
Хотя мешала пыльная ограда
Кустов колючих; к тем, кто с ней знаком,
Я завистью был жгучей пожираем,
И садик бедный мне казался раем.
LXXXVI
Но холод жизни ранний цвет убил,
И все, что было мне еще неясно,
Что я в душе лелеял и хранил,
Едва родившись, умерло безгласно, —
И никогда я больше не любил
Так пламенно, так нежно и напрасно,
Как в тех мечтах, погибших навсегда
Без имени, без звука, без следа...
LXXXVII
Мы в сердце вечную таим измену:
Уж привлекал внимание мое
Иной предмет: однажды прачку Лену
Я увидал, стиравшую белье:
Я помню мыла тающую пену,
Когда сквозь пар смотрел я на нее,
Румяную, с веснушками, с глазами
Почти без мысли, с голыми руками.
LXXXVIII
А в прачешной и в кухне был пожар
Сияния вечернего: блеснули
Ведро, кофейник, яркий самовар,
Зрачки кота, дремавшего на стуле,
И полымем объятые, как жар,
Кругом на полках медные кастрюли;
И Лена, вся здоровием дыша,
Была в огне заката хороша.
LXXXIX
И весело мне было рядом с нею:
Под нежным солнцем в тонких завитках
Коротеньких волос я видел шею
И ямочки на розовых локтях.
Хотя любил я сказочную фею,
Но эта баба с утюгом в руках,
Богиня синьки, мыла и крахмала,
Мое воображенье занимала.
ХС
Зачем ты дал нам две души, Господь?
Друг друга ненавидя и страдая,
Напрасно в людях спорят дух и плоть,
Любовь небесная, любовь земная:
Одна другой не может побороть.
С Владыкой Тьмы враждует Ангел рая:
Кому из них я первенство отдам,
Кто победит меня, – не знаю сам.
XCI
Не смейся же, читатель благосклонный,
Что мы с тобой нежданно перешли
От прачки Лены с барышней-Мадонной
К противоречьям неба и земли:
Один закон владеет непреклонный
Созвездьями, горящими вдали,
С их правильным восходом и закатом
И силой, движущей незримый атом.
XCII
Так сразу я в двух женщин был влюблен:
Мне самому казалось это диким...
Уже тогда, с младенческих времен,
Лукавым духом, Янусом двуликим,
Неопытный мой ум был соблазнен,
И с этих пор я с ужасом великим
Всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес,
Дух грешной плоти с ангелом небес.
XCIII
Тот узел Гордиев чей меч разрубит?
О, если бы решить я только мог.
Кого душа моя сильнее любит,
Кто сердцу ближе: Демон или Бог!
Их двойственный соблазн меня погубит:
Я все еще стою меж двух дорог,
И с прачкой Леной борется богиня —
С кощунством вечным – вечная святыня.
ХСIV
Я осенью в тот год увидел Крым:
Казался край далекий сном волшебным.
Я не из тех, кому приятен дым
Отечества, и был всегда целебным
Мне путь далекий к небесам иным.
Отец мой ехал по делам служебным;
Его давно уже молила мать
Меня с собой на южный берег взять.
XCV
Из царства моха, кочек и рябины
Перелетел я в дремлющий аул
В уютной неге солнечной долины;
Мне яркий месяц в очи заглянул;
В тиши ночной таинственной пучины
Я полюбил многоголосый гул,
Смотрел, как в небе серебрится тополь
И при луне белеет Севастополь.
XCVI
Там, где шумят немолчные валы,
Где вознеслись над морем великаны —
Из черного базальта две скалы,
И стелются над пропастью туманы,
Где реют с хищным клекотом орлы,
Был некогда великий храм Дианы, —
Там ныне мрачный и глухой пустырь,
А рядом – крест и бедный монастырь.
XCVII
В обители Георгия Святого
Здесь иноки нашли себе приют,
Но по ночам на мысе диком снова
Колонны храма белого встают —
Языческие призраки былого,
И волны гимн торжественный поют...
Там я бродил, и сердце грустью ныло,
А колокол вдали звучал уныло.
XCVIII
О, боги древности, я чуял вас,
Когда в безмолвной и печальной тризне
Сюда ваш рой слетал в предзвездный час:
Казалось мне, – в иной далекой жизни
Я с вами здесь бывал уже не раз
И ныне вновь пришел к моей отчизне;
С виденьями богов наедине
И сладостно, и страшно было мне...
XCIХ
Обвеян прелестью твоей, Эллада,
В какие был я думы погружен,
Чему душа была безумно рада,
Когда горел полдневный небосклон
И волн дышала вечная прохлада
На высоте меж греческих колонн
Той полукруглой маленькой веранды
Над рощами тенистой Ореанды.
С
Там я любил по целым дням мечтать:
В благоуханье мяты и шафрана
И в яркости твоей, морская гладь,
И в бледной дымке знойного тумана, —
Во всей природе южной – благодать
Великого языческого Пана.
О, древний бог, под сенью рощ твоих
Сложил я первый неумелый стих.
CI
Но долго я скрывал подруги тайной,
Стыдливой Музы, нежные грехи:
Хромой сонет о бледной розе чайной
Восторженной был полон чепухи.
Но, музыкою рифм необычайной
Я упивался: глупые стихи
Казались мне пределом совершенства,
И я над ними плакал от блаженства.
CII
Я Пушкину бесстыдно подражал,
Но, ослеплен туманом романтизма,
В «Онегине» я только рифм искал:
Нужна была мне сказочная призма —
Луна и пурпур зорь, и груды скал;
Мятежный Пушкин, полный байронизма
И пышных грез, мне нравился тогда,
Каким он был в двадцатые года.
CIII
Я пел коварных дев, красы Эдема
И соловья над розой при луне,
И лучшую из тайных роз гарема,
Тебя, которой бредил я во сне
И наяву, о, милая Зарема.
Стихи журчали, и казалось мне,
Что мой напев был полон неги райской,
Как лепет твой, фонтан Бахчисарайский!
CIV
Я не люблю родных моих, друзья
Мне чужды, брак – тяжелая обуза.
В томительной пустыне бытия
Гонимая отверженная Муза —
Единственная спутница моя.
И более надежного союза
Нет на земле: с младенчества храня,
Она, как мать, лелеяла меня.
CV
Не ведали мы с нею шумной славы,
Но в дни унынья ты была со мной,
Богиня кроткая, в тени дубравы
Или у вод, объятых тишиной,
Где сонные благоухают травы,
Ждала меня с улыбкой неземной,
Таинственною прелестью дышала
И ласкою невинной утешала.
CVI
И был в чертах прекрасного лица
Глубокий след божественной печали.
Лавровой тенью гордого венца
Твоей главы друзья не увенчали.
Ты слышала и брань и суд глупца,
Сообщников немногих мы встречали.
Но, совершая долг своим путем,
Всегда мы шли и до конца пойдем.
СVII
С тобой не страшен ночи мрак беззвездный:
Направь мои неверные стопы.
Над пропастью цветы тебе любезны,
Растущие не на путях толпы,
И ты ведешь меня по краю бездны
На узкие необщие тропы,
Откуда виден отблеск на вершинах
Зари, еще неведомой в долинах.
CVIII
Пусть годы память обо мне сотрут,
Слезой умильной юноши и девы
Не осветят мой незаметный труд,
Пусть не дано взошедшие посевы
Очам моим увидеть и замрут
Без отклика негромкие напевы:
Я сердцем чист, я делал все, что мог, —
Тебя, о, Муза, оправдает Бог.
CIX
Мы не нашли в сердцах людей ответа,
Но только бы он до конца горел,
Огонь, которым жизнь моя согрета, —
Недаром я любил, страдал и пел.
Благословен святой удел поэта,
Благословен изгнанников удел,
Мой угол бедный, тихая лампада —
Моих ночей и тайных слез отрада.
СХ
Когда я с Музой начинал мой путь
И ждал победы, дерзостен и молод,
Как страшно было в Лете потонуть,
Как мучил славы ненасытный голод!
Но в тридцать лет ровнее дышит грудь,
Сулит покой нам Леты вечный холод:
Отрада есть в ее ночной волне, —
В молчании, в забвенье, в тишине...
CXI
А может быть и то: под слоем пыли
Меж тех, чьи книги только мышь грызет,
Кого давно на чердаке забыли,
Историк важный и меня найдет
И песнь мою о стародавней были
С улыбкою внимательной прочтет,
И гордую в изгнании суровом
Помянет Музу нашу добрым словом.
CXII
Теперь с тобой прощаясь, мы почтим,
Богиня, ту, что тихо спит во гробе,
Кто ангелом-хранителем твоим
Была во мраке, холоде и злобе.
Возлюбленную тень благословим:
Вы были мне заступницами обе,
И верую, что в час последний вновь
Меня спасет великая любовь.
CXIII
Ты в горестный и страшный час, родная,
Придешь ко мне не с горестным лицом,
Не слабая, не жалкая, больная,
Такой, как ты была перед концом,
Но с девственной улыбкой, молодая,
С торжественно сияющим венцом,
Меня в преддверье новой жизни встретишь
И радостно на мой призыв ответишь.
СХIV
Сотрешь с чела в предсмертной тишине
Холодный пот моей последней муки.
Чтоб слаще мне спалось в могильном сне,
Баюкая, на любящие руки
Возьмешь меня и тихо скажешь мне:
«Не бойся же, – нет смерти, нет разлуки.
Тебе я песню прежнюю спою, —
Усни, мой мальчик, баюшки-баю».
CXV
Великого обета не нарушу:
О, мама, скоро я к тебе приду!
Как погибающий пловец – на сушу,
Стремлюсь к тебе и радуюсь, и жду:
Душа обнимет родственную душу,
В твоих чертах любимых я найду, —
Как разрешишь ты все земные узы, —
Черты моей богини, вечной Музы.
Середина – конец 1890-х годов
Стихотворения разных лет
Лирика
Царство божие
Сам Христос молитвой благодатной
Нас учил: в ней голос сердцу внятный,
Дышит в ней святой любовью все,
И звучит, победу возвещая,
Как призыв, надежда дорогая:
Да приидет царствие Твое!
Будет все, во что мы верим, други,
И мечи перекуют на плуги,
И земля, тонущая в крови,
Позабудет яростные битвы,
И в одну сольются все молитвы:
Да приидет царствие любви!
Пусть природа нам отдаст покорно,
Повинуясь мысли чудотворной,
Все богатства тайные свои,
Пусть сольется с творчеством познанья
С красотою – истины сиянье,
Чтоб прославить царствие любви.
И тогда стекутся все народы
Под священным знаменем свободы
Вспомнить братство древнее свое,
И насилье будет им ненужно,
И семья людей воскликнет дружно:
Да приидет царствие Твое!
Но пока... ужели беззащитной
Жертвой зла и смерти ненасытной,
Старой лжи не в силах побороть,
Ляжем мы, как мертвые ступени,
Под шаги грядущих поколений
В царство вечное Твое, Господь?..
Разум полон вечного сомненья.
Но безумно жаждет обновленья
Сердце, сердце бедное мое.
И пока не перестанет биться,
Будет страстно верить и молиться:
«Да приидет царствие Твое!»
1 марта 1882, <1894>
Мудрецу
Речью уверенной, чуждой сомнения,
В смерти, мудрец, ты сулишь мне покой
И нескончаемый отдых забвения,
Сладостный отдых во тьме гробовой.
«Смерть, – говоришь ты, – глаза утомленные
Нам благотворной рукою смежит,
Смерть убаюкает думы бессонные,
Смерть наше горе навек усыпит».
Знай же, мудрец, той мечте обольстительной
Всю мою веру я в жертву принес;
Но подымается с болью мучительной,
С прежнею болью упрямый вопрос:
Что, если, там, за безмолвной могилою,
Нам ни на миг не давая уснуть,
Те же мученья, но с новою силою
Будут впиваться в усталую грудь?
Что, если, вырвав из мрака ничтожного
Душу, бессмертную душу мою,
Не потушу я сознанья тревожного,
Жгучей тоски я ничем не убью?
Буду о смерти мольбой бесполезною
Я к безучастной природе взывать, —
Но отовсюду холодною бездною
Будет упрямая вечность зиять,
Вечность унылая, вечность бесцельная,
Вечность томленья и мук без конца,
Где не уснет моя скорбь беспредельная
И не изменится воля Творца;
А надо мной в красоте оскорбительной
Будет злорадное небо сиять,
Звездные очи улыбкой презрительной
Будут на стоны мои отвечать...
Нет, перед страхом немой бесконечности
Разум твой гордый бессилен, мудрец...
О, беспощадные призраки вечности,
Кто же вас вырвет из наших сердец?
<1883>
Мрамор
Сонет
Ваятель видел сон: дыханье затаив,
Казалося, глядит он, жаждой истомленный,
Как весь из мрамора, пустынно молчалив,
Возносится хребет в лазури распаленной.
На нем – ни ручейка, ни муравы зеленой;
Но млеет и горит искрящийся отлив...
Он им любуется, художник упоенный,
Про жажду он забыл, и в муках он счастлив...
Тоскующий певец, ни мира, ни свободы
Себе ты вымолить не можешь у природы;
Ее краса и блеск души не утолят.
Но, стройных образов ваятель вдохновенный,
И в муках перед ней восторгом ты объят:
Она – бездушная, твой мрамор – драгоценный!
<1884>
«Уж дышит оттепель, и воздух полон лени…»
Уж дышит оттепель, и воздух полон лени,
Порой на улице саней неровный бег
Касается камней, и вечером на снег
Ложатся от домов синеющие тени.
В груди – расслабленность и кроткая печаль;
Голубка сизая воркует на балконе,
Меж колоколен, труб и крыш на небосклоне
Янтарные пары куда-то манят вдаль,
И капли падают с карнизов освещенных,
Щебечут воробьи на ветках обнаженных,
Из городских садов, обвеянных весной,
Уж пахнет сыростью и рыхлою землей;
И черная кора дубов уж разогрета.
Желанье смутное – в проснувшейся крови;
Как семя под землей, так зреет стих любви
В растроганной душе поэта.
1888
«Летние, душные ночи…»
Летние, душные ночи
Мучат тоскою, веют безумною страстью,
Бледные звездные очи
Дышат восторгом и непонятною властью.
С колосом колос в тревоге
Шепчет о чем-то, шепчет и вдруг умолкает,
Белую пыль на дороге
Ветер спросонок в мертвом затишье вздымает.
Ярче, все ярче зарница,
На горизонте тучи пожаром объяты,
Сердце горит и томится.
Дальнего грома ближе, все ближе раскаты...
1888
Смерть Всеволода Гаршина
Погиб и он – когда тот слух к нам долетел,
Не верилось, и в страхе мы внимали,
Мысль отрывалась вдруг от мелких, пошлых дел,
От будничной заботы и печали;
«И он, и он погиб», – бледнея, мы шептали.
Нас ужас леденил нежданного конца;
И что-то пронеслось, и душу нам смутило,
И содрогнулися беспечные сердца
Пред этой новою открывшейся могилой...
Как будто все почувствовали вдруг,
Что слишком близки нам его мученья
И что недуг его – для всех родной недуг;
Как будто поняли мы сердцем на мгновенье
Последний вопль его предсмертных мук...
Зачем так много сил дала ему природа?
Ведь с чуткой совестью и страстною душой
Нельзя привыкнуть жить меж нас во тьме глухой…
И он страдал всю жизнь, не находя исхода,
Истерзан внутренней, незримою борьбой.
О, горе тем, кто в наше время
Проснулся хоть на миг от рокового сна, —
Каким отчаяньем душа его полна,
И как он чувствует тоски гнетущей бремя!
О, горе тем, кто смел доныне сохранить
Живую душу человека,
Кто не успел в себе сознанья задушить
И кто во прах не пал пред идолами века!
В нем скорбь за всех людей была так велика,
Что, нежным ландышем главу к земле склоняя,
На ниве жизненной он пал, изнемогая,
Как будто ядом «Красного цветка»
Была отравлена душа его больная...
Друзья, вот бесконечный ряд могил, —
Редеет круг бойцов... Не стало лучших сил.
Все честное хороним мы послушно,
Но долго ли еще нам, братья, хоронить?..
Ведь жизнь теперь, как склеп, где так от трупов
душно,
Что скоро нам самим нельзя в нем будет жить...
О, если правда в нас заглохла не совсем,
И голос совести еще не вовсе нем, —
Сюда, друзья, сюда на раннюю могилу!
Оплачем юные надежды и мечты...
Подавленную творческую силу,
Оплачем нежные, убитые цветы,
Мир отстрадавшему!.. Здесь, братья, мы сойдемся
Над гробом тесной, дружеской толпой
И в общей горести хотя на миг сольемся,
И прах его почтим горячею слезой.
1888
«Кой-где листы склонила вниз…»
Кой-где листы склонила вниз
Грозою сломанная ветка,
А дождь сияющий повис,
Как бриллиантовая сетка.
И он был светел и певуч,
И в нем стрижи купались смело,
И там, где падал солнца луч,
Они сверкали грудью белой
На фоне синих грозных туч.
«В темных росистых ветвях встрепенулись веселые птицы…»
В темных росистых ветвях встрепенулись веселые птицы;
Ласточки в небо летят с щебетаньем приветным,
В небо, что тихо наполнилось светом денницы,
Словно глубокая чаша – вином искрометным.
И вот в победной багрянице
Блеснуло солнце в облаках,
Как триумфатор в колеснице
На огнедышащих конях.
Все, что живет, в это утро – светло и беспечно,
Ропщет один лишь поток, от мятежного горя усталый,
И, как титан Прометей, безответные скалы
Он оглашает рыданьем и жалобой вечной.
Май 1888, Боржом
Два сонета
1. Лилия
С тех пор, как расцвела ты, бледная, немая,
Доступная зари лишь розовым огням, —
Никто не прижимал, о лилия святая,
Горячих уст к твоим холодным лепесткам.
Не зримая никем, без жалоб увядая,
Последний вздох любви, последний фимиам
Отдав безропотно пустынным небесам,
Ты, одинокая, умрешь, благоухая.
Но расцветешь опять, как там, в лесной глуши,
Ты в сумерках моей тоскующей души,
Цветок поэзии, цветок уединенный.
И, набожный певец, в полуночной тиши
Склонюсь я пред тобой с молитвой, умиленный,
Как перед образом коленопреклоненный.
2. Тайна
Январь кристаллами наполнил воздух льдистый.
От ярких фонарей на улице огромной,
От белых глобусов волною серебристой
Обильно льется свет, чарующий и томный.
В нем кружатся, летят и падают снежинки;
Чуть радугой блеснут – и в сумрак бесконечный
Уносятся навек алмазные пылинки,
Очей не утолив красой недолговечной.
Смотрю, но нет в душе старинного вопроса, —
Пускай уносятся созвездий хороводы,
Как этот снежный вихрь в немую даль хаоса,
Пускай вся наша жизнь ничтожна и случайна,
Но в призме радужной изменчивой природы —
Я верю, верю – есть божественная тайна!
<1888>
Свободная любовь
О, если хочешь ты, чтоб робко и смиренно
Я голову склонил к твоим ногам,
Как побежденный —
Напрасно!..
Оставь меня, уйди! – еще ни перед кем,
Ни пред одним земным кумиром, —
Ни пред людьми, ни перед Богом, —
Я не склонял свободного чела.
Моей любви я не унижу,
Я не паду во прах перед тобой, —
Пусть лучше сердце разорвется
От муки!
Но если ты мне просто,
Как брату брат,
Как равный равному, протянешь руку
И скажешь: «Вместе легче
И веселей работать!»
Как радостно схвачу я эту руку,
Товарищ милый!
Не дам тебе я неги и покоя,
Не дам тебе я счастья и забвенья,
Я не зову тебя
На пир веселый,
На праздник жизни молодой, —
Зову тебя на гордые страданья,
На темную суровую работу,
Зову тебя под ношей крестной
Изнемогать
И, может быть, погибнуть, но зато
Смотри, смотри, – какая ширь пред нами,
Какая слава в муках и позоре!..
И если сердце не трепещет
Над этой бездной,
Дай руку мне, свободная подруга,
Порвем все цепи,
Откроем крылья
Навстречу буре,
Как два товарища-орла,
Летим, летим под тучу грозовую.
1888?
«Дома и призраки людей…»
Дома и призраки людей —
Все в дымку ровную сливалось,
И даже пламя фонарей
В тумане мертвом задыхалось.
И мимо каменных громад
Куда-то люди торопливо,
Как тени бледные, скользят,
И сам иду я молчаливо
Куда – не знаю, как во сне,
Иду, иду, и мнится мне,
Что вот сейчас я, утомленный,
Умру, как пламя фонарей,
Как бледный призрак, порожденный
Туманом северных ночей.
Зима – весна 1889







