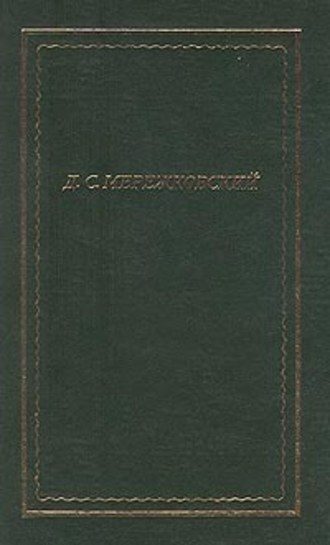
Дмитрий Мережковский
Полное собрание стихотворений
Ноябрь
Бледный месяц – на ущербе.
Воздух – звонок, мертв и чист.
И на голой, зябкой вербе
Шелестит увядший лист.
Замерзает, тяжелеет
В бездне тихого пруда,
И чернеет и густеет
Неподвижная вода.
Бледный месяц на ущербе
Умирающий лежит,
И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.
Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.
24 ноября 1894
Осенью в Летнем саду
В аллее нежной и туманной,
Шурша осеннею листвой,
Дитя букет сбирает странный,
С улыбкой жизни молодой...
Все ближе тень октябрьской ночи,
Все ярче мертвенный букет.
Но радует живые очи
Увядших листьев пышный цвет...
Чем бледный вечер неутешней,
Тем смех ребенка веселей,
Подобный пенью птицы вешней
В холодном сумраке аллей.
Находит в увяданье сладость
Его блаженная пора:
Ему паденье листьев – радость,
Ему и смерть еще – игра!..
1894
На озере Комо
Кому страдание знакомо,
Того ты сладко усыпишь,
Тому понятна будет, Комо,
Твоя безветренная тишь.
И по воде, из церкви дальней,
В селенье бедных рыбаков,
«Ave Маria» – стон печальный,
Вечерний звон колоколов...
Здесь горы в зелени пушистой
Уютно заслонили даль,
Чтобы волной своей тенистой
Ты убаюкало печаль.
И обещанье так прекрасно,
Так мил обманчивый привет,
Что вот опять я жду напрасно,
Чего, я знаю, в мире нет.
1894
Средиземное море
Я уйду из глубоких аллей
И от виллы, где дышит в тени колоннады
Дух Эллады,
От счастливых людей,
Прочь от жизни усталой,
Я уйду в эти скалы,
Где лишь мох, солнцем выжженный, чахнет,
Где свободнее ветра порыв и сильней
Меж изглоданных влагой, колючих камней
Море солью и свежестью пахнет.
Наша радость и горе,
Все, что стоит любить, все, чем можно страдать
И что люди словами умеют сказать, —
Пред тобою ничтожно, о море!
Забываю друзей и прощаю врагу,
И полно мое сердце такого бесстрастья,
Что любить на земле никого не могу,
И не страшно мне смерти, не надо мне счастья.
Между 1891 и 1895
Шум волн
Скажите мне, за что люблю, о волны,
Ваш сладостный и непонятный шум,
Когда всю ночь ему внимаю, полный
Таинственных и несказанных дум.
Изменчивы, как я, и неизменны,
Вы боретесь, и нет вам тишины,
И все-таки вы праздны и блаженны,
И олимпийской резвостью полны.
И страстного вы учите бесстрастью,
Не верить злу людскому и добру,
Быть радостным и не стремиться к счастью,
И жизнь любить как вечную игру.
И мудрости вы учите свободной:
Все пением и смехом побеждать,
Чтоб в красоте великой и холодной
Бесцельно жить, бесцельно умирать.
Ваш вольный шум – для сердца укоризна.
Мой дух влечет к вам древняя любовь:
Не прах земли, а вы – моя отчизна,
То, чем я был и чем я буду вновь.
Апрель 1895, Ницца
Ласточки
Вечером нежным, как твой поцелуй,
Полным то теплых, то свежих изменчивых струй,
Милые ласточки вьются.
Неподвижный камыш чуть заденут крылом
И стремглав унесутся,
Тонут с криками в небе родном,
Словно с дерзостным хохотом.
Нет им дела до туч,
Что ползут, застилая испуганный луч,
С медленным грохотом.
Милые ласточки, вас я люблю.
Может быть, жизнь я бы отдал мою,
Бедную гордую душу мою,
Только б иметь ваши крылья
И без усилья
В небе, как вы, потонуть.
Но надо мной вы смеетесь, играете
И подставляете
Алому вечеру белую грудь.
Жизни меня научите веселой:
Видите, как по земле я влачусь,
Скорбный, больной и тяжелый, —
Так я и в темную землю вернусь.
О, научите меня
Жизни крылатой, жизни веселой,
Петь научите меня,
Славить рождение дня,
Славить и бурю, идущую с медленным грохотом,
Петь и летать,
Все побеждать
Дерзостным хохотом!
<1895>
Не надо звуков
Дух Божий веет над землею.
Безмолвен пруд, недвижим лес.
Учись блаженному покою
У вечереющих небес.
Не надо звуков: тише, тише!
У лучезарных облаков
Учись тому теперь, что выше
Земных желаний, дел и слов.
23 июня 1895
Слепая
Боюсь, боюсь тебя, слепая
С очами белыми, о дочь
Проклятой совести, нагая
И нестыдящаяся Ночь!
Покрова нет и нет обмана.
И после всех дневных обид
Зари мучительной горит
Незаживающая рана.
1895
Нирвана
И вновь, как в первый день созданья,
Лазурь небесная тиха,
Как будто в мире нет страданья,
Как будто в сердце нет греха.
Не надо мне любви и славы:
В молчанье утренних полей
Дышу, как дышат эти травы...
Ни прошлых, ни грядущих дней
Я не хочу пытать и числить,
Я только чувствую опять,
Какое счастие – не мыслить,
Какая нега – не желать!
Июль 1895
Темный ангел
О, темный ангел одиночества,
Ты веешь вновь
И шепчешь вновь свои пророчества:
«Не верь в любовь.
Узнал ли голос мой таинственный?
О милый мой,
Я – ангел детства, друг единственный,
Всегда – с тобой.
Мой взор глубок, хотя не радостен,
Но не горюй:
Он будет холоден и сладостен,
Мой поцелуй.
Он веет вечною разлукою, —
И в тишине
Тебя, как мать, я убаюкаю:
Ко мне, ко мне!»
И совершаются пророчества:
Темно вокруг.
О, страшный ангел одиночества,
Последний друг,
Полны могильной безмятежностью
Твои шаги.
Кого люблю с бессмертной нежностью,
И те – враги!
19 августа 1895, Рощино
Проклятие любви
С усильем тяжким и бесплодным
Я цепь любви хочу разбить.
О, если б вновь мне быть свободным,
О, если б мог я не любить!
Душа полна стыда и страха,
Влачится в прахе и крови,
Очисти душу мне от праха,
Избавь, о Боже, от любви!
Ужель непобедима жалость?
Напрасно Бога я молю:
Все безнадежнее усталость,
Все бесконечнее люблю.
И нет свободы, нет прощенья.
Мы все рабами рождены,
Мы все на смерть, и на мученья,
И на любовь обречены.
1895
Две песни шута
I
Если б капля водяная
Думала, как ты,
В час урочный упадая
С неба на цветы,
И она бы говорила:
«Не бессмысленная сила
Управляет мной.
По моей свободной воле
Я на жаждущее поле
Упаду росой!»
Но ничто во всей природе
Не мечтает о свободе,
И судьбе слепой
Все покорно – влага, пламень,
Птицы, звери, мертвый камень;
Только весь свой век
О неведомом тоскует
И на рабство негодует
Гордый человек.
Но, увы! лишь те блаженны,
Сердцем чисты те,
Кто беспечны и смиренны
В детской простоте.
Нас, глупцов, природа любит,
И ласкает, и голубит,
Мы без дум живем,
Без борьбы, послушны року,
Вниз по вечному потоку,
Как цветы, плывем.
II
То не в поле головки сбивает дитя
С одуванчиков белых, играя:
То короны и митры сметает, шутя,
Всемогущая Смерть, пролетая.
Смерть приходит к шуту: «Собирайся, Дурак,
Я возьму и тебя в мою ношу,
И к венцам и тиарам твой пестрый колпак
В мою общую сумку я брошу».
Но, как векша, горбун ей на плечи вскочил
И колотит он Смерть погремушкой,
По костлявому черепу бьет, что есть сил,
И смеется над бедной старушкой.
Стонет жалобно Смерть: «Ой, голубчик, постой!»
Но герой наш уняться не хочет;
Как солдат в барабан, бьет он в череп пустой,
И кричит, и безумно хохочет:
«Не хочу умирать, не боюсь я тебя!
Жизнь, и солнце, и смех всей душою любя,
Буду жить-поживать, припевая:
Гром побед отзвучит, красота отцветет,
Но Дурак никогда и нигде не умрет, —
Но бессмертна лишь глупость людская!»
Из «Собрания стихов» (1904), «Собрания стихов» (1910) и «Полного Собрания Сочинений» (1912)
«Так жизнь ничтожеством страшна...»
Так жизнь ничтожеством страшна,
И даже не борьбой, не мукой,
А только бесконечной скукой
И тихим ужасом полна,
Что кажется – я не живу,
И сердце перестало биться,
И это только наяву
Мне все одно и то же снится.
И если там, где буду я,
Господь меня, как здесь, накажет —
То будет смерть, как жизнь моя,
И смерть мне нового не скажет.
3 июля 1900
Двойная бездна
Не плачь о неземной отчизне
И помни, – более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в смерти ничего.
И жизнь, как смерть, необычайна...
Есть в мире здешнем – мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна —
И в свете дня, как в тьме ночной.
И смерть и жизнь – родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.
Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
Своею волею навек.
И зло, и благо, – тайна гроба
И тайна жизни – два пути —
Ведут к единой цели оба.
И все равно, куда идти.
Будь мудр, – иного нет исхода.
Кто цепь последнюю расторг,
Тот знает, что в цепях свобода
И что в мучении – восторг.
Ты сам – свой Бог, ты сам свой ближний,
О, будь же собственным Творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.
Между 1895 и 1899
«О, если бы душа полна была любовью...»
О, если бы душа полна была любовью,
Как Бог мой на кресте – я умер бы любя.
Но ближних не люблю, как не люблю себя,
И все-таки порой исходит сердце кровью.
О, мой Отец, о, мой Господь,
Жалею всех живых в их слабости и силе,
В блаженстве и скорбях, в рожденье и могиле.
Жалею всякую страдающую плоть.
И кажется порой – у всех одна душа,
Она зовет Тебя, зовет и умирает,
И бредит в шелесте ночного камыша,
В глазах больных детей, в огнях зарниц сияет.
Душа моя и Ты – с Тобою мы одни,
И смертною тоской и ужасом объятый,
Как некогда с креста Твой Первенец Распятый,
Мир вопиет: Ламма! Ламма! Савахфани[30].
Душа моя и Ты – с Тобой одни мы оба,
Всегда лицом к лицу, о, мой последний Враг.
К Тебе мой каждый вздох, к Тебе мой каждый шаг
В мгновенном блеске дня и в вечной тайне гроба.
И в буйном ропоте Тебя за жизнь кляня,
Я все же знаю: Ты и Я – одно и то же,
И вопию к Тебе, как сын твой: Боже, Боже,
За что оставил Ты меня?
Между 1895 и 1899
Детское сердце
Я помню, как в детстве нежданную сладость
Я в горечи слез находил иногда,
И странную негу, и новую радость —
В мученье последних обид и стыда.
В постели я плакал, припав к изголовью;
И было прощением сердце полно,
Но все ж не людей, – бесконечной любовью
Я Бога любил и себя, как одно.
И словно незримый слетал утешитель,
И с ласкою тихой склонялся ко мне;
Не знал я, то мать или ангел-хранитель,
Ему я, как ей, улыбался во сне.
В последней обиде, в предсмертной пустыне,
Когда и в тебе изменяет мне всё,
Не ту же ли сладость находит и ныне
Покорное, детское сердце мое?
Безумье иль мудрость, – не знаю, но чаще,
Все чаще той сладостью сердце полно,
И так, – что чем сердцу больнее, тем слаще,
И Бога люблю и себя, как одно.
16 августа 1900
Трубный глас
Под землею слышен ропот,
Тихий шелест, шорох, шепот.
Слышен в небе трубный глас:
– Брат, вставай же, будят нас.
– Нет, темно еще повсюду,
Спать хочу и спать я буду,
Не мешай же мне, молчи,
В стену гроба не стучи.
– Не заснешь теперь, уж поздно.
Зов раздался слишком грозно,
И встают вблизи, вдали,
Из разверзшейся земли,
Как из матерней утробы,
Мертвецы, покинув гробы.
– Не могу и не хочу,
Я закрыл глаза, молчу,
Не поверю я обману,
Я не встану, я не встану.
Брат, мне стыдно – весь я пыль,
Пыль и тлен, и смрад, и гниль.
– Брат, мы Бога не обманем,
Все проснемся, все мы встанем,
Все пойдем на Страшный суд.
Вот престол уже несут.
Херувимы, серафимы.
Вот наш царь дориносимый[31].
О, вставай же, – рад не рад,
Все равно ты встанешь, брат.
27 мая 1901
Молитва о крыльях
Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах, —
Мы лежим во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!
<1902>
Веселые думы
Без веры давно, без надежд, без любви,
О странно веселые думы мои!
Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов.
1900
Возвращение
Глядим, глядим все в ту же сторону,
За мшистый дол, за топкий лес,
Вослед прокаркавшему ворону,
На край темнеющих небес.
Давно ли ты, громада косная
В освобождающей войне,
Как Божья туча громоносная,
Вставала в буре и в огне?
О, Русь! И вот опять закована,
И безглагольна, и пуста,
Какой ты чарой зачарована,
Каким проклятьем проклята?
А все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас, родимая,
Нам больше некуда идти.
Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинающие мать.
28/15 сентября 1909, Веймар
Старинные октавы Octaves du passé
Песнь первая
I
Хотел бы я начать без предисловья,
Но критики на поле брани ждут,
Как вороны, добычи для злословья,
Слетаются на каждый новый труд
И каркают. Пошли им Бог здоровья.
Я их люблю, хотя в их толк и суд
Не верю: все им только брани повод...
Пусть вьется над Пегасом жадный овод.
II
Обол – Харону[32]: сразу дань плачу
Врагам моим. В отваге безрассудной
Писать роман октавами хочу.
От стройности, от музыки их чудной
Я без ума; поэму заключу
В стесненные границы меры трудной.
Попробуем, – хоть вольный наш язык
К тройным цепям октавы не привык.
III
Чем цель трудней – тем больше нам отрады:
Коль женщина сама желает пасть,
Победе слишком легкой мы не рады.
Зато над сердцем непокорным власть,
Сопротивленье, холод и преграды
Рождают в нас мучительную страсть:
Так не для всех доступна, величава,
Подобно гордой женщине, – октава.
IV
Уж я давно мечтал о ней: резец
Ваятеля пленяет мрамор твердый.
Поборемся же с рифмой, наконец,
Чтоб победить язык простой и гордый.
Твою печаль баюкают, певец,
Тройных созвучий полные аккорды,
И мысль они, как волны, вдаль несут,
Одна другой, звуча, передают.
V
Но чтобы труд был легок и приятен,
Я должен знать, что есть в толпе людей
Душа, которой близок и понятен
Я с Музою отвергнутой моей.
Да будет же союз наш благодатен,
Читатель мой: для двух иль трех друзей
Бесхитростный дневник пишу, не повесть.
Зову на суд я жизнь мою и совесть.
VI
И не боюсь оружье дать врагу:
Не все ли мы у смерти, – у преддверья
Верховного Суда? – я не солгу,
В словах моих не будет лицемерья:
Что видел я, что знаю, как могу,
Без гордости, стыда иль недоверья,
Тому, кто хочет слышать, расскажу, —
Живым – живое сердце обнажу.
VII
Тревоги страстной, бурной и весенней
Я не люблю: душа моя полна
И ясностью, и тишиной осенней...
И, вечная, святая тишина:
Час от часу светлей и вдохновенней
Мне прошлой темной жизни глубина:
Там, в сумерках, горит воспоминанье,
Как тихое, вечернее сиянье.
VIII
От шума дня, от клеветы людской,
От глупых ссор полемики журнальной
Я уношусь к младенчеству душой —
Туда, туда, к заре первоначальной.
Уж кроткая Богиня надо мной
Поникла вновь с улыбкою печальной,
И я, как в небо, в очи ей смотрю,
О чистых днях, о детстве говорю.
IX
От Невского с его толпою чинной
Я ухожу к Неве, прозрачным льдом
Окованной: люблю гранит пустынный
И Летний сад в безмолвии ночном.
Мне памятен печальный и старинный,
Там, рядом с мостом, двухэтажный дом:
Во дни Петра вельможею построен,
Он – неуклюж, и мрачен, и спокоен.
X
Свидетель грустный юных лет моих,
Вдали от жизни, суеты и грома
Столичного, по-прежнему он тих.
Там сердцу мелочь каждая знакома:
Узор обоев в комнатах больших,
Подъезд стеклянный, двор и окна дома.
Не радостный, но милый мне приют,
Где бледные видения встают.
XI
Забытые молитвы, сказки няни
С улыбкою твержу я наизусть,
Родные лица вижу, как в тумане...
Там, в детстве счастья было мало, – пусть!
Как сумрак лунный, даль воспоминаний
В поэзию, в пленительную грусть
Все обращает – радость и мученье:
В душе моей – великое прощенье.
XII
Чиновником усердным был отец,
В делах, в бумагах канцелярских меру
Земных трудов свершил и наконец,
Чрез все ступени, трудную карьеру
Пройдя, упорной воли образец,
Был опытен, знал жизнь, людей и веру,
Ничем не сокрушимую, питал
В практический суровый идеал.
XIII
Любил семью, – для нас он жил на свете;
Был сердцем добр, но деловит и строг.
Когда порой к нему являлись дети,
Он с ними быть как с равными не мог.
Я помню дым сигары в кабинете,
Прикосновенье желтых бритых щек,
Холодный поцелуй, – вся нежность наша —
В словах «bonjour» иль «bonne nuit[33], папаша».
XIV
И скукою томительной царил
В семье казенный дух, порядок вечный.
Он все копил, он все для нас копил,
Но наших игр и болтовни беспечной,
И хохота, и шума не любил,
Подозревая в нежности сердечной
Лишь баловства избыток иль причуд,
Смотря на жизнь, как на печальный труд.
ХV
Не тратилось на нас копейки лишней.
Коль дети мимо кабинета шли,
Как можно незаметней и неслышней
Старались проскользнуть; от всех вдали,
Хранимые лишь волею Всевышней,
Мы в куче десять человек росли,
Покинутые немке и природе,
Как овощи в забытом огороде.
XVI
Володя, Саша, Надя... без конца, —
И в этом мертвом доме мы друг друга
Любили мало; чтоб звонком отца
Не потревожить, так же как прислуга,
Мы приходили с черного крыльца.
А между тем, не ведая досуга,
Здоровья не щадя, отец служил
И все копил, он все для нас копил.
XVII
Под бременем запасов гнулись полки
В березовых шкапах – меха, фарфор,
Белье, игрушки, лакомства для елки.
Зайдешь, бывало, в пыльный коридор,
Во внутренность шкапов глядишь сквозь щелки,
И то, чего не видишь, манит взор,
И чувствуешь в восторге молчаливом,
То миндалем пахнет, то черносливом.
ХVIII
Я с ключницей всегда ходить был рад
В таинственный подвал, где кладовая.
Здесь тоже длинные шкапы стоят;
На мрачных сводах – плесень вековая,
Мешков с картофелем и банок ряд...
Трещит тихонько свечка, догорая,
И мышь из-под огромного куля
На нас глядит, усами шевеля.
XIX
И только раз в году на именинах
Вся роскошь вдруг являлась на столе.
Сидели дамы в пышных кринолинах
И старички – ряд лиц, как в полумгле
На старомодных, выцветших картинах...
И в мараскинном трепетном желе
Свеча, приятным пламенем краснея,
Мерцала – тонких поваров затея.
ХХ
Но важный вид гостей пугал меня...
Холодных блюд – остатков именинной
Трапезы нам хватало на три дня.
Все приходило вновь в порядок чинный:
Сестра сидела, скучный вид храня,
С учительницей музыки в гостиной, —
Навстречу ранним пасмурным лучам
Был слышен звук однообразных гамм.
XXI
Унылый знак привычек экономных, —
Торжественная мебель – вся в чехлах.
Но чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных, —
Все навевало непонятный страх;
И скучную казенную квартиру
Уподоблял я сказочному миру.
XXII
Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами
Они боролись в пустынях глухих.
Почтенная старушка в бедном хламе
Меж душегреек в сундуках своих
Хранила четки, ладонку с мощами
И крестика Афонского янтарь.
Я узнавал, как люди жили встарь;
XXIII
Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес;
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грез,
От ужаса я «Отче наш» в кроватке
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.
ХХIV
Познал я негу безотчетных грез,
Познал я грусть, – чуть вышел из пеленок.
Рождало все мучительный вопрос
В душе моей; запуганный ребенок,
Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый, как волчонок,
Боясь лица и голоса людей,
Дичился братьев, бегал от гостей
ХХV
И ждал чудес в тревоге непрестанной:
Порой не мог заснуть и весь дрожал,
Все кто-то длинный, длинный и туманный,
Чернее мрака в комнате стоял...
Мне ужас веял в душу несказанный,
И громко звал я няню и кричал.
И старшие, вокруг моей постели,
То на меня сердились, то жалели.
XXVI
И лакомств мне давала мать, отец
Шутил; его насмешливые речи
Я слушал молча, бледный, как мертвец.
И приносили в спальню лампы, свечи:
«Вон там, в углу... смотрите!..» – Наконец
Он исчезал; но жду я новой встречи
С Неведомым и знаю, что опять
Его пред смертью должен увидать.
XXVII
С тех пор доныне в бурях и в покое,
Бегу ли я в толпу или под сень
Дубрав пустынных, – чую роковое
Всегда, везде, – и в самый светлый день.
То древнее, безумное, ночное
Присутствует в душе моей, как тень,
Как ужаса непобедимый трепет,
Как вещей Парки неотвязный лепет.
ХХVIII
Но, на прогулку с нянею спеша,
В знакомой лавке у Цепного моста
Я покупал себе на два гроша
Коврижки белой, твердой, как береста,
И, утреннею свежестью дыша,
Опять на мир смотрел легко и просто;
И для меня был счастия венец
Малиновый прозрачный леденец.
XXIX
В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне все дано, что в жизни я имею.
ХХХ
Отец сердился, вредным баловством
Считал любовь; бывало, ты украдкой
Меня спешила осенить крестом,
Склонясь в лампадном свете над кроваткой,
И засыпал я безмятежным сном
При шепоте твоей молитвы сладкой,
Но чувствовал сквозь поцелуй любви
Я жалобы безмолвные твои.
ХХХI
Однажды денег взяв Бог весть откуда,
Она тайком осмелилась купить
Игрушку мне, чудесного верблюда;
Отец увидел, стал ее бранить.
Внутри была бисквитов сладких груда:
И жадности не мог я победить, —
За мать страдая, молча, – как убитый, —
Я с горькими слезами ел бисквиты.
ХХХII
Когда на службе был отец с утра,
Мать в кабинет за стол меня пускала.
Я помню дел казенных нумера,
Сургуч, портрет старинный генерала,
Из хризолита ручку для пера,
Из камня цвета млечного опала
Коробочку для марок, нож, бювар,
Карандаши и ящик для сигар:
XXXIII
Предметы жадных, робких наслаждений!..
Но как-то раз я рукавом свалил
Чернильницу с головкою оленьей:
Ни жив ни мертв, смотрю, как потопил
(Что мне казалось верхом преступлений)
Зеленое сукно поток чернил.
Вдруг – голоса, шаги отца в передней;
Вот, думаю, пришел мой час последний.
XXXIV
Я убежал, чтоб грозного лица
Не увидать; и начались упреки,
Неумолимый гневный крик отца,
На трату денег вечные намеки,
И оправданья мамы без конца.
Я понимал, что грубы и жестоки
Его слова, и слышал я мольбы,
Усилия беспомощной борьбы...
30. «Или! Или! ламма савахфани?» – «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, XXVII, 46.) Христос произносит эти слова на арамейском языке.
31. Дориносимый – носимый на копьях. Образ заимствован из древнеримской истории: подобно тому, как дружина поднимала на копьях стоящего на щите царя, небесное воинство несет на копьях Господа Сил небесных.
32. Перевозчик теней умерших через Стикс – реку подземного царства (греч. миф.).
33. Здравствуйте, спокойной ночи (франц.).







