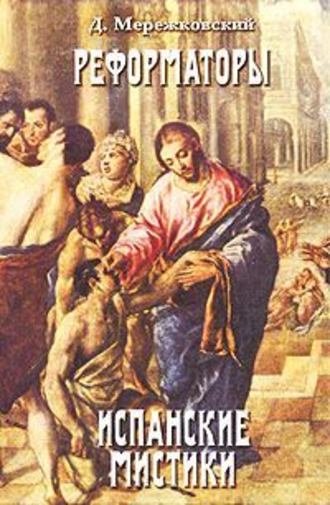
Дмитрий Мережковский
Маленькая Тереза
Кажется, в детстве были у нее три потери веры: первая – после смерти матери; вторая – после пострижения Полины, и третья – эта, после чуда исцеления. Будут и другие потом; каждая следующая хуже предыдущей, и хуже всех последняя, в смертный час.
Летчики знают, как опасны провалы в «воздушные ямы», такие внезапные, что если авион не выправить вовремя, то он падает в яму и разбивается о землю. Есть и в религиозном опыте Терезы, так же как у всех святых, такие «воздушные ямы» – потери веры. Каждый раз в последнюю минуту перед самым падением выправляет она не чужие, мертвые, как у летательной машины, а свои, живые, как у Ангела, крылья и, проносясь так близко к земле, что почти касается ее крылом, взлетает снова к небу, как ласточка. Чем больше ужас падения, тем упоительнее радость взлета. Но перед каждым падением помнит она, что может быть когда-нибудь и такое, что уже не взлетит, а упадет на землю и разобьется до смерти.
Что спасло ее в этом детском падении после чуда исцеления? То же, что будет спасать и во всех остальных, – смирение. «Дева Мария послала мне эту муку (потерю веры) для моего же блага: иначе гордость могла бы закрасться в мое сердце, между тем как в моем унижении я не могла смотреть на себя без отвращения и ужаса».
Главной движущей силой во всем ее религиозном опыте и будет смирение, понятое по-новому, не так, как понималось оно во всей бывшей до нее христианской святости, не как отрицание, а как утверждение человеческой личности в Боге. Здесь же начинается и сделанное ею великое, но все еще не понятое как следует, потому что не примененное к церковно-общественному действию, – открытие – «Маленький Путь Детства», который и есть не что иное, как это новое, личность не отрицающее, а утверждающее смирение.
19
В 1885 году, когда минуло ей четырнадцать лет, наступил для нее полдень, разделяющий короткую, двадцатичетырехлетнюю жизнь ее на две половины: в первой – направляла она волю свою только внутрь, на себя, а во второй – будет направлять ее и вовне, на души; в первой чудом только спаслась сама, а во второй будет спасать и других.
С маленького все начинается и здесь, как везде в жизни ее, – с маленького, впрочем, только физически, а духовно – огромного, как мир.
«Как-то раз, в конце обедни, когда вложенная между страницами молитвенника моего, изображавшая распятого Господа картинка выставилась так, что я могла видеть только одну из рук Его, пронзенную гвоздем и окровавленную, всю меня охватило вдруг новое, несказанное чувство: видом драгоценной, стекавшей на землю и никому не нужной Крови Его, сердце мое было растерзано так, что я решила вечно стоять у креста и собирать эту божественную росу, чтобы души людские ею орошать и спасать».
Маленькая французская мещаночка хочет (и будет) стоять на этом месте, самом святом и страшном в мире, у подножия Креста, рядом с Царицей Небесной, потому что верит и любит так, что ничего не боится ни на земле, ни на небе.
Первого спасает великого злодея Пранцини, осужденного за ужасные убийства на смертную казнь и такого нераскаянного, что он обрекает себя на вечную гибель. «Я хотела спасти его и, зная, что сама не могу этого сделать, предлагала, как выкуп за него, бесконечные заслуги Христа… и молилась так: „Господи, я верю, что Ты его простишь, и, если бы даже он до конца остался нераскаянным, я бы все-таки верила в это… Но так как в будущей борьбе моей за человеческие души это мой первый грешник, то я молю у Тебя только знака для моего утешения!“ И эта молитва моя была услышана.
Отец никогда не позволял нам, детям, читать газеты… но я, не боясь непослушания, все-таки читала в них все, что относилось к Пранцини. На следующий день после казни его я открыла газету «Крест» и что же увидела? Слезы выдали меня, так что я принуждена была убежать из комнаты. Я прочла, что Пранцини, отказавшись от исповеди, взошел на эшафот, и палачи уже влекли его на плаху, когда он вдруг обернулся и, схватив распятие, которое предлагал ему священник, трижды поцеловал святые раны Господни. Так получила я знак, о котором молилась, и это было для меня великою радостью. Жажда спасать человеческие души не проникла ли в сердце мое так же точно, как раскаяние – в сердце этого великого злодея, когда те же раны и ту же из них текущую кровь увидела и я, как он. Души людские я хотела напоить Святою Кровью, чтобы очистить их от греха, и вот уста первого же духовного сына моего прильнули к Божественным Ранам. О, какой это был несказанный ответ на мою молитву, и как с тех пор желание мое спасать человеческие души росло с каждым днем! «Дай мне пить», – слышала я тихий голос Иисуса у колодца Иакова; и вот какой обмен любви происходил между нами: я лила за души человеческие Кровь Его и возвращала их Ему, уже освеженные этою росою Голгофы, чтобы жажду его утолить; но чем больше я утоляла ее, тем собственная маленькая душа моя неутолимее жаждала, и сладчайшей для меня наградой была эта жажда».
Если понять как следует это милое детское чудо Маленькой Терезы, то нельзя не полюбить ее, как родную. Кто из нас, в самом деле, не был, хотя бы на миг, в самых тайных и безумных желаниях своих, великим злобным Пранцини; кто не отталкивал поданного ему распятия и не нуждался в такой молитве, какой молилась за этого злодея Маленькая Тереза?
20
Вымолить у Бога всех – всех спасти, не только добрых, но и злых, да будет «Восстановление всего», Apokatastatis pantôn, по слову Оригена и по слову Павла, «Да будет Бог все во всем» – вот главная движущая воля в религиозном опыте Маленькой Терезы.
Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино (Ио., 17, 21); эту молитву Сына к Отцу исполнит Мать Христа земная, ведущая к Матери Его Небесной – Духу. Всех скорбящих Матерь хочет спасти, всех добрых и злых одинаково. Главное орудие этого спасения – Кармель, «Братство совершенно Мариино», ordo totus Marianus, как называли его уже при основании Кармеля и будут называть всегда. Вот почему теперь, когда и в сердце Маленькой Терезы загорелось желание спасти всех (если даже такой злодей, как Пранцини, мог быть спасен, то могут быть спасены и все), – вот почему теперь бывшее у Терезы с самого раннего детства желание идти в Кармель, к Пресвятой Деве Марии, спасающей всех, усилилось так, как еще никогда. Но, чтобы исполнить это желание, нужно было согласие отца.
Духов день выбрала она, чтобы с ним говорить об этом. Выбор этого дня, может быть, не случаен, потому что Покровительница Кармеля, Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь земная есть знамение Матери Его Небесной – Духа.
Был вечер ясного летнего дня. В главной аллее Бьюссонетского сада, той самой, где некогда явился ей призрак отца, старого, больного, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с невидимым лицом, которое закрыто было во что-то длинное и темное, страшное, – в этой самой аллее он сидел на скамье, один, и, глядя, как тихий свет вечерний гас на верхушках деревьев, сам похож был на этот тихий свет, потому что главное во всем существе его, так же как в существе Терезы, была тишина. Издали увидев его, вспомнила она почему-то об этом призраке так живо, как будто снова увидела его; подошла к отцу и стала рядом. Странно было видеть эти два лица вместе, так были они схожи, несмотря на различие возрастов: сорокалетний отец казался иногда моложе четырнадцатилетней дочери.
Он ничего не сказал, только тихо улыбнулся и, опять подняв глаза, начал смотреть то на верхушки деревьев, озаренные тихим светом вечерним, то на небо, как будто молился.
Долго молчали оба: любили так молчать вместе, потому что лучше понимали друг друга в молчании, чем в словах. Но теперь она молчала и потому, что боялась того, что должна была ему сказать, и очень жалела его. Любящая рука смертельно ранит любимого. Вспомнила, что жизни едва ей не стоила вечная разлука с Полиной, ушедшей в Кармель. «Выжила я, а что если он?..» – начала она думать и не кончила от страха и жалости. Заплакала, сама того не замечая.
Быстро повернулся он к ней, тихо привлек ее к себе и прижал голову ее к сердцу своему.
«Что ты, родная, о чем? – спросил он и прибавил с тою бесконечно тихою ласкою, с какой всегда произносил эти слова: – Маленькая королева моя…»
И она ему сказала все. Выслушал он ее спокойно, как будто знал, что она это скажет и, когда кончила, проговорил все так же спокойно:







