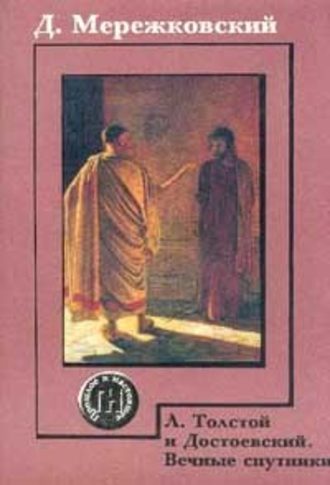
Дмитрий Мережковский
О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы
I. Русская поэзия и русская культура
Тургенев и Толстой – враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга, как великие представители двух первоначальных вечно борющихся человеческих типов. Из писем Толстого к Фету видно, что ссора едва не кончилась дуэлью. Толстой, что можно заключить из тех же писем, часто отзывался о произведениях Тургенева с глубокой неприязнью. Тургенев об этом знал.
И вот перед самой смертью он пишет следующее письмо:
«Буживаль, 27 или 28 июня 1883 г.
Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам собственно, чтобы сказать вам «как я был рад быть вашим современником» и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу.
Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар вам оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует! Я же человек конченый… Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли – внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз обнять вас, вашу жену, всех ваших… Не могу больше… Устал!»
Таковы последние слова Тургенева. На краю гроба он понял, что сердцу его старинный враг – ближе всех друзей, что даже на земле, быть может, он его единственный друг. Он завещает своему врагу, своему брату, «великому писателю русской земли» то, что для него было самого дорогого в жизни, – будущность русской литературы.
Тем пророческим взглядом, который бывает у людей перед смертью, он предвидит грядущее бедствие, падение русской литературы. А для Тургенева это было одним из величайших бедствий, которые могут посетить русскую землю.
Он был прав: язык – воплощение народного духа; вот почему падение русского языка и литературы есть в то же время падение русского духа. Это воистину самое тяжкое бедствие, какое может поразить великую страну. Я употребляю слово бедствие вовсе не для метафоры, а вполне искренне и точно. В самом деле, от первого до последнего, от малого до великого, – для всех нас падение русского сознания, русской литературы, может быть, и менее заметное, но нисколько не менее действительное и страшное бедствие, чем война, болезни и голод.
Я хорошо знаю, что тема эта составляет еще с незапамятных времен излюбленное общее место рецензентов, не притупляющееся оружие всех литературных лагерей, всех обиженных самолюбии. Во времена Пушкина критики так же красноречиво оплакивали безнадежное падение русской литературы, как во времена Тургенева, Достоевского и Толстого. Старики любят употреблять это оружие против молодых. Отживающие искренне убеждены, что во времена их молодости и небо было яснее, и земля плодороднее, и девушки красивее, и писатели талантливее. Но характерная черта таких недобросовестных и неосновательных жалоб на падение литературы – личная нота, торжествующая насмешка и злорадство.
Мне могут сделать и другое возражение: «Только что кончилась великая эпоха Достоевского, Гончарова, Толстого, Тургенева, даже не кончилась, потому что последние произведения Толстого относятся к последним дням современной литературы. Собственно и о причинах падения нечего говорить, ибо они сами по себе слишком ясны. Наступает век литературных эпигонов. А талантов нет, потому что ни одна историческая эпоха, как бы она ни была плодотворна, ни один народ не может производить гениев непрерывно. Но явись в наши дни новая сила, равная прежним, и не было бы речи ни о каком литературном упадке».
Прежде всего, я должен разграничить литературу от поэзии. Я заранее готов согласиться, что в сущности это вопрос иногда сливающихся оттенков и почти неуловимых степеней, но для моей задачи они имеют большое значение. Поэзия – сила первобытная и вечная, стихийная, непроизвольный и непосредственный дар Божий. Люди над нею почти не властны, как над бесцельными и прекрасными явлениями природы, над восходом и закатом светил, над затишьем и бурями океана. Поэтические откровения доступны и ребенку, и дикарю, и Гёте, и лодочнику, напевающему октавы Тассо, и Гомеру. Поэт может быть великим в полном одиночестве. Сила вдохновения не должна зависеть от того, – внимает ли певцу человечество или двое, трое, или даже никто.
Литература зиждется на стихийных силах поэзии так же, как мировая культура – на первобытных силах природы. Песни блаженного слепого старика, который бродил по прибрежьям Ионии, среди воинственных племен Эллады, конечно, не могли быть литературной силой. Но вот через несколько столетий в Афинах, в эпоху Перикла, в среде великих греческих писателей и философов Гомер приобретает совершенно новое только поэтическое, но и литературное значение. Гомер становится родоначальником целой школы художников и писателей. Едва ли не каждая строчка греческой литературы отмечена неизгладимой печатью его гения. Вы до сих пор чувствуете дух Гомера в какой-нибудь полустертой надписи на могильном мраморе, как и в диалогах Платона, и в шутках Аристофана, и в походном дневнике Ксенофонта, и в нежных, как мрамор Парфенона, подобных самым чистым христианским гимнам, лирических хорах Софокла. Дух Гомера – ненарушимая литературная связь между всеми отдельными поэтическими явлениями Греции, как бы они ни были различны по своим индивидуальным чертам. Много веков спустя, уже в окаменелой Византии, в мрачный полумонашеский век Феодосия Великого, среди глубокого литературного упадка все еще веет живучее, ничем неистребимое благоухание древних ионических рапсодий в любовной идиллии Лонгуса «Дафнис и Хлоя». Великая литература до последнего вздоха осталась верной своему родоначальнику. В поэтической прозе Лонгуса слышатся иногда как будто последние отзвуки древнего гекзаметра Одиссеи, как отдаленный гул ионических волн.
В сущности, литература та же поэзия, но только рассматриваемая не с точки зрения индивидуального творчества отдельных художников, а как сила, движущая целые поколения, целые народы по известному культурному пути, как преемственность поэтических явлений, передаваемых из века в век и объединенных великим историческим началом.
Всякое литературное течение так же порождается поэзией, как известная школа живописи, известный стиль – архитектурой.
Подобные таланты, как, например, Гирландайо или Вероккио – художники, подготовившие расцвет флорентийской живописи, могли возникнуть и в другой стране, и в другую эпоху. Но нигде в мире они не имели бы того поразительного значения, как именно на этом маленьком клочке земли, у подошвы Сан-Миньято, на берегах мутно-зеленого Арно. Здесь, и только здесь у Гирландайо мог явиться такой ученик, как Буонаротти, у Вероккио – Леонардо да-Винчи. Нужна была именно эта атмосфера флорентийских мастерских, воздух, насыщенный запахом красок и мраморной пыли для того, чтобы распустились редкие, дотоле невиданные цветы человеческого гения. Как будто в самом деле свободный, мрачный и пламенный дух неукротимого народа долго томился в своей немоте, бродил, искал воплощения и не мог найти. Он едва-едва брезжит, как мысль сквозь тяжелый полусон, как бледная полоска в утренних тучах, – в задумчивых, больших глазах еще иконописных, полувизантийских мадонн Чимабуэ, он проясняется в мощном реализме Джиотто, сияет уже ярким светом у Гирландайо, у Вероккио, на время отклоняется в религиозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдруг, наконец, как молния из тучи, вырваться с ослепительным блеском и все озарить в титаническом Микель-Анжело и загадочном Леонардо-да-Винчи. Какое торжество для народа! Отныне флорентийский дух нашел себе полное выражение, неистребимую форму. Вокруг него могут происходить всевозможные перевороты, все может рушиться: Флоренция Возрождения сама себя нашла, она есть, она – бессмертна, как Афины Перикла, как Рим Августа. Я узнаю мощный резец Донатело в отчеканенных, с их металлическим звуком, терцинах Аллигиери. На всем печать мрачного, свободного и неукротимого духа флорентийского. Он чувствуется в самых ничтожных подробностях архитектуры, – вот в этих несравненно прекрасных чугунных грифонах, которые вбиты в камень на уличных перекрестках по углам палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Так в двустишии греческой эпиграммы я узнаю дух Гомера, в ничтожном обломе мрамора, наполовину скрытом мхом и землею, – стиль ионической колонны.
На всех созданиях истино-великих культур, как на монетах, отчеканен лик одного властелина. Этот властелин – гений народа.
В наши дни нечто подобное, хотя в меньших размерах, повторяется в преемственности литературных школ Франции. В эпоху романтизма, в атмосфере всеобщего экстаза, в ожесточенных спорах, в оригинальных кружках Латинского квартала – был какой-то трепет жизни, какое-то творческое дуновение, несомненно плодотворное для всей последующей культурной жизни Франции. Впоследствии реакция против романтической лжи довела литературу до нелепых крайностей грубого, жестокого и теперь в свою очередь мертвеющего натурализма. И вот мы уже присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом. Теперь на берегах Сены тот же воздух, какой был за пятьсот лет на берегах Арно. Стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились здесь в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом.
Мы видим повсюду и во все века – в современном Париже, как во Флоренции XV века и в Афинах Перикла, и в Веймарском кружке Гёте, и в Англии в эпоху Елизаветы, мы видим, что нужна известная атмосфера для того, чтобы глубочайшие стороны гения могли вполне проявиться. Между писателями с различными, иногда противоположными, темпераментами устанавливаются, как между противоположными полюсами, особые умственные течения, особый воздух, насыщенный творческими веяниями, и только в этой грозовой, благодатной атмосфере гения вспыхивает та внезапная искра, та всеозаряющая молния народного сознания, которой люди ждут и не могут иногда дождаться в продолжение целых веков. Литература – своего рода церковь. Гений народа говорит верующим в него: «Где двое или трое собрались во имя мое, там я среди них». Человек только среди подобных себе становится воистину человеком. Помните наивный символический рассказ из «Деяний Апостолов»:
«Все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (гл. II, 1–3).
Несомненно, что в России были истинно великие поэтические явления. Но вот вопрос была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?
Иногда у самого Пушкина вырываются жалобы на одиночество. В письмах он признается, что русский поэт ровно ничего не знает о судьбе своих произведений: он работает в пустыне. Великий писатель доходит до такого отчаяния, что готов проклясть землю, в которой родился: «черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» (1836 г., 18 мая, из Москвы в Петербург – жене). Он был так же одинок в цыганском таборе, в глубине бессарабских степей, как и в ледяных кружках великосветского Петербурга, как и в литературной атмосфере Греча и Булгарина. Такое же одиночество – судьба Гоголя. Всю жизнь сатирик боролся за право смеяться. Изнуряющее, губительное чувство напрасной любви к родине было у Гоголя еще сильнее, чем у Пушкина. Оно нарушило навеки его внутреннее равновесие, довело до безумия. Лермонтов – уже вполне стихийное явление. Этот сильный человек, в котором было столько напоминающего истинных героев, избранников судьбы, стыдился названия русского литератора, как чего-то унизительного и карикатурного. Он вспыхнул и погас неожиданным таинственным метеором, прилетевшим из неведомой первобытной глубины народного духа и почти мгновенно в ней потонувшим.
Во втором поколении русских питателей чувство беспомощного одиночества не только не уменьшается, а скорее возрастает. Творец Обломова всю жизнь оставался каким-то литературным отшельником, нелюдимым и недоступным. Достоевский, произносящий пламенную речь о всечеловеческой примиряющей терпимости русского народа на пушкинских празднествах, пишет на одного из величайших русских поэтов и самых законных наследников Пушкина, вдохновляемый ненавистью к западникам, карикатуру Кармазинова в «Бесах». Некрасов, Щедрин и весь собранный ими кружок питает непримиримую и – заметьте – опять-таки не личную, а бескорыстную гражданскую ненависть к «жестокому таланту», к Достоевскому. Тургенев, по собственному признанию, чувствует инстинктивное, даже физиологическое отвращение к поэзии Некрасова. О печальной и столь характерной для русской литературы вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи. Может быть, раз в сорок лет сходятся два, три русских писателя, но не пред лицом всего народа, а где-то в уголку, втайне, во мраке, на одно мгновение, чтобы потом разойтись навеки. Так сошлись Пушкин и Гоголь. Мимолетная случайная встреча в пустыне! Потом был кружок Белинского. Там впервые начали понимать Пушкина, там приветствовали Тургенева, Гончарова и Достоевского. Но одно враждебное дуновение – и все распадается, и остается только полузабытая легенда. Нет, никогда еще, в продолжение целого столетия, русские писатели не «пребывали единодушно вместе». Священный огонь народного сознания, тот разделяющийся пламенный язык, о котором сказано в «Деяниях», ищет избранников, даже на одно мгновение вспыхивает, но тотчас же потухает. Русская жизнь не бережет его. Все эти эфемерные кружки были слишком непрочны, чтобы в них произошло то великое историческое чудо, которое можно назвать сошествием народного духа на литературу. По-видимому, русский писатель примирился со своей участью: до сих пор он живет и умирает в полном одиночестве.







