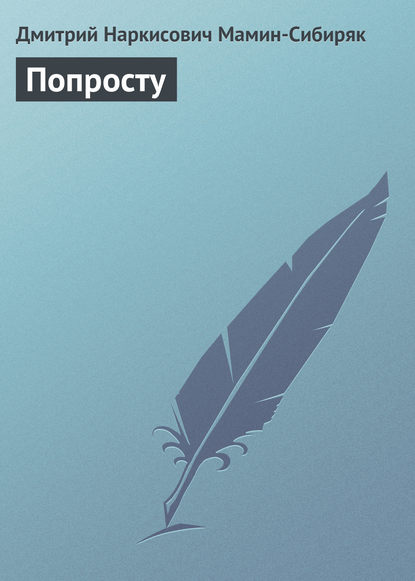- Рейтинг Литрес:4.8
- Рейтинг Livelib:4.7
Полная версия:
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк Три конца
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Три конца
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В кухне господского дома Егор сидел уже давно и терпеливо ждал, когда проснется приказчик. Толстая и румяная стряпка Домнушка, гремевшая у печи ухватами, время от времени взглядывала в его сторону и думала про себя: «Настоящий медведь… Ишь как шарами-то[1] ворочает!» Она вспомнила, что сегодня среда – постный день, а Егор – кержак[2] На залавке между тем лежала приготовленная для щей говядина; кучер Семка в углу на лавке, подложив под деревянное корыто свои рукавицы, рубил говядину для котлет; на окне в тарелке стояло коровье масло и кринка молока, – одним словом, Домнушка почувствовала себя кругом виноватою. И в самом-то деле, эти приказчики всегда нехристями живут, да и других на грех наводят. В открытое окно кухни, выходившее во двор, наносило табачным дымом: это караульщик Антип сидел на завалинке с своей трубкой и дремал. Чтобы сорвать на ком-нибудь собственное неловкое положение, Домнушка высунулась в окошко и закричала на старика:
– Чтой-то, Антип, задушил ты нас своей поганой трубкой!.. Шел бы в караушку али в машинную: там все табашники!
– Ну, ну… будет, кума, перестань… – ворчал антип, насасывая трубочку.
– Да я кому говорю, старый черт? – озлилась Домнушка, всей полною грудью вылезая из окна, так что где-то треснул сарафан или рубашка. – Вот ужо встанет Петр Елисеич, так я ему сейчас побегу жаловаться…
– Ступай, кума, ступай… На свой жир сперва пожалуйся, корова колмогорская!
Егор тихонько отплюнулся в уголок, – очень уж ему показалось все скверно, точно самый воздух был пропитан грехом и всяческим соблазном. Про Домнушку по заводу ходила нехорошая слава: бабенка путалась со всею господскою конюшней. Все они, мочеганки,[3] на одну стать. Рубивший говядину Семка возмущал Егора еще больше, чем Домнушка: истрепался в кучерах, а еще каких отца-матери сын… На легкую работу польстился, – ну, и руби всякую погань: Петр-то Елисеич и зайчину, как сказывают, потреблял. Раскольник с унынием обвел всю кухню глазами и остановился на лестнице, которая вела из кухни во второй этаж, прямо в столовую. На лестнице, ухватившись одною рукой за потолочину, а другою за балясник перил, стояла девочка лет семи, в розовом ситцевом платьице, и улыбающимися, большим серыми глазами смотрела на него, Егора. Он сразу узнал в ней дочь Петра Елисеича, хотя раньше никогда ее и не видал.
– Домнушка, где Катря? – спрашивала девочка, косясь на смешного мужика.
– А ушла… – нехотя ответила стряпка, с особенным азартом накидываясь на работу, чтобы не упустить топившуюся печь.
– Куда ушла? – не отставала девочка с детскою навязчивостью.
– А ушла… Не приставайте, барышня, – без вас тошнехонько!
Домнушка знала, что Катря в сарайной и точит там лясы с казачком Тишкой, – каждое утро так-то с жиру бесятся… И нашла с кем время терять: Тишке никак пятнадцатый год только в доходе. Глупая эта Катря, а тут еще барышня пристает: куда ушла… Вон и Семка скалит зубы: тоже на Катрю заглядывается, пес, да только опасится. У Домнушки в голове зашевелилось много своих бабьих расчетов, и она машинально совала приготовленную говядину по горшкам, вытаскивала чугун с кипятком и вообще управлялась за четверых.
– Куда ушла Катря? – капризно спрашивала девочка, топая ножкой.
В Егоре девочка узнала кержака: и по покрою кафтана, и по волосам, гладко подстриженным до бровей, от одного уха до другого, и по особому складу всего лица, – такое сердитое и скуластое лицо, с узкими темными глазками и окладистою бородой, скатавшиеся пряди которой были запрятаны под ворот рубахи из домашней пестрядины. Наверное, этот кержак ждет, когда проснется папа, а папа только напьется чаю и сейчас пойдет в завод.
– Панночка, тату проснувсь, – окликнула девочку Катря, наклоняясь над западней в кухню. – Тату до вас приходив у вашу комнату, а панночки нэма.
– Катря, скажи Петру Елисеичу, что его дожидает Егор из Самосадки! – крикнула Домнушка вслед убегавшей девушке. – Очень, говорит, надо повидать… давно дожидает!
«Проклятущие мочеганки! – думал Егор, не могший равнодушно слышать мочеганской речи. – Нашли тоже „пана“.»
Катря скоро вернулась и, сбежав по лестнице в кухню, задыхавшимся голосом объявила:
– Пан у кабинети… просив вас до себе.
– Ступай за ней наверх, – коротко объявила Домнушка, довольная, что закоснелый кержак, наконец, выйдет из кухни и она может всласть наругаться с «шаропучим» Семкой.
Катре было лет семнадцать. Красивое смуглое лицо так и смеялось из-под кумачного платка, кокетливо надвинутого на лоб. Она посторонилась, чтобы дать Егору дорогу, и с недоумением посмотрела ему вслед своими бархатными глазами, – «кержак, а пан велел прямо в кабинет провести».
– Родной брат будет Петру-то Елисеичу… – шепнула на ухо Катре слабая на язык Домнушка. – Лет, поди, с десять не видались, а теперь вот пришел. Насчет воли допытаться пришел, – прибавила она, оглядываясь. – Эти долгоспинники хитрящие… Ничего спроста у них не делается. Настоящие выворотни!
Из этих слов Катря поняла только одно, что этот кержак родной брат Петру Елисеичу, и поэтому стояла посредине кухни с раскрытым от удивления ртом. Апрельское солнце ласково заглядывало в кухню, разбегалось игравшими зайчиками по выбеленным стенам и заставляло гореть, как жар, медную посуду, разложенную на двух полках над кухонным залавком. В открытое окно можно было разглядеть часть широкого двора, выстланного деревянными половицами, привязанную к столбу гнедую лошадь и лысую голову Антипа, который давно дремал на своей завалинке вместе с лохматою собакой Султаном. Осторожно скрипнувшая дверь пропустила кудрявую голову Тишки. Он посмотрел лукавыми темными глазами на кучера Семку, на Домнушку и хотел благоразумно скрыться.
– Эй ты, выворотень, поди-ка сюды… ну, вылезай! – кричала Домнушка, становясь в боевую позицию. – Умеешь по сарайным шляться… а?.. Нету стыда-то, да и ты, Катря, хороша.
– Што подсарайная… – ворчал Тишка, стараясь принять равнодушный вид. – Петр Елисеич наказал… Потому гостей из Мурмоса ждем. Вот тебе и подсарайная!
– Нет, стыд-то у тебя где, змей?! – азартно наступала на него Домнушка и даже замахнулась деревянною скалкой. – Разе у меня глаз нет, выворотень проклятый?.. Еще материно молоко на губах не обсохло, а он девке проходу не дает…
Тишка, красивый парень, в смазных сапогах со скрипом, нерешительно переминался с ноги на ногу и смотрел исподлобья на ухмылявшегося Семку. Он решительно не испытывал никакого раскаяния и с удовольствием смазал бы Домнушку прямо по толстому рылу, если бы не Семка. Катря стояла посредине кухни с опущенными глазами и перебирала подол своего запона. Ей было совестно и обидно, что Тишка постоянно ругается со стряпкой: Домнушка хоть и гулящая бабенка, а все-таки добрая. Первая пожалеет и первая научит, чуть что приключись.
– Дай поесть, – неожиданно проговорил Тишка, опускаясь на лавку. – С утра еще маковой росинки во рту не бывало, Домнушка.
– Ишь какой ласковый нашелся, – подзуживал Семка, заглядываясь на Катрю. – Домна, дай ему по шее, вот и будет закуска.
Кормить всю дворню было слабостью Домнушки, особенно когда с ней обращались ласково. Погрозив Тишке кулаком, она сейчас же полезла в залавок, где в чашке стояла накрошенная капуста с луком и квасом.
– Ступай наверх, нечего тебе здесь делать… – толкнула она по пути зазевавшуюся Катрю. – Да и Семка глаза проглядел на тебя.
II
Катря стрелой поднялась наверх. В столовой сидела одна Нюрочка, – девочка пила свою утреннюю порцию молока, набивая рот крошками вчерашних сухарей. Она взглянула на горничную и показала головой на кабинет, где теперь сидел смешной мужик.
– Грешно божий дар сорить, – строго проговорила Катря, указывая на разбросанные по скатерти крошки хлеба.
Столовая помещалась между кабинетом и спальней Нюрочки. У печи-голландки со старинною лежанкой почикивали на стене старинные часы. Вся комната была выкрашена серою краской, а потолок выбелен; на полу лежала дорожка. Буфет, стеклянный шкаф с разною посудой, дюжина березовых желтых стульев и две полуведерных бутылки с наливками составляли всю обстановку приказчичьей столовой. Мы сказали, что Нюрочка была одна, потому что сидевший тут же за столом седой господин не шел в счет, как часы на стене или мебель. Он был в халате и сосредоточенно курил длинную трубку. Давно небритое лицо обросло седою щетиной, потухшие темные глаза смотрели неподвижно в одну точку, и вся фигура имела такой убитый, подавленный вид, точно старик что-то забыл и не мог припомнить. Время от времени он подымал худую, жилистую руку и тер ею свой лоб.
– Сидор Карпыч, хотите еще чаю? – спрашивала девочка, лукаво посматривая на своего молчаливого соседа.
– А давайте жь, колы есть, – мягким хохлацким выговором ответил старик, исчезая в клубах табачного дыма. – Пожалуй, выпью.
– Пан пил чай, – заметила Катря, прибирая посуду на столе. – Пан не хоче чаю. Який пану чай, колы вин напивсь?
– Пожалуй, пил, – соглашался старик равнодушно. – Пожалуй, не хочу.
Из столовой маленькая дверка вела в коридор, который соединял переднюю с кабинетом и комнатой для приезжих гостей. Теперь дверь в кабинет была приперта и слышались только мерные тяжелые шаги. Кержак Егор сидел в кабинете у письменного стола и сосредоточенно молчал. Кабинет двумя светлыми и большими окнами выходил на двор. Клеенчатая широкая кушетка у внутренней стены заменяла кровать. Во всю ширину другой внутренней стены тянулся другой стол из простых сосновых досок, заваленный планами, чертежами, образцами руд и чугуна, целою коллекцией склянок с разноцветными жидкостями и какими-то мудреными приборами для химических опытов. По обе стороны стола помещались две массивные этажерки, плотно набитые книгами; большой шкаф с книгами стоял между печью и входною дверью. Над письменным столом на стене висел литографированный вид Парижа.
– Так чего же вы хотите от меня? – спрашивал Петр Елисеич, останавливаясь перед Егором.
– Матушка послала… Поди, говорит, к брату и спроси все. Так и наказывала, потому как, говорит, своя кровь, хоть и не видались лет с десять…
– Да я же тебе говорю, что ничего не знаю, как и все другие. Никто ничего не знает, а потом видно будет.
– Матушка наказывала… Своя кровь, говорит, а мне все равно, родимый мой. Не моя причина… Известно, темные мы люди, прямо сказать: от пня народ. Ну, матушка и наказала: поди к брату и спроси…
Хозяин сделал нетерпеливое движение своею волосатою рукой и даже поправил ворот крахмальной сорочки, точно она его душила. Среднего роста, сутуловатый, с широкою впалою грудью и совершенно седою головой, этот Петр Елисеич совсем не походил на брата. Гладко выбритое лицо и завивавшиеся на висках волосы придавали ему скорее вид старого немца-аптекаря. Неопределенного цвета глаза смотрели из-за больших, сильно увеличивавших очков в золотой оправе с застенчивою недоверчивостью, исчезавшею при первой улыбке. Привычка нюхать табак сказывалась в том, что старик никогда не выпускал из левой руки шелкового носового платка и в минуты волнения постоянно размахивал им, точно флагом, как было и сейчас. Черный суконный сюртук старинного покроя сидел на нем мешковато. Такие сюртуки носили еще в тридцатых годах: с широким воротником и длинными узкими рукавами, наползавшими на кисти рук. Бархатный пестрый жилет и вычурная золотая цепочка дополняли костюм.
– Я ничего не знаю, – повторял Петр Елисеич, размахивая платком.
Егор встряхнул своими по-кержацки подстриженными волосами и неожиданно проговорил:
– А как же Мосей сказывал, што везде уж воля прошла?.. А у вас, говорит, управители да приказчики всё скроют. Так прямо и говорит Мосей-то, тоже ведь он родной наш брат, одна кровь.
– Да где он теперь, Мосей-то?
– У нас в Самосадке гостит… Вторую неделю околачивается и все рассказывает, потому грамотный человек.
– Отчего же ты мне прямо не сказал, что у вас Мосей смутьянит? – накинулся Петр Елисеич и даже покраснел. – Толкуешь-толкуешь тут, а о главном молчишь… Удивительные, право, люди: все с подходцем нужно сделать, выведать, перехитрить. И совершенно напрасно… Что вам говорил Мосей про волю?
– Все говорил… Как по крестьянам она прошла: молебны служили, попы по церквам манифест читали. Потом по городам воля разошлась и на заводах, окромя наших… Мосей-то говорит, што большая может выйти ошибка, ежели время упустить. Спрячут, говорит, приказчики вашу волю – и конец тому делу.
– Он врет, а вы слушаете!.. Как же можно верить всякому вздору?.. Мосей, может, спьяна болтал?
– Это точно, родимый мой… Есть грех: зашибает. Ну, а пристанские за него, значит, за брата Мосея, и всё водкой его накачивают.
– Ты и скажи своим пристанским, что волю никто не спрячет и в свое время объявят, как и в других местах. Вот приедет главный управляющий Лука Назарыч, приедет исправник и объявят… В Мурмосе уж все было и у нас будет, а брат Мосей врет, чтобы его больше водкой поили. Волю объявят, а как и что будет – никто сейчас не знает. Приказчикам обманывать народ тоже не из чего: сами крепостные.
– Оно, конечно, родимый мой… И матушка говорит то же самое.
– А зачем Мосея слушаете?
– Да уж так… Большое сумление на всех, – ну и слушают всякого. Главная причина, темные мы люди, народ все от пня…
– Матушка здорова? – спрашивал Петр Елисеич, чтобы переменить неприятный для него разговор.
– Ничего, слава богу… Ногами все скудается, да поясницу к ненастью ломит. И то оказать: старо уж место. Наказывала больно кланяться тебе… Говорит: хоть он и табашник и бритоус, а все-таки кланяйся. Моя, говорит, кровь, обо всех матерьнее сердце болит.
– Кланяйся и ты старухе… Как-нибудь заеду, давно не бывал у вас, на Самосадке-то… Дядья как поживают?
– Всё по-старому, родимый мой… По лесу больше промышляют, – по родителям, значит, пошли.
Скрипнувшая дверь заставила обоих оглянуться. На пороге стояла Нюрочка, такая свеженькая и чистенькая, как вылетевшая из гнезда птичка.
– Папа, там запасчик пришел к тебе.
– Ну, пусть подождет, Нюрочка. А вот иди-ка сюда… Это твой дядя, Егор Елисеич. Поцелуй его.
Девочка сделала несколько шагов вперед и остановилась в нерешительности. Егор не шевелился с места и угрюмо смотрел то на заплетенные в две косы русые волосы девочки, то на выставлявшиеся из-под платья белые оборочки кальсон.
– Подходи, не бойся, – подталкивал ее осторожно в спину отец, стараясь подвести к Егору. – Это мой брат, а твой дядя. Поцелуй его.
Егор поднялся с места и, глядя в угол, сердито проговорил:
– А зачем по-бабьи волосы девке плетут? Тоже и штаны не подходящее дело… Матушка наказывала, потому как слухи и до нас пали, что полумужичьем девку обряжаете. Не порядок это, родимый мой…
– Ах, какие вы, право: вам-то какая печаль? Ведь Нюрочка никому не мешает… Вы по-своему живете, мы – по-своему. Нюрочка, поцелуй дядю.
Суровый тон, каким говорил дядя, заставил девочку ухватиться за полу отцовского сюртука и спрятаться. Плотно сжав губы, она отрицательно покачивала своею русою головкой.
– Я дело говорю, – не унимался Егор. – Тоже вот в куфне сидел даве… Какой севодни у нас день-от, а стряпка говядину по горшкам сует… Семка тоже говядину сечкой рубит… Это как?..
Петр Елисеич покраснел и замахал своим платком, но в самый критический момент в кабинет вбежала запыхавшаяся Катря и объявила:
– Паны едуть с Мурмоса… На двух повозках с колокольцами. Уж Туляцкий конец проехалы и по мосту едуть.
– Хорошо, хорошо… – забормотал Петр Елисеич. – Ты, Егор, теперь ступай домой, после договорим… Кланяйся матери: приеду скоро. Катря, скажи Семке, чтобы отворял ворота, да готово ли все в сарайной?
– Усё готово, – ответила Катря, пропуская как-то боком вылезавшего из кабинета Егора. – И постели настланы, и паутину Тишка везде выскреб. Усё готово…
III
Дорога из Мурмосского завода проходила широкою улицей по всему Туляцкому концу, спускалась на поемный луг, где разлилась бойкая горная речонка Култым, и круто поднималась в гору прямо к господскому дому, который лицом выдвинулся к фабрике. Всю эту дорогу отлично было видно только из сарайной, где в критических случаях и устраивался сторожевой пункт. Караулили гостей или казачок Тишка, или Катря.
– С фалетуром зажаривают!.. – кричал из сарайной Тишка, счастливый, что первый «узорил» гостей. – Вон как заухивает… Казаки на вершных гонят!
Мирно дремавший господский дом пришел в страшное движение, точно неожиданно налетела буря. Уханье форейтора и звон колокольчиков приутихли – это поднимались в гору. Вся дворня знала, что с «фалетуром» гонял с завода на завод один Лука Назарыч, главный управляющий, гроза всего заводского населения. Антип распахнул ворота и ждал без шапки у вереи; Семка в глубине двора торопливо прятал бочку с водой. На крыльце показался Петр Елисеич и тревожно прислушивался к каждому звуку: вот ярко дрогнул дорожный колокольчик, завыл форейтор, и два тяжелых экипажа с грохотом вкатились во двор, а за ними, вытянувшись в седлах, как гончие, на мохноногих и горбоносых киргизах, влетели четыре оренбургских казака.
Из первого экипажа грузно вылез сам Лука Назарыч, толстый седой старик в длиннополом сюртуке и котиковом картузе с прямым козырем; он устало кивнул головой хозяину, но руки не подал. За ним бойко выскочил чахоточный и сгорбленный молодой человек – личный секретарь главного управляющего Овсянников. Он везде следовал за своим начальством, как тень. Из второго экипажа горошком выкатился коротенький и толстенький старичок исправник в военном мундире, в белых лайковых перчатках и с болтавшеюся на боку саблей. Он коротко тряхнул руку Петра Елисеича и на ходу успел ему что-то шепнуть, а подвернувшуюся на дороге Нюрочку подхватил на руки и звонко расцеловал в губы. Через минуту он уже бежал через двор в сарайную, а перед ним летел казачок Тишка, прогремевший ногами по лестнице во второй этаж. Высунувшаяся из окна Домнушка кивнула ласково головой бойкому старичку.
– Эге, кума, ты еще жива, – подмигивая, ответил ей исправник. – Готовь нам закуску: треба выпить горилки…
– Пожалуйте-с, – приглашал Тишка, встречая гостя в дверях сарайной.
Опрометью летевшая по двору Катря набежала на «фалетура» и чуть не сшибла его с ног, за что и получила в бок здорового тумака. Она даже не оглянулась на эту любезность, и только голые ноги мелькнули в дверях погреба: Лука Назарыч первым делом потребовал холодного квасу, своего любимого напитка, с которым ходил даже в баню. Кержак Егор спрятался за дверью конюшни и отсюда наблюдал приехавших гостей: его кержацкое сердце предчувствовало, что начались важные события.
В небольшой гостиной господского дома на старинном диванчике с выцветшею ситцевою обивкой сидит «сам» и сердито отдувается. Его сильно расколотило дорогой, да и самая цель поездки – нож острый сердцу старого крепостного управляющего. Скуластое характерное лицо с жирным налетом подернуто неприятною гримасой, как у больного, которому предстоит глотать горькое лекарство; густые седые брови сдвинуты; растопыренные жирные пальцы несколько раз переходят от ручки дивана к туго перетянутой шелковою косынкой шее, – Лука Назарыч сильно не в духе, а еще недавно все трепетали перед его сдвинутыми бровями. Боже сохрани, если Лука Назарыч встанет левою ногой, а теперь старик сидит и не знает, что ему делать и с чего начать. Его возмущает проклятый француз, как он мысленно называет Петра Елисеича, – ведь знает, зачем приехали, а прикидывается, что удивлен, и этот исправник Чермаченко, который, переодевшись в сарайной, теперь коротенькими шажками мельтесит у него перед глазами, точно бес. Ходит и папиросы курит, – очень обидно Луке Назарычу, хотя исправник и раньше курил в его присутствии, а француз всегда валял набитого дурака.
Катря подала кружку с пенившимся квасом, который издали приятно шибанул старика по носу своим специфическим кисленьким букетом. Он разгладил усы и совсем поднес было кружку ко рту, но отвел руку и хрипло проговорил:
– Иван Семеныч, брось ты свою соску ради истинного Христа… Мутит и без тебя. Вот садись тут, а то бродишь перед глазами, как маятник.
– Нельзя, ангел мой, кровь застоялась… – добродушно оправдывается исправник, зажигая новую папиросу. – Ноги совсем отсидел, да и кашель у меня анафемский, Лука Назарыч; точно западней запрет в горле, не передохнешь. А табачку хватишь – и полегчает…
– Хоть бы в сенки вышел, что ли… – ворчит старик, припадая седою головой к кружке.
– Господа, закусить с дороги, может быть, желаете? – предлагает хозяин, оставаясь на ногах. – Чай готов… Эй, Катря, подавай чай!
Старик ничего не ответил и долго смотрел в угол, а потом быстро поднял голову и заговорил:
– Мы свою хорошую закуску привезли, француз… да. Вот Иван Семеныч тебе скажет, а ты сейчас пошли за попом… Ох, грехи наши тяжкие!..
– Ничего, ангел мой, как-нибудь… – успокаивает исправник, оплевывая в угол. – Это только сначала оно страшно кажется, а потом, глядишь, и обойдется.
Старик вскочил с диванчика, ударил кулаком по столу, так что звякнула кружка с квасом, и забегал по комнате.
– Ну, что фабрика? – накинулся он на Петра Елисеича.
– Ничего, все в исправности… Работы в полном ходу.
– А у нас Мурмос стал… Кое-как набрали народу на одни домны, да и то чуть не Христа ради упросили. Ошалел народ… Что же это будет?
Исправник и хозяин угнетенно молчали, а старик так и остался посреди комнаты знаком вопроса.
Тишка во весь дух слетал за попом Сергеем, который и пришел в господский дом через полчаса, одетый в новую люстриновую рясу. Это был молодой священник с окладистою русою бородой и добродушным бледным лицом. Он вошел в гостиную и поздоровался с гостями за руку, как человек, привыкший к заводским порядкам. Лука Назарыч хотя официально и числился единоверцем, но сильно «прикержачивал»[4] и не любил получать поповское благословение. Появление этого лица сразу смягчило общее тяжелое настроение.
– Ну, ангел мой, как вы тут поживаете? – спрашивал Иван Семеныч, любовно обнимая батюшку за талию. – Завтра в гости к тебе приду…
– Милости просим…
– Вот что, отец Сергей, – заговорил Лука Назарыч, не приглашая священника садиться. – Завтра нужно будет молебствие отслужить на площади… чтобы по всей форме. Образа поднять, хоругви, звон во вся, – ну, уж вы там знаете, как и что…
– Что же, можно, Лука Назарыч…
– А манифест… Ну, манифест завтра получите. А ты, француз, оповести поутру народ, чтобы все шли.
Петр Елисеич пригласил гостей в столовую откушать, что бог послал. О. Сергей сделал нерешительное движение убраться восвояси, но исправник взял его под руку и потащил в столовую, как хозяин.
– Пропустим по рюмочке, ангел мой, стомаха ради и частых недугов, – бормотал он, счастливый предстоящим серьезным делом.
– Я не пью, Иван Семеныч, – отказывался священник.
– Пустяки: и курица пьет, ангел мой. А если не умеешь, так нужно учиться у людей опытных.
Несмотря на эти уговоры, о. Сергей с мягкою настойчивостью остался при своем, что заставило Луку Назарыча посмотреть на попа подозрительно: «Приглашают, а он кочевряжится… Вот еще невидаль какая!» Нюрочка ласково подбежала к батюшке и, прижавшись головой к широкому рукаву его рясы, крепко ухватилась за его руку. Она побаивалась седого сердитого старика.
– Эй, коза, хочешь за меня замуж? – шутил с ней Иван Семеныч, показывая короткою рукой козу.
– Нет, ты старый… – шептала Нюрочка, хихикая от удовольствия.
Обед вышел поздний и прошел так же натянуто, как и начался. Лука Назарыч вздыхал, морщил брови и молчал. На дворе уже спускался быстрый весенний вечер, и в открытую форточку потянуло холодком. Катря внесла зажженные свечи и подставила их под самый нос Луке Назарычу.
– Дура, что я, разе архирей или покойник? – накинулся старик, топая ногами.
– Не так, ангел мой, – бормотал исправник, переставляя свечи. – Учись у меня, пока жив.
Несчастная Катря растерянно смотрела на всех, бледная и жалкая, с раскрытым ртом, что немного развлекло Луку Назарыча, любившего нагнать страху.
IV
После обеда Лука Назарыч, против обыкновения, не лег спать, а отправился прямо на фабрику. Петр Елисеич торопливо накинул на худые плечи свою суконную шинель серостального цвета с широким краганом[5] и по обычаю готов был сопутствовать владыке.
– Не нужно! – проронил всего одно слово упрямый старик и даже махнул рукой.
Он один пошел от заводского дома к заводской конторе, а потом по плотине к крутому спуску на фабрику. Старый коморник, по прозванию Слепень, не узнал его и даже не снял шапки, приняв за кого-нибудь из служащих с медного рудника, завертывавших по вечерам на фабрику, чтобы в конторке сразиться в шашки. В воротах доменного корпуса на деревянной лавочке, точно облизанной от долгого употребления, сидели ожидавшие выпуска чугуна рабочие с главным доменным мастером Никитичем во главе. Конечно, вся фабрика уже знала о приезде главного управляющего и по-своему приготовилась, как предстать пред грозные очи страшного владыки, одно имя которого производило панику. Это было привычное чувство, выросшее вместе со всею этою «огненною работой». Сидевшие на лавочке рабочие знали, что опасность грозит именно с этой лестницы, но узнали Луку Назарыча только тогда, когда он уже прошел мимо них и завернул за угол формовочной.