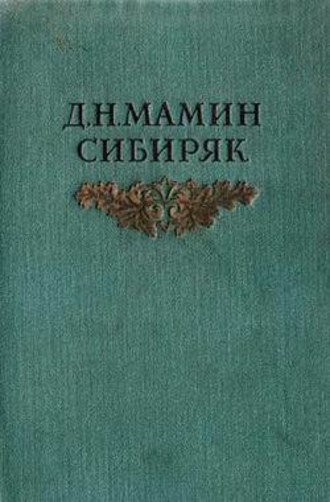
Дмитрий Мамин-Сибиряк
Переводчица на приисках
– Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели… Не только любовь, а даже и мышьяк требует меру: вы пересолили… Если бы вы приняли дозу вчетверо меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы.
– В другой раз я воспользуюсь вашим советом, – едва могла проговорить Ирочка.
– Бедная моя, – жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. – Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика… Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до физиологии – и шабаш! Ох! уж это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого травить себя – нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая физиология бабья…
Генерал сильно состарился за последние года и, как все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой.
Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он вносил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удесятеряло его веселье.
– Мы еще поживем с вами досыта, – фамильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. – Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов – чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал…
Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь: она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похождения доктора делались известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами; она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала.
Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, занятая своими личными делами, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу; одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию», как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу богу, и Ирочка осталась одна.
Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под тридцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых годов – все это, вместе взятое, заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями: недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности; общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось, впереди нигде не видно было проблесков лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все представляло самую печальную картину разрушения; она решилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей.
В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых десять лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уже в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы: была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то мастерскую – словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать, и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, выветрились и износились.
Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в «людей слова». Только семидесятые годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся «детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые «дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.
IV
– Вот и Вогульский… – проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы.
– А? Что?! – проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь.
– Говорю: Вогульский… Вот, в ложбинке, налево.
Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким, ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вогульский выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты три-четыре. Направо, на самом горизонте синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго смотрела на зеленую даль, на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками.
– Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую уйму, – тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. – В прошлом году зашиб тысяч пятьсот… Да-с. Плакали мои денежки…
– Как так?
– Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник… Как же! Не поручись тогда я за него, ведь шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо… Вот и Копчик тоже, и Талый…
Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее сорокалетнее сердце, когда она завидела вдали контору на Вогульском: там Настенька, от которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. Скорее, скорее…
Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутанные лошади, глухо позванивая медными боталами; в одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге; в пыли валялись пучки не успевшей завянуть травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжелого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и самый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив – дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем две золотопромывательных машины, катившиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска.
– Вы подождите вдесь с полчаса, – говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья. – А потом и приезжайте прямо в контору…
– Хорошо-с… – смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. – Будьте спокойны-с, – прибавил он, не зная к чему.
В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаю иронических замечаний…
Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не могла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке.
– Могу я видеть господина Хомутова? – спрашивала Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу светской дамы.
Старичо-к замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери.
– Я сейчас их спрошу, – проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.
Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:
– Пожалуйте… вот сюда-с.
Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убрана очень роскошно для прииска: пол был закрыт бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями; в одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом – мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий, плечистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку в безукоризненную летнюю пару из чечунчи.
– Касаткина… – задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось за конторкой: это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм.
– Очень приятно… – немного хрипло проговорил Хомутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул – Чему обязан видеть вас, madame?..
– Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу…
Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман, для Ираиды ФнЛатьевны промелькнуло миловидное характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым, капризным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать.
– Не хотите ли чаю? – предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена.
– Нет, благодарю вас… – почти шепотом ответила Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской.
– Позвольте… – заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. – Касаткина… Касаткина… Вы не дочь ли генерала Касаткина?
– Да.
– Ах, очень приятно, – уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. – Так это вы на Коковинском у французов живете?
– Да, я служу у monsieur Пажона переводчицей.
– Так-с… да. О-чень приятно… – лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.
Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто «пажонова наложница», и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этакихто генеральских дочерей на своем веку даже очень достаточно», – думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гостьи.
– Я приехала взять от вас Настеньку… – уже спокойно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну перчатку.-
Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на прииске исключительно в мужском обществе…
– Вот как!.. – процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. – Для чего же вам она понадобилась?
– Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Деввчка погибнет у вас…
– Так-с… Гм! Погибнет… А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава богу, живете и не погибаете…
– Я… – вспыхнула Ираида Филатьевна. – Я совсем другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы Настеньку со мной или нет?
– А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?
– Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча…
– Ха-ха-ха! – залился Хомутов, поднимая плечи. – За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..
– Милостивый государь, вы забываетесь!.. – закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как полотно. – Я сумею заставить вас замолчать… Да!.. Вы думаете, что я – женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно… Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость!..
– Ну, ну, извините, барынька… – заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. – Право, извините… Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку?.. За самоварчиком и покалякали бы…
– Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?
– Совсем нет… Я говорю серьезно. Видите ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы познакомиться с вами.
– Со мной?
– Да, с вами…
Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя: «Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самая тонкая бестия».
– Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как знаете… А с дороги оно было бы даже очень интересно, ведь тридцать верст тоже проехали, да еще верхом.
– Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь… Пожалуйста, не задерживайте меня!
– Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, а вы… Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в силах (Хомутов повел своими могучими плечами)… Хорошо-с… Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй, и до греха недолго… Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал… Ни-ни!.. Сама пришла… Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам расскажет. Ну-с, так выходит, что эта самая Настенька даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно…
– Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это просто варварство…
– Ах, право, как это вы круто разговариваете!.. Право, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь… Не хотите ли курить?
Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.
– Ну, я жду? – резко проговорила Ираида Филатьевна.
– Сейчас, сейчас… Я ведь и папашу вашего, Филата Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были. Вот я а думаю… Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!.. Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с этими французами… Ведь трудно вам?
– Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте…
– Извините, madame, вы не замужем?
– Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?
– А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Вогульский переезжайте… Ей-богу, барынька!
– Да вы с ума сошли?
– Даже нисколько… Я от души, и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, и сойдемся…
– Никогда!.. Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным образом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней девочки, в-третьих…
– Это вам все Шипицын наврал…
– Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо.
– Это вы про Настеньку-то опять?
– Да, про нее…
Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил:
– Послушайте, барынька… Я не знаю, что вы хотите де: лать с Настенькой, но я… Вы мне не поверите… Да?.. Спросите ее…
Хомутов вышел… Через пять минут в комнату вошла Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь: небольшого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими, крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», – подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее.
– Нам прежде необходимо познакомиться, – заговорила Ираида Филатьевна. – Надеюсь, мы полюбим друг друга, то есть, я как увидала вас, так и полюбила.
– И я тоже…
Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее рук из своих, она порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника.
– Я говорила с господином Хомутовым, – закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньки, – теперь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.
– И папа здесь?
– Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной… Может быть, вам тяжело расстаться с Вогульским прииском?
– А где я буду жить?
– Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске…
– А папа?
– Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться…
Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:
– Если вам тяжело будет расставаться с вашим папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какуюнибудь должность…
– Нет, я так сказала…
С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила:
– О чем вы плачете, голубчик?
– Так… – по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая.
– Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?
– Нет, хочется… только, пожалуйста, скорее…
Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А… подлец! Нашел я тебя… наше-ел!..» – хрипел чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой руганью.
– Ведь это папа кричит… – в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери.
Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло.
– Я тебя наше-ел, подлец! – хрипел Шипицын, начиная синеть.







