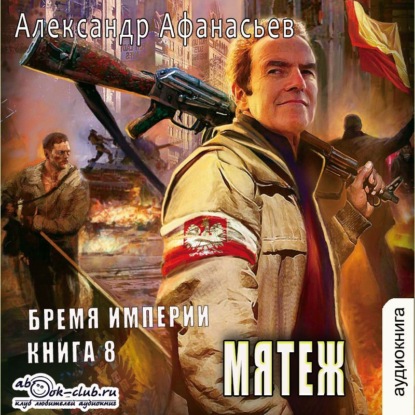Полная версия:
Александр Николаевич Афанасьев Мятеж
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Афанасьев
Мятеж
Это наш день, мы узнали его
По расположению звезд.
Знаки огня и воды,
Взгляды Богов…
И вот мы делаем шаг
На недостроенный мост.
Мы поверили звездам,
И каждый кричит – я готов!
Виктор Цой3 июля 2002 года
Варшава, царство Польское
Старэ Място
Хвала Йезусу, еще не все общественные кабины были разграблены озверевшим быдлом.
Десять гудков – каждый отдается в груди ударом сердца.
– Стрелец.
Мелодия русского гимна – волнующая, величественная. Только Россия может прекратить все это безумие.
– Слушаю вас, Стрелец.
– Здание штаба Висленского военного округа взорвано, похоже на взрыв на набережной, очень сильный, часть фасада обвалилась, но коробка цела. Здание штаба Варшавского военного округа цело, над ним красно-белый флаг.
В трубке – слышимость отличная – раздается скрип пера по бумаге.
– Принято, дальше.
– На мосту Александра Четвертого – пост ВНОС[1]. Не менее десяти человек, у них приборы наблюдения и как минимум два переносных ЗРК. На основных улицах – бронетранспортеры, боевые машины пехоты, опознавательный знак тот же самый – бело-красный флаг или флажок. Русло над Вислой простреливается, если вертолеты с десантом пойдут там – они попадут под перекрестный огонь. На крышах – посты наблюдения, возможно тоже с ПЗРК. Больше ничего установить не удалось.
– Принято. В городе есть полиция?
– Если где-то и сопротивляется – то я этого не видел. На улицах расстрелянные полицейские машины, повешенные полицейские.
– На улицах много гражданских?
– Достаточно, никто не работает. У многих оружие, раздают спиртное.
– Хорошо. Сообщаю вам пароль – эхо, повторите.
– Эхо[2].
– Верно. Приказываю воспользоваться паролем, если вы столкнетесь с казаками или частями воздушно-десантных войск. Но будьте осторожны, мы не смогли сообщить этот пароль всем.
– Вас понял, эхо.
– Следующий сеанс связи – завтра в одиннадцать ноль-ноль по вашему часовому поясу. До этого момента – приказываю выжить.
– Вас понял.
Полковник кашлянул.
– Удачи…
– Удача нужна неудачникам. Нам нужна победа, – ответил граф.
Так отвечал обычно на пожелание удачи командир их полка.
Положив трубку на рычаг, он быстрым шагом пошел прочь, свернул во двор, там побежал, высматривая, где бы найти хороший наблюдательный пункт. Нашел его – одна из подъездных дверей старого дома была распахнута настежь, очевидно – после грабежа. Граф, крадучись, держа руку на пистолете, вошел в парадное, поднялся на первый этаж – мутное, из цветного стекла остекление выходило на улицу, глянул – и отшатнулся.
Совсем недалеко от телефонной кабины, откуда он звонил, стоял большой белый фургон. Когда он подходил звонить, его там не было.
Значит, кто-то все же сохранил порядок в этом хаосе и бардаке. Еще немного – и его бы взяли. Надо быть осторожнее.
* * *В районе Саска Кепа, куда он добрался пешком, граф угнал машину. Это был старый и дряхлый универсал «Фиат-1500» с глухими боковинами кузова, когда-то производившийся здесь по лицензии, настолько старый и дряхлый, что на него никто не обращал внимания. И противоугонки на нем не должно быть, а если и была, то несложная. Кому нужна такая рухлядь? Какое-то время он шатался рядом, осматриваясь. У старых машин этого типа была поворотная форточка, на ней замок, простенький, который приклеивался к стеклу. Чтобы открыть поворотную форточку, достаточно было некоторое время греть это место, хотя бы зажигалкой – а потом сильно надавить. Граф так и сделал, просунул руку, дотянулся до замка и открыл дверь. Здесь, на окраине, народа было немного, все спешили в центр, и на него особо внимания никто не обратил.
Ключи он нашел, как и ожидал, за солнцезащитным козырьком – машина была служебная, принадлежала какой-то фирме, торгующей продуктами. Такие обычно не сильно берегут, страхуют от угона и все.
Двигатель завелся сразу.
Хоть он и мало имел опыта в таких делах – граф все равно сделал то, что и следовало сделать. Пистолет передвинул на живот, заткнув за ремень, чтобы можно было выхватить и сразу стрелять. Автомат со снятым предохранителем – здесь он маленький и менее удобен, чем у калашникова, хотя богемский скопирован с него – граф положил себе на колени так, что ствол опирался на опущенное почти до предела боковое стекло. Левую руку он положил на руль поверх ствола – чуть неудобно, но зато она не дает стволу соскользнуть, и если придется стрелять, левая рука зафиксирует ствол автомата, сделав стрельбу относительно точной. В таком виде – а так ныне в Варшаве многие ездили – он выехал к своему поместью.
* * *«Фиат» он остановил, когда до поместья оставалось километра три, свернул с дороги и немного отъехал, чтобы не оставлять машину на виду. Тут была лесополоса, потом поле, а потом начинался большой парк.
Перед уходом – он сунулся ради интереса в багажное отделение машины и с удивлением обнаружил там кондитерские изделия. Машина, видимо, принадлежала фирме, которая торговала сделанными вручную пирожными и тортами на заказ и с доставкой их заказчикам. Нормально поесть в последнее время ему никак не удавалось, кусок булки – не еда… Он с подозрением принюхался, мазнул пальцем – вроде еще не испортились. Следующие двадцать минут граф занимался тем, что набивал желудок – военные никогда не отказываются от съестного, потому что черт его знает, когда возможность поесть представится еще. Он умял несколько пирожных с яичным кремом и больше половины торта, предназначенного для какого-то именинника – только тогда почувствовал себя насытившимся. Жаль – но торт это такая вещь, что с собой его взять… затруднительно, но может, придется еще сюда вернуться. С этой мыслью граф тщательно закрыл и запер машину – и бодро пошел лесополосой, не выглядывая ни в поле, ни на дорогу.
Лесополоса была польской, даже европейской – чистенькая, не такая, как в России. Все дело в том, что в Европе топят собираемым валежником, а в России просто рубят деревья на дрова, а валежник никто не убирает. Почти сразу на пути ему попалась лиса – лис здесь было много, они были сытыми и наглыми, потому что выходили питаться к дороге выброшенными объедками и еще умудрялись открывать крышки и растаскивать мусорные контейнеры, тоже в поисках съестного. Увидев человека и учуяв металлический запах оружия и оружейной смазки, лиса недовольно фыркнула и неспешно потрусила прочь. Переждет, отлежится в поле – и опять выйдет к дороге.
Лиса-лисичка, лиса-сестричка.
Старый Бронислав хоть и был охотником и егерем, но он учил молодого графа любить природу и не разорять ничего без необходимости, будь то муравейник в лесу, птичье гнездо или целая страна, где ты живешь. Жаль, что на каждого в детстве не нашлось своего Бронислава.
Лесополоса перешла в парк – и это было заметно, деревья одного роста, посаженные по линейке, уступили место столетним великанам и молодой поросли. За парком никто не ухаживал, у Бронислава и еще двоих слуг хватало сил только на участок перед домом – и парк превратился в лес, росший, как ему вздумается.
С графом Ежи Комаровским в этом лесу не стоило связываться. Даже очень подготовленный человек, скорее всего, проиграл бы схватку – потому что граф вырос в этом лесу, на летних каникулах он жил в нем, знал все его тайные тропы и всех его жителей. А другие люди, кроме Бронислава, – были в этом лесу чужими.
Первого он обнаружил на самом краю леса, тот отошел облегчиться. Граф его никогда не видел – здоровый дурномясый детина, но повязка на рукаве сказала ему все, что он хотел знать.
Прислонив винтовку к дереву, детина снял штаны и присел. Облегчился, подтерся лопухом, протянул руку за винтовкой – а винтовки уже не было. Обернулся, еще толком не застегнув штаны, – и получил страшный удар по голове, отчего свалился прямо в оставленную им кучу.
Стараясь не дышать, граф наскоро обыскал его, пистолета не было, но обнаружились два ножа, оба складные и по виду новые, небольшой светодиодный фонарь, тоже новый, запасная обойма для винтовки и несколько пачек хороших целевых патронов. Конечно же, богемские Селье и Бело, другого ждать глупо. Покончив с обыском, граф отпорол с его штанов достаточной длины и ширины полосу ткани и связал не пришедшему в себя детине руки. Потом оторвал еще одну полосу – и связал ноги. Третьей полосой он завязал ему рот – скверно! – но и так сойдет. Потом он, поднапрягшись, перекатил здоровенную тушу в сторону – все-таки человек, и лежать ему в дерьме не стоит.
Потом он осмотрел трофейную винтовку. Богемская, ZK381, целевая, под русский патрон от «мосинки». Специальная, русского заказа, потому что ложе сделано спортивным, массивным, по типу Драгунова, как сейчас и «токаревки» и «федоровки» переделывают для единообразия. Винтовка была тяжелая, больше четырех килограммов – но это для точной стрельбы и хорошо. Прицел – германский, оптический, остается надеяться, что не сбитый – пристреливать негде и некогда. Обойма на десять патронов.
Да, времени совсем нет. Рано или поздно эти задумаются над тем, куда делся отошедший облегчиться подельник. И пойдут в лес.
С этими мыслями граф побежал влево. Быстро побежал, надеясь, что нужное ему дерево еще уцелело и Бронислав не нарушил его конструкцию, над которой он корпел целое лето. Но нет – старый кряжистый дуб не рухнул, для него десять лет – не время, он все так же стоял, могучий и непоколебимый, и, увидев его… то ли ветерок дунул, то ли это дуб зашевелил листьями, приветствуя молодого хозяина. Там, в переплетении ветвей, было сооружено что-то вроде платформы с крышей, скворечник, только размером на порядок больше обычного. Здесь молодой граф Ежи прятался от отца, когда тот был чем-то недоволен и его пятой точке угрожал широкий солдатский ремень. Здесь же он читал книги – ну, не в пыльной библиотеке же их читать, не так ли? Сюда он привел первую паненку, которая ему понравилась, – а она отказалась лезть на дерево и сказала: «Дурак».
А теперь он пришел сюда с пистолетом, автоматом и снайперской винтовкой. Пришел – чтобы отстоять свой дом от бандитов…
Ноги привычно нашли углубления в коре – Бронислав запретил вбивать в дерево гвозди, и лазать пришлось так, руки привычно подтягивали его к платформе. Она заскрипела – заброшенная, засыпанная листвой и сломанными ветками, но выдержала.
– Вот я и вернулся домой… – сказал сам себе граф Ежи.
Пистолет на животе был совсем не к месту, он убрал его в карман, потом, подумав, засунул за пояс сбоку – из кармана может выпасть. Автомат он так и оставил висеть за спиной – сейчас он ему не нужен. Винтовку угнездил на ветку так, что стрелять придется с колена, отсоединил магазин, попробовал – полон, патрон вроде нормальный, не замятый. Пружина в магазине тоже нормальная, задержки быть не должно…
Поместье, судя по виду, уже разграбили – все окна нараспашку, какие-то и выбиты – но следов пуль и крови на стенах нет. Парадные двери – тоже нараспашку, но не выломаны, а просто распахнуты. У ступеней лестницы пофыркивает мотором тяжелая бортовая «Татра», по виду – загруженная добром. Комаровские вообще-то никогда особо богатыми не были, но если взять иконы… старую мебель… коллекцию оружия еще со Средних веков, обязательную для любого военного аристократа, фарфор, столовое серебро…
Пожалуй, немало наберется.
В прицел он пока видел троих… двое с оружием, такой же, как у него, автомат и небольшой пистолет-пулемет, у третьего оружия не было вовсе. Они стояли около машины и чего-то ждали, двое курили, третий, возможно, самый опасный – посматривал по сторонам.
Машина, наверное, уже загружена.
Интересно, а их поместье, поместье польских шляхтичей, они грабят как чье? Как жидовское? Или как поместье русских оккупантов?
Наверное – все же второе.
Граф Ежи попытался понять, что произошло в доме – но прицел, хоть и увеличивал в восемь раз, не давал возможности заглянуть через стены. О том, что могло произойти, лучше даже не думать…
Загадка, чего ждали эти трое, разрешилась просто – из распахнутых дверей вышли еще двое, оба с оружием. Один из них нес то, что граф опознал как старинную музыкальную шкатулку немецкой работы, остававшуюся у них в семье на протяжении поколений. А что – тоже добыча, на каком-нибудь аукционе антиквариата хорошо пойдет.
Тот, у которого была шкатулка, отнес ее куда-то – граф не мог понять куда, куда-то за «Татру». Потом вернулся оттуда же с ведром и палками. Разобрав палки, грабители начали накручивать на них паклю. Ведро ждало своего часа.
Поджечь хотите, ублюдки? А что там говорил Бронислав – не разоряйте ничего без нужды. Когда вы грабили, я еще думал – стоит или нет. Но вы не просто грабители – вы жжете и разоряете, чтобы люди больше не могли жить в этом доме. Значит – вы заслужили то, что с вами произойдет, по праву заслужили.
Дождавшись, пока грабители соорудят факелы и подожгут их, Ежи выстрелил.
Винтовка толкнулась в плечо плавно, плавнее, чем «драгуновка», она и весит-то больше, изображение в оптическом прицеле на мгновение смазалось – а когда восстановилось, стало понятно, что произошло.
Он целился в грудь тому, которого определил как самого опасного, но незнакомая винтовка снизила, и пуля попала в живот. Согнувшись от нестерпимой боли, пронзившей внутренности, бандит ткнул горящим факелом в ведро – и тут полыхнуло жирным, чадным пламенем.
Поняв, что винтовка низит, граф открыл огонь по остальным, плохо видя, что происходит из-за бушующего чадного пламени. За пять секунд опустошив магазин, он присоединил второй, заранее снаряженный, и взял на прицел распахнутые двери, они еще были видны, дым их не скрыл. Если кто-то рванется с факелом туда – он его срежет на ступенях.
Но произошло то, чего он не ожидал: взвыл на высокой ноте мотор – и без прогрева по дороге рванулся, набирая ход, открытый армейский тентованный внедорожник. Разгонялся он плохо, граф повел винтовкой, прикидывая упреждение. Выстрел – мимо, выстрел… кажется, есть, нет, все еще едет, выстрел…
Готов…
Гул мотора оборвался, машина проехала еще сколько-то по посыпанной щебнем подъездной дорожке, уже неуправляемая, – и остановилась.
Какое-то время светлейший пан граф просто стоял на колене, замерев и внимательно наблюдая за тем, что происходит, в прицел винтовки. Здесь – побеждает терпеливый. Возможно, кто-то засел за машиной и ждет, держа в руках автомат или винтовку, ждет, пока кто-то не шагнет под его прицел. Или кто-то может быть в доме, сколько он будет ждать так? Все равно – или сбежит, или выйдет…
И попадет ему на прицел.
Но никто так и не вышел. Отгорел подожженный мазут – хвала Йезусу, лето было с дождями, трава не высохла, иначе бы полыхнуло и до дома добралось бы. Но самое главное, стали видны тела, в беспорядке лежащие около кострища…
Один, два, три… четвертое было даже не похоже на человеческое, так, черная, дымящаяся, бесформенная груда на подгорелой лужайке.
Плюс пятый в остановленной машине. Все?
Если только никого не оставалось в доме… вряд ли, кстати, ведь они поджигать собирались. И если тот, кто был в том внедорожнике, не сделал вид, что погиб, чтобы подловить его, притаившись в машине с автоматом на изготовку.
Если бы было время, граф Ежи так и сидел бы тут, на дереве, до темноты. Но времени не было…
А потому он распечатал пачку с патронами, неспешно наполнил магазины. Потом снова внимательно осмотрел в прицел все, что было перед домом – окна дома, машины. Потом начал спускаться. Проскользнула нога, когда спускался – оно и понятно, железом обвешан, как…
Все равно не к добру.
Тот, кого он обезоружил и связал, сумел развязать ноги и принять сидячее положение – но дальше развязываться то ли не смог, то ли не захотел. Так и сидел, лупая испуганными глазами на подошедшего графа.
Ежи не сразу решил, что с ним делать. Потом, приняв все-таки решение, перекинул винтовку за спину, взял в руки автомат – у связанного это вызвало новый прилив страха, обошел задержанного, дернул за узел, которым связывался кляп. Руки пока он решил не развязывать.
– Что сидишь?
– Так боязно же, светлейший пан…
– О как заговорил… А когда меня грабил, не боязно было? Когда поджигать решили – тоже не боялись.
– Так не было ж тут никого. А там сказали…
О том, кто и что сказал, незадачливый грабитель решил благоразумно умолчать.
– Тебя как звать-то, каторжник? – ласково спросил граф.
– Та Лехом отец назвал.
– Ну… значит, будем знакомы. А я – граф Комаровский, хозяин этого дома, парка, земель окрестных. Думали – хозяина нету уже? Кто вас навел?
– Та пан Боровичный сказал, тут все на разграбление отдается…
Эта фамилия графу Ежи ничего не говорила.
– Кто такой пан Боровичный?
– Та с Варшавы приехал… голова новый в воеводстве.
– О как! И он тебе лично сказал – вот тебе, Лех, на разграбление поместье Комаровских. Так?
– Да не, не…
– А как?
– Ну… честь по чести. На управе списки вывесили, что конфискуется в пользу Речи Посполитой. Там не один ваш дом был, пан граф.
– Спасибо, утешил. Это значит – теперь пан глава воеводства решает, чьи дома можно грабить, а чьи – можно и погодить. Весело, ничего не скажешь, весело. А старого пана – главу воеводства куда дели?
Лех не ответил, но все было понятно.
– Убили. И полицейских – тоже убили, чтобы грабить не мешали, так? Ну а я вот – офицер лейб-гвардии и по присяге должен за порядком следить, и коли что где к убытку Его Императорского Величества происходит – это предотвращать по мере сил и возможностей. А это все, что вы творите, разве не убыток? Ну и что мне с вами делать, разбойниками?
Лех опустил повинную голову.
– Не убивайте, светлейший пан граф, – только и смог выдавить из себя он.
– Не убью. А ты опять грабить да разбойничать пойдешь?
– Истинный крест, не буду! Истинный крест, не буду, светлейший пан граф!
Если бы мог, Лех бухнулся бы на колени.
– Да ты не божись, не божись… – досадливо проговорил граф Ежи.
Как же легко все-таки люди становятся зверьми! Как дьявол вселяется, не иначе. Вот когда вывесили эти списки на ратуше[3] – кто что подумал? Что можно поживиться. И многие так подумали и пошли. С оружием, с факелами, с машинами. Листка бумаги, подписанного неизвестно кем и вывешенного на ратуше, – вполне хватило, чтобы люди превратились в зверей.
А что будет дальше – о том не подумали? А не подумали, как придется жить, когда будет разграблено все, что можно разграбить? Не подумали о том, что тогда начнут грабить и убивать друг друга, потому что закон защищает всех, а беспредел не защищает никого? И долго ли можно прожить грабежом? Когда кончится то, что можно грабить в Речи Посполитой, кто куда пойдет? В Австро-Венгрию? В Германию? Может быть, на Россию набегом, как в старые времена? И далеко ли так уйдете?
А никто не подумал, что беспредел, он всегда в две стороны работает? Что, если они взяли машину, чтобы вывозить награбленное, и взяли факелы, чтобы поджигать, то кто-то точно так же может взять в руки снайперскую винтовку, чтобы защитить свой дом? И колебаться не будет, потому что теперь дозволено все и прав тот, кто первым успел выстрелить? Или думали, что беспредел, он вас не коснется?
Да нет, шановны паны! Тот, кто вступил на путь беспредела, тот, кто начал жить по его законам, – тот и сам должен быть готов в любую секунду стать жертвой беспредела! Вот так вот – и никак иначе.
– Ты мне скажи, пан Лех… Убивал ты кого-нибудь? – спросил граф.
– Истинный крест, нет!
– А не брешешь? В глаза мне смотри!
Лех и впрямь смотрел в глаза графа, как побитая собака. Такие люди бывают – это просто дураки, живущие по принципу: все пошли – и я пошел. Все пошли грабить – и я пошел. Все пошли убивать – и я пошел. А потом получается еще, что они во всем и виноваты, потому что ума у них – на грош медный. Если в государстве порядок, то такие люди так и живут тихой законопослушной жизнью. А если нет…
– Не брешу! Истинный крест, никого не убивал, пан граф!
– А женщину? С женщиной вы что сделали? В глаза смотри!
– Какой женщиной, пан граф?
– Тут женщина была! В доме!
В глазах Леха просквозило удивление.
– Какая женщина?
– Молодая! Не прикидывайся!
– Та не было тут никого, пан граф. Дом-то пустой был совсем, никого и не было. Ничего мы не делали ни с какой женщиной, вот вам истинный крест!
Граф Ежи прикинул – следов перестрелки он не видел. А оружие в доме было. Это могло оказаться правдой.
– Сиди тихо. Не дергайся.
Ежи достал один из двух трофейных ножей, заодно подивившись его удобству, полоснул по тряпке, связывающей руки.
– Сколько вас было? Не считая тебя?
– Шестеро… нет, без меня пятеро, пан граф.
– Кто?
– Да местные все… Один только… из Варшавы.
– Вставай. Идешь впереди меня, и ни звука. Если перестрелка начнется – падай и лежи ничком, пока все не кончится. И не пытайся сбежать. Как я стреляю – ты сам видел. А если не видел – то и не приведи Господь тебе это увидеть. Да… и оботрись чем-нибудь. Воняет от тебя… сил нет, хоть не дыши.
К дому они вышли, прикрываясь деревьями. Можно было подойти почти к самому крыльцу, не подставляясь под прицел. Заставив Леха отойти подальше и залечь, граф Ежи, прячась за деревом, долго смотрел на пространство между домом и мирно стоящей груженой «Татрой», пытаясь уловить хоть малейший признак движения. Движения не было.
Граф перешел поближе к Леху:
– Значит… видишь машину?
– Какую?
– Большую, ты совсем дурной?
– Да не…
– Побежишь сейчас до нее. Оружие не хватай, как добежишь – становись у борта с моей стороны. Если схватишь оружие или попытаешься скрыться – стреляю на поражение, понял? Если сделаешь все, как я сказал, – слово чести, отпущу живым. И жди меня, все понял?
– Та понятно, пан граф.
– Тогда… три-два-один… пошел!
По сути, граф Ежи сейчас пользовался пленником, как живой приманкой, – но ничего подлого в этом не было. Во-первых, это не он пришел грабить и поджигать, это к нему в дом пришли грабить и поджигать. Во-вторых, если Лех сказал правду и незваных гостей, считая его, было только шестеро – значит, ему ничего не угрожает. Ну а если он и на этот раз солгал – значит, получит то, что заслужил.
Лех бежал неуклюже, как медведь, шумно, схватить оружие он даже и не пытался. Добежав до машины, он встал около нее и обернулся, словно ожидая приказа, что делать дальше.
Ничего. И никого. Не прогремел выстрел, не полетела граната.
Выждав немного, снова сменив винтовку на автомат, вперед пошел и граф Ежи – осторожно, прижимаясь к стене. И в него никто не выстрелил. День клонился к закату, на лужайке, где обычно праздновали его день рождения, омерзительно воняло солярой и горелым мясом.
– Иди сюда! Иди в дом!
В вестибюле перестрелки не было, значит, почти наверняка Лех сказал правду. Бронислав скрылся, увел с собой слуг и Елену. И правильно сделал – против шестерых налетчиков они не смогли бы ничего противопоставить.
– Пошли обратно!
Вместе они подошли к большой груженой машине.
– Ну, что? Я сам должен все это таскать? Складывай в вестибюле и аккуратно, ничего не сломай!
Пока Лех, надрываясь и сопя, упорно таскал разграбленное обратно в дом, граф Ежи собрал все оружие, какое тут было. Он стал обладателем еще одного автомата, почти такого же, как у него, только с деревянным прикладом, двух пистолетов, «орла» и «кольта», американского, но под наш патрон, русского заказа, пистолета-пулемета, маленького и очень удобного, называющегося «Скорпион» с несколькими длинными магазинами и таким же прицелом, как на его автомате. У последнего была диковинная винтовка – североамериканская М25[4] с хорошим прицелом, – но под патрон североамериканского же образца, непонятно откуда здесь взявшаяся. Заглянул он и в кабину «Татры» – но все оружие было на руках, там ничего не оставалось. Все то, что ему удалось найти, он оттащил на лужайку, подальше от дома и от Леха, трупы пока решил не трогать и к расстрелянной машине не подходить. Потом он просто сидел, прикрываясь машиной, и смотрел, как Лех таскает вещи обратно в дом.
– Готово… пан граф, – наконец объявил тот, тяжело дыша.
– Это хорошо. Машина – чья?
Лех показал пальцем на одного из застреленных.
– Вот этого.
– А ключи?
– У него же.
– Забирай.
Незадачливый грабитель перевернул труп, порылся в карманах, достал ключи, протянул их графу Ежи.
– Зачем они мне? Машина теперь твоя. Бери машину и сматывайся, пока я не передумал. И помни, какое обещание ты мне дал – не грабить и не убивать. Если нарушишь – рано или поздно ляжешь, как эти. Беги к русской границе, поверь моему слову, теперь там безопаснее всего.