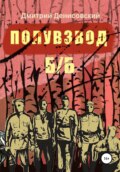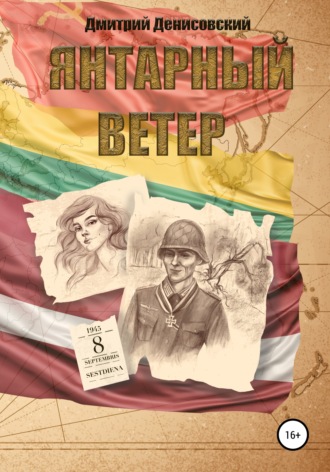
Дмитрий Денисовский
Янтарный ветер
Глава 3
Продолжение протокола допроса офицера Истребительного соединения войск СС оберштурмфюрера СС Карлиса Бауманиса. 1945 год, март месяц, 18-й день
ВОПРОС: расскажите, для каких военных или полицейских действий был сформирован 21-й Лиепайский полицейский батальон, куда вы вступили добровольцем?
ОТВЕТ: с первых дней моего нахождения в батальоне командование заявляло, что на обучение азам военного дела необходимо три месяца, поскольку большинство добровольцев 21-го Лиепайского батальона состояло из необстрелянных молодых людей, не имеющих никаких военных навыков. То есть обучение должно было закончиться где-то в конце мая, но уже с середины марта на уроках политической подготовки нам стали говорить, что фюреру в срочном порядке нужны солдаты на восточный фронт, поскольку человеческий ресурс у большевиков неограниченный и они упорно сопротивляются немецкому оружию. Мы не знали тогда про провал немецкого наступления на Москву в декабре 1941 года. На политзанятиях нам рассказывалось, что уже с сентября 1941 года Ленинград окружён, там ведутся яростные бои, которые должны вот-вот закончиться полной победой вермахта. Говорилось также, что на восточном фронте, в районе Ленинграда, нашим войскам помогают бороться с большевиками и добровольческие части испанцев, французов, голландцев и итальянцев. Мы были уверены, что практически вся Европа воюет с Красной армией плечом к плечу с доблестной германской армией.
Наши инструкторы не говорили нам, на какой участок восточного фронта нас готовят для боевых действий, но по многим особенностям нашей военной подготовки мы понимали, что нас ждёт отправка на северо-западный восточный фронт, тем более все наши немецкие военные инструкторы были приписаны к различным подразделениям, входившим в группу армий «Север»[9], которая в то время воевала под Ленинградом.
В процессе обучения нас готовили обычному военному делу, но поскольку в состав батальона были прикомандированы немецкие инструкторы из числа военной полиции, нам, конечно, также преподавались некоторые полицейские навыки, но основной задачей нам ставилось умение воевать в регулярных войсках вермахта…
ВОПРОС: расскажите об отправке на фронт и о начале военной деятельности 21-го Лиепайского полицейского батальона против войск РККА, где вы лично принимали непосредственное участие?
ОТВЕТ: как я уже рассказал ранее, обучение бойцов Лиепайского 21-го батальона должно было закончиться где-то в конце мая, но уже в самом конце марта нам объявили о необходимости привести в образцовый порядок униформу и собрать по-походному личное оружие и вещи.
Перед самой отправкой на фронт батальон в полном составе под личным командованием подполковника Теодорса Рутулиса принял участие в параде в городе Лиепае, и практически сразу после него мы загрузились в вагоны на Лиепайской железнодорожной станции и с пересадкой в Риге, а затем в Дно батальон был переброшен на станцию Красное село, расположенное в нескольких километрах от линии фронта. Прибыли мы туда в первых числах апреля, и до начала июля батальон проводил боевую подготовку и укреплял линию фронта. До начала июля активного участия в боевых действиях мы не принимали. Некоторые роты батальона были задействованы также в полицейских операциях, но ни я, ни другие добровольцы 2-ой роты батальона не принимали участия в карательных операциях против местного населения.
В начале июля 1942 года 21-й Лиепайский батальон в полном составе был передислоцирован и размещён на фронте, на участке шириной около 6 километров к юго-востоку от Урики. Все батальонные части находились на фронте, в резерве никого не осталось.
Первая атака противника на линии фронта, которую защищал батальон, произошла 1 июля. Бой приняла 1-я рота батальона под командованием лейтенанта Грауманиса. Эта первая атака противника не была многочисленной, скорее, носила характер разведки боем, не была подкреплена артподготовкой и бронетехникой, поэтому была успешно отражена 1-й ротой батальона. После отражения атаки 1-я рота насчитала несколько человек с различными степенями ранения, но убитых не было.
Кровопролитные бои начались 20 июля. После артиллерийской атаки превосходящие силы Красной Армии прорвали фронт в районе расположения 21-го Лиепайского полицейского батальона, и, чтобы остановить противника, на наш участок фронта были переброшены также 115-й батальон немецкой полиции и 19-й Латгальский полицейский батальон, которым не удалось остановить прорыв, и нашим оставшимся в живых бойцам пришлось отступить и занять позиции в нескольких километрах от предыдущей линии фронта, рассредоточившись между немецкими и голландскими частями. Бои на нашем участке фронта продолжались до 28 июля, в ходе которых 21-й Лиепайский полицейский батальон понёс большие потери убитыми и ранеными. Всего в результате этих боёв батальон потерял 35 человек убитых, 140 раненых и 20 пропавших без вести.
Моя 2-я рота батальона была почти полностью уничтожена. В строю остались только 6 бойцов, включая меня. Командир 2-й роты батальона, капитан Знотен, также был убит во время отражения атаки танков противника…
День 3-й
10 сентября 1945 года
За окном избы приветливо заскулила собака, приветствующая своего хозяина. Хозяин её, очевидно, откуда-то пришёл и задержался во дворе, гладя пса. Послышался его голос:
– Lācis, noķer dāvanu, es tev atvedu kaulus![10]
Лацис, благодарный хозяину, пару раз тявкнул и, по-видимому, занялся принесённым ему подарком.
Александр проснулся и решил осторожно сесть в кровати, ожидая прихода в избу хозяина. Но при попытке подтянуть ноги понял, что ему что-то мешает. Старая, местами ржавая железная цепь была перекинута через проушину ножного изголовья металлической кровати, два раза обёрнута вокруг лодыжки его правой ноги и замкнута таким же старым, почерневшим амбарным замком.
Когда хозяин избы умудрился приковать его, он абсолютно не помнил и не почувствовал. Это было странным и немного испугало.
Он, обследовав эти своеобразные кандалы, понял, что самостоятельно освободиться не получится. Прикован он был добросовестно и со знанием дела.
Скрипучая дверь избы открылась, и вошёл Карлис с походным немецким вещмешком за плечами. Увидев, как Александр изучает замок цепи, быстро сказал:
– Не мучайся, сам не откроешь. Извини, но от греха подальше решил на тебя цепь повесить, чтобы ты глупостей не наделал, пока я отсутствую. Цепь и замок надёжные, сам проверял. На закрытых дверях избы висели, а ключ под стрехой был. Видишь, как пригодились. Но длины тебе хватит, чтобы сесть или по малой нужде встать.
Карлис снял вещмешок и, положив его на стол, стал развязывать верхние тесёмки, чтобы достать содержимое. Продолжил говорить, не прерывая своего занятия поклажей:
– Чтобы дурные мысли к тебе в голову не лезли, придётся пока на цепи побыть – я ведь вижу, что на поправку быстро идёшь, и прекрасно отдаю себе отчёт, что при первой возможности ты попытаешься меня нейтрализовать или ликвидировать, даже несмотря на моё предложение тебе. Но ничего, время есть, попробую переубедить тебя.
После некоторой паузы Карлис продолжил:
– Сходил на хутор и курицу принёс. Такая редкость в наше время! Я уже и вкус курятины забыл. Сделаю настоящий куриный суп, тебе, кстати, очень полезно для восстановления.
Пытаясь осознать своё новое, прикованное положение, Александр в ответ буркнул недовольно:
– Ты меня уже «полезным» отваром напоил, таким, что я даже не почувствовал, как ты меня, как сторожевого пса, на цепь посадил.
Улыбнувшись, Карлис продолжил:
– Ну да, добавил в отвар травяной сбор, который мне дед с хутора дал. Ты знаешь, он настоящий латышский лесной колдун! Всё про травы и другие растения знает. Спишь после такой заварки как младенец. Я, когда пришёл сюда, почти совсем спать не мог по разным причинам. А сейчас только иногда пользуюсь, правда, с более слабой концентрацией, чтобы расслабиться и выспаться. Ты знаешь, на фронте счастлив был лишнему часу для сна. Как только закрывал глаза, сразу засыпал и успевал выспаться и восстановиться. Теперь же лежишь, ждёшь этого чёртова сна, и не уснуть никак, мысли всякие в голову лезут. Уснёшь под утро и встаёшь разбитым, а мне очень надо быть отдохнувшим и бодрым. Тебе, кстати, в твоём положении такой сон только на пользу, так что не жалуйся. Лежи, выздоравливай и жди ужина.
То, что уже подходило время ужина и наступал вечер, Александр понял по начинающему темнеть свету через единственное окно избы. Всё более удлиняющаяся сентябрьская ночь побеждала тёплый свет дня бабьего лета. «Стало быть, я в беспомощном состоянии проспал целый день», – подумал Александр, мысленно пытаясь внести какие-то будущие коррективы в дальнейшие действия исходя из своего нового положения. Он спросил, при этом показательно дёрнув ногой и звякнув цепью:
– Не хочешь меня в свои планы посвятить, тем более знаешь, что помешать тебе не смогу!
Карлис занимался курицей, ловко орудуя немецким, остро наточенным ножом, разделывая её на куске доски, лежащей на деревянном столе. Уже была затоплена железная печка, засунутые туда дрова начинали потрескивать. На печке стоял почерневший котелок с недавно налитой туда водой в ожидании кипения. Не отвлекаясь от своих дел, Карлис спокойным голосом ответил:
– Не время ещё, пока продумываю варианты. Когда буду уверенным, тогда, конечно, поделюсь с тобой. Ты бы сам рассказал о себе – откуда и куда ехал хотя бы. А то пока наш разговор имеет только форму монолога с моей стороны или даже допроса. Но, если помнишь, ты меня уже допрашивал. Но, уверяю тебя, больше на допрос я не попаду! Ни в каком случае! Дорога сейчас у меня только в одну сторону – или я спасусь, или живым в руки не дамся!
Последние слова были сказаны Карлисом уверенным тоном, не дающим сомневаться в решительности говорящего.
Александр ответил ему:
– Ну, никакой военной тайны тут нет: ехал с ординарцем из Берлинской военной комендатуры в Ригу, в Прибалтийский военный трибунал. По приказу командования надо было заехать и передать кое-какие документы в Мемельскую (Клайпедскую) и Лиепайскую комендатуры. Радиатор нашего старичка «Опеля» был ещё раньше по дороге пробит пулей в Северной Пруссии, наскоро заделан и подтекал. Как назло, когда уже проехали южную границу Курземе, мотор начал закипать, и ординарец решил свернуть с дороги к озеру. По карте посмотрели, что до озера всего несколько километров. Думали быстренько искупаться, наполнить радиатор и канистры водой и так дотянуть до Лиепаи. Что произошло на лесной дороге по пути к озеру, ты знаешь лучше меня.
Карлис, подумав, с сомнением спросил:
– Хорошо, это понятно, ехали по дороге от поста к посту. Но зачем же в лес свернули без сопровождения? Знали ведь наверняка, что сейчас в лесах беспокойно? Ваши ведь численностью меньше роты не суются в глубинку.
Александр постарался ответить как можно спокойней, насколько это ему удалось, но в памяти всплыло немного простодушное, но очень доброе веснушчатое лицо его ординарца – водителя, погибшего, в общем-то, по его, Александра, вине. Он командир, и его решение последнее, не согласись он свернуть с дороги к озеру, кто знает, как бы жизнь распорядилась. Может, и водитель был бы жив, и сам Александр не попал бы в такую сложную ситуацию.
– По донесениям, которые я получил на последнем посту, этот район уже был зачищен истребительными батальонами и здесь давно не было никаких столкновений с «лесными братьями». Судя по карте, где-то сразу за озером расположена пограничная застава, и ближайший участок морского побережья патрулируется пограничниками НКВД. К тому же мой водитель сам был из местных, родом из Лиепаи. Дорогу он, в общем-то, и без карты знал. Он сказал, что до ближайшей реки, где можно долить радиатор, километров сорок. Поэтому не дотянем, закипим. Время было дневное, рассчитывали, что успеем до Лиепаи ещё засветло добраться. Вот и свернули на свою голову.
Александр, поддержав разговор, сделал дальнейшую попытку поменять тему на более человеческую и, как ему думалось, близкую Карлису:
– Скажи, почему ты так решительно настроен не сдаваться живым, если твой план провалится? Ты ведь молодой совсем, вся жизнь впереди. Даже если осудят, отсидишь, как многие тысячи твоих соратников, и вернёшься к родственникам строить новую жизнь. Насколько помню, ты ведь идейным карателем не был, деревни и людей живьём не сжигал. Да и помощь мне для тебя зачтётся, я, насколько смогу, поспособствую. Кто дорогу минировал, тоже не обязательно уточнять, мало ли сейчас мин после войны осталось. Тем более наверняка примется к сведению, если, как ты говоришь, обладаешь сведениями, интересующими советское командование. Может, не стоит усугублять своё положение и подумать над таким решением? Надо радоваться, что жизнь сберёг в такой мясорубке. Зачем сейчас, после того как война закончилась, опять пытаться играть в прятки со смертью? Стоит ли это всё слёз твоей семьи?
Последнее сказанное Александром явно пришлось Карлису не по душе, и по его дальнейшим словам стало понятно, что затронутая тема семьи была для него довольно болезненной. Он на какое-то время прекратил готовку и, обернувшись к Александру, сказал тоном, в котором уже не было и намёка на доброжелательность:
– Что ты знаешь о моей семье? Ты, чёртов победитель! Вы ещё до войны пришли на мою Родину, не спросив разрешения, и по-своему усмотрению стали распоряжаться судьбами и жизнями тех, кто сотни лет жил на этой земле до вас. Вам не понравились наш уклад жизни, наши привычки, наша судьба, которую мы сами для себя выбрали и выстрадали. Какой бы она ни была, эта наша жизнь до вас, плохой или хорошей, но это была НАША жизнь! И судить её могли только МЫ, латыши, а не пришлые люди с красными флагами! И что вы принесли нам? Чуждую для нас большевистскую идею, какие-то сомнительные блага для некоторой части населения, которая к вам примкнула, но горе и смерть тем, кто не принял вас. Горе и смерь даже тем, духовно не принявшим вас, кто никак не сопротивлялся вам и не делал вам ничего плохого. В чём был виноват мой отец, расстрелянный вами сразу, как только первые красные флаги появились на домах моего родного Крустпилса? В том, что он, будучи офицером латвийской армии, воевал за свободу и независимость своей страны? С немцами воевал, между прочим, хотя сам был по национальности остзейским немцем, но родившимся в Латвии и до последних своих дней воспринимавшим Латвию как свою единственную родину. А в чём были виноваты моя мать, сёстры и братик, увезённые вами в Сибирь и наверняка сгинувшие там! Братику было семь лет. Когда он успел стать для вас врагом? В чём их вина перед вами? А ты говоришь, чтобы я подумал о слезах своей семьи! Некому по мне плакать. Некому!
Говорил это Карлис очень эмоционально, видно было, что это давно накипело в его душе, судя по непроизвольным слезинкам, блеснувшим в уголках его зелёных глаз. Дальше накал его речи несколько снизился, и он продолжил уже более спокойным тоном:
– Но немцы, по правде, оказались не лучше. В начале войны я этого не понимал. Это и немудрено, что мог понимать неопытный 18-летний латышский пацан в то время? Казалось, пришли немцы – освободители! Выгнали ненавистных большевиков. Все наши доморощенные фюреры уверяли нас в то время, что немцы – это наши союзники, а не захватчики. Вермахт, якобы, поможет нам восстановить независимую и свободную Латвию. Что для этого также надо очистить родину от скрывающихся большевиков и евреев – их пособников. Да, был голод, разруха, была подчас неоправданная жестокость против тех, кто мыслил иначе, но как нам говорилось, всё это временно, всё пройдёт, всё восстановится. Надо только сейчас помочь нашим союзникам-немцам окончательно добить красную гидру в её же логове, чтобы она уже никогда не посягала на нашу Родину. Знали мы об успехах германской армии, считали её непобедимой и чувствовали себя неопытными, младшими братьями доблестных немцев. Поэтому тогда тысячами записывались в добровольцы. Надеялись мы на скорую победу и на радостное, свободное послевоенное время восстановления независимой Латвии. Как мы ошибались! Начал понимать я это сначала на восточном фронте, видя отношение к нам самих немцев. Несмотря на то, что мы вместе с ними проливали кровь в боях с большевиками и подчас лежали на соседних койках в госпиталях после ранения, они считали нас людьми второго сорта. Нет, не совсем Untermensch (нем. недочеловеки), но, конечно, далеко не младшими братьями, а, скорее, не совсем расово-полноценными и только временными союзниками, не способными быть высшими командирами не то, что в немецких, а даже в наших национальных соединениях. А вернувшись после ранения с восточного фронта в Латвию в 44-ом, я убедился ещё больше в нашем общем заблуждении – массовая принудительная мобилизация, тюрьмы, полные латышами, попавшими туда за любую провинность, всеобщий страх перед вездесущими агентами СД и Гестапо, конфискация продовольствия у крестьян в пользу доблестно воюющей армии, концлагерь в Саласпилсе близ Риги, который в том числе охраняли и мои бывшие однополчане из 19-ой гренадёрской латышской дивизии. Они-то мне за рюмкой шнапса шёпотом рассказывали о том, что там происходит. Не о такой свободной Латвии мы мечтали в 41-ом! Одним словом, как мы говорили тогда, попала наша многострадальная Латвия в обильно смазанные мёдом, но очень острые и удушающие когти германского орла.
Но ты наверняка понимаешь, если сам выбрал свою сторону и военную судьбу, будь добр следовать ей. Я пришёл добровольцем в 42-ом и поэтому, будучи верен данной мною присяге, гнал от себя чёрные мысли, не желал узнать обратную сторону медали и не видел иного выхода, как воевать до конца за ту сторону, которую выбрал сам. Я не был фанатиком национал-социализма и фюрера, но после восточного фронта я, став офицером специальных подразделений СС, просто учился выполнять свою сложную и интересную работу. Эта учёба и сама работа мне нравились, у меня получалось, меня награждали и хвалили. Это затягивало, и другой дороги для себя, кроме как стать настоящим разведчиком-диверсантом, я не видел. Учители были достойными мастерами своего дела, на которых я и такие, как я, очень хотели стать похожими. В разведшколе войск СС, кстати, учителя уже не делили нас по чистоте крови на немцев и латышей. Мы все бывшие фронтовики – как офицеры, так и рядовые, были одной общей национальности и членами элитного единого сообщества разведчиков-диверсантов войск СС, которые набирались опыта и знаний от своих старших братьев – инструкторов. С опытом росла убеждённость в правильности выбранной нами стороны и решимость воевать с противником до последней возможности, до последнего вздоха.
Ближе к концу 44-го, когда уже начиналось нередкое массовое дезертирство, я осуждал их – этих молодых латышских ребят, которые просто хотели жить. Господь уберёг стрелять в своих, но рука бы тогда не дрогнула, получи я приказ уничтожить дезертиров. Я был солдатом, верным присяге и исполняющим все приказы командиров. Но это было такое время – время войны!
Сейчас же нет ни войны, ни тех командиров, которые давали мне эти приказы, нет моей страны, нет даже той страны и того фюрера, которому я присягу давал. И получается, что я сам по себе. Сам должен решать свою дальнейшую судьбу без оглядки на кого-либо. Я сам теперь волен решать рисковать ли мне, надеясь на дальнейшую свободу или тихо сложить руки и быть опять в вашей власти, когда вы будете решать, жить мне или нет. И выбрал я риск, но не бездумный, а подготовленный, с большой надеждой на благополучный исход. Вот поэтому, гражданин начальник, брось эти ненужные теперь уже разговоры про мою семью и про сдачу в плен. Разговоры эти пустые и на меня никак не влияющие. Давай договоримся, если хочешь хорошего отношения к себе с моей стороны, перестань агитировать сдаться. А вот поговорить о себе, о том, что на душе, это можно, это приветствуется… Заговорился я что-то, а вода в котелке уже закипела! – сказал Карлис и, повернувшись к печке, стал брать со стола и опускать в кипящую воду куски потрошёной курицы. Затем, опять взяв в руки нож, начал нарезать несколько лежащих на столе проросших картофелин, головку лука средних размеров и пару свежих морковин.
Александр, прослушав эту своеобразную исповедь, стал, наверное, лучше понимать, что творится в душе этого человека с непростой судьбой. Но возвращающиеся в память детали допроса этого латышского парня – бывшего оберштурмфюрера СС, подсказывали не раскисать и не надеяться на его кажущееся сегодняшнее милосердие. Но в этой обстановке Александр был благодарен Карлису за его откровенность и поэтому решил поддержать разговор:
– Больше агитировать не буду. Это твоё решение. Но не ответить на сказанное тобой не могу, ради хотя бы исторической справедливости. Вижу, что ты человек умный и достаточно эрудированный. Поэтому, мне кажется, ты способен сделать объективную оценку действительным фактам. Я не учитель и наставлять тебя не буду, но очень хочу, чтобы ты меня тоже выслушал. Ты ведь знаешь, кто я и что по долгу моей службы мне приходилось иметь дело с различными архивными документами, поэтому я, наверное, владею большей информацией, чем ты. Знаешь, при изучении этих документов подчас открывается такая горькая и страшная правда, которая может не нравиться и не подходить под рамки того мировоззрения, которое ты сам для себя выстроил. Но знать эту правду необходимо, хотя бы для того, чтобы не повторять своих ошибок в дальнейшей жизни. Готов ли ты послушать меня?
Карлис, закончив нарезку овощей и также бросив их в котелок вдогонку уже кипящей там курице, взял ложку и, сев на стул возле печки, стал иногда помешивать ею, приоткрывая при этом другой рукой крышку котелка. Не меняя положения, он сказал:
– Да уж знаю, конечно, кто ты, и о твоей службе догадываюсь. И послушать тебя готов, если агитировать сдаться не будешь. До этого времени судьбы сложились у меня и у тебя такие, какие сами выбрали. Но не знаю, как ты, а я вот не хочу быть ни от кого зависимым в дальнейшей своей жизни, даже если её осталось совсем мало. Хватит, нахлебался сполна приказами и чужими решениями. Знаешь, не хочется больше быть похожим на кусок дерьма, плывущий по медленной реке и не знающий, к какому берегу тебя прибьёт. Когда от этого и так никому не нужного дерьма ничего не зависит, и плывёт оно по воле чужих течений или ветра. Не знаю, поймёшь ли ты меня или нет, поверишь мне или нет, но я сейчас совсем другой человек, не тот, которого ты когда-то допрашивал. Всё это осталось там, во вчерашней, военной жизни, которую необходимо забыть как можно быстрее и думать только о будущей, свободной и самостоятельной судьбе, которую ты сам сможешь себе выбрать, будь какая-либо, хотя бы минимальная возможность для этого. Ну да ладно, давай, Александр, наверное, и твою историю, и другие наши разговоры перенесём на завтра, если ты не против. Скоро суп будет готов. А пока держи шнапс и бинты, сам сможешь руки себе перевязать? Порезы на лице тоже шнапсом промой.
С последними словами Карлис встал, на время оставив кипящий котелок, открыв крышку и положив её на стол. Взял с полки покосившегося комода упаковку бинтов с отпечатанной на ней свастикой и бутылку немецкого прозрачного шнапса. Разорвал упаковку, открыл пробку бутылки и подал это всё Александру. Тот утвердительно кивнул и коротко произнёс:
– Смогу, уверен, что смогу. А разговоры пусть будут завтра.
Он медленно сел в кровати, длина цепи позволила это сделать. Взял бинт и бутылку, сжав её в ногах, стал делать себе перевязку, сначала разматывая со своих рук местами бурые от крови бинты. Острый запах шнапса немного перебивал аппетитный дух готовящегося куриного супа. Эти запахи отвлекали его от болезненных ощущений при снятии старых, присохших к порезам бинтов.
Наконец, бинты были сняты. Порезы слегка стянулись, не открыв больших кровотечений. Лишь в нескольких местах через них слегка проступила яркая, свежая кровь. Александр, удовлетворённый увиденным, взял сначала одной, потом другой рукой бутылку со шнапсом и осторожно, мелкой струйкой полил его на порезы. Они горели, но терпимо. Поставив бутылку на пол, он поочерёдно перебинтовал себе руки, попросив Карлиса перерезать ножом бинт. Кусочек оставшегося свежего бинта промочил шнапсом и протёр им лицо, которое нещадно защипало в первые мгновения. Затем всё успокоилось. Карлис, уже сняв котелок с печи и разлив содержимое по алюминиевым тарелкам, забрал у Александра бутылку со шнапсом, закрыл её пробкой и поставил обратно на полку. Зажёг масляную лампу на столе. Протянул Александру горячую тарелку, ложку и кусок доски с многочисленными следами порезов от ножа. Сам сел за стол и начал есть. Александр, положив доску себе на колени, поставил на неё тарелку и стал ложкой очень осторожно, чтобы не обжечься, отхлёбывать вкуснейший суп, в котором лежали куски настоящей курятины, со вкусом, также практически забытом им за годы войны. Он ел, и опять всплыли в памяти картинки его счастливого, безоблачного, мирного детства – дедовская деревенская изба и похожий вкус настоящего куриного супа, приготовленного бабушкой в русской печи. Дед всегда забивал курицу в день «Сашкина приезда». Ему, маленькому Сашке, было очень жалко курицу, да и он, привыкший в городе к магазинным продуктам, отказывался есть этот бабушкин суп и начинал только после грозного наставления деда. Очень доброго, на самом деле, и любящего его деда, который во время семейного обеда за круглым столом мог запросто слегка треснуть Сашку по лбу деревянной ложкой, если тот начинал «баловать». Это было не больно, но очень обидно, тем более в присутствии старших двоюродных сестёр-погодок, которые также приезжали на каникулы в деревню. После затрещины Сашка тёр лоб, показывая боль больше для вида, когда бабушка начинала хлопотать над ним, бросая грозные взгляды на деда. Сёстры хихикали в кулак, опасаясь также познакомиться с дедовской деревянной ложкой. Но его дед, который в нём души не чаял, никогда почему-то не наказывал сестёр. Дед, бывший ветеран «германской» и кавалер Георгиевского креста, часто называл Сашку бойцом или солдатом и готов был проводить с внуком всё своё время, свободное от деревенских работ. Никогда не забыть рыбалок с дедом на лодке, на большом озере, как ходили с ним по грибы, как укрывались в стогу с сеном от неожиданно налетевших в поле дождя и грозы и многого другого, о чём приятно было вспоминать, и очень не хотелось эти воспоминания прекращать.
Доедали уже почти в темноте, огня маленькой масляной лампы, зажжённой и стоящей на столе, хватало только, чтобы увидеть очертания предметов. Карлис, собрав пустые тарелки, выходил во двор, чтобы налить воды и отдать куриные кости Лацису. Каждый лёг по своим кроватям, и без каких-либо разговоров оба довольно быстро заснули.