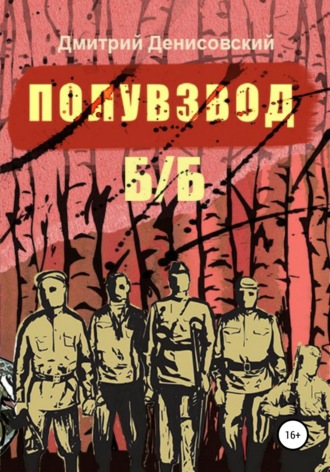
Дмитрий Денисовский
Полувзвод б/б
Глава 3
Капитана Фролова отвезли в раковый эвакогоспиталь на трясущейся по лесным ухабистым дорогам полуторке. Ехали они полдня и по дороге заезжали в другие медсанбаты. К лежащему в кузове Егору добавились ещё несколько бедолаг-бойцов, судьба которых была предрешена подозрениями на ужасный диагноз.
Кто-то из них смог самостоятельно забраться в машину. А кому-то помогли санитары. Но все они, эти бывшие бравые солдаты и офицеры, проведшие на фронте не один год, были сейчас в совершенно подавленном состоянии.
Ехали молча, без разговоров. Каждый был погружён в собственные горькие мысли. Никто из них до сих пор не мог поверить в случившееся. Все надеялись, что это какая-то чудовищная ошибка врачей, которая быстро будет исправлена при осмотре в эвакогоспитале.
Но чуда не произошло! Всем без исключения вынесли страшный вердикт после обследования на рентгеновской установке и осмотра врачами-онкологами. Поняли они, что надо учиться жить с этим. Осознали наконец, что, скорее всего, проведут свои последние дни в этом госпитале. Приняли эту свою жизненную трагедию со стойкостью и смелостью бойцов.
Почти никто не просился в тыл. Не хотели они стать обузой своим родным и близким в последние свои дни на этом свете. Домой отправляли только тех «счастливчиков», кому врачи обещали ещё несколько месяцев жизни. Ну а тех, у которых, как у гвардии капитана Фролова, определяли запущенные формы быстро прогрессирующего рака, оставляли здесь. Обследовали, поддерживали жизнь, давали обезболивающие. Кому-то пока слабые, ну а кому-то уже и морфин.
Поговаривали, что вскоре в эвакогоспиталь начнут свозить онкобольных с двух других, соседних фронтов. Благо что палат тут хватало. Но пока пациентов здесь было всего человек двадцать пять, включая лежачих.
Одним словом, почти полноценный стрелковый взвод Красной армии по количеству бойцов. Хотя и бойцами их считать-то уже было никак невозможно. Тем более что только меньшая часть из них могла ещё пока передвигаться на своих ногах. Причём главным определением здесь были слова ещё пока!
Да и двигались кто как. Кто-то ещё достаточно твёрдо, ну а кто-то уже еле волочил ноги. Знали, конечно, что все без исключения вскоре пополнят часть своих лежачих товарищей. Раньше или позже, но неизбежно!
Десяток бывших фронтовиков, которых временно называли в госпитале ходячими. Такой вот специфический полувзвод Б/Б. Эта аббревиатура стояла у каждого бойца в медицинских карточках. Б/Б – безнадёжные больные! Этими двумя буквами, в общем-то, было сказано всё!
Их свозили со всего 3-го Белорусского фронта в этот эвакогоспиталь, расположенный в первом эшелоне тыла. В основном все пациенты находились на крайних стадиях рака, и это место было их последней остановкой перед уходом в вечность.
Все они без исключения терпели до конца, находясь во фронтовых ротах и батальонах. Пытались скрыть наступающую слабость и дикие боли от врачей и своих товарищей. Воевали до последнего! Воевали как могли из всех своих быстро уходящих сил! До того момента, когда уже теряли сознание от боли или падали от бессилия. Только после этого, когда уже поздно было что-то исправить, их отправляли сюда, сразу в результате беглого осмотра в медсанбатах. Отправляли в последний путь.
В раковом госпитале за ними хорошо присматривали, их усиленно кормили и даже пытались лечить. Но, по большому счёту, все врачи и медсёстры госпиталя понимали, что это уже не люди, а тени, задержавшиеся на этом свете. Их, конечно, жалели, улыбались им и подбадривали. Но больные раком бойцы уже остро чувствовали, что улыбки медиков скорее от жалости к ним. Это не имело ничего общего с радостью, предназначенной только живым.
Гвардии капитан Фролов, как и почти все остальные лежачие и пока ещё ходячие пациенты эвакогоспиталя, пытался изо всех сил не пасть духом. Главное было научиться преодолеть жалость к себе. Жалость, которая наворачивала нежеланные слёзы и заставляла чувствовать себя ужасно одиноким, никому не нужным и незаслуженно понёсшим эту божью кару. Нестерпимо было осознавать себя списанным в покойники, невзирая на то, что ты ещё жив и мысли твои по-прежнему ясны и очевидны.
«Мыслю, значит, существую», – так говорили древние римляне. В этом своём новом обличии живого мертвеца бывший гвардии капитан Фролов понимал, как они были не правы, эти древнеримские философы. Существовал ведь он, как и его соседи по палате, только во временных списках эвакогоспиталя. В общем-то, на них был поставлен жирный крест, и все ждали их затянувшегося конца, чтобы из этих списков вскоре вычеркнуть.
Находились, конечно, и такие, кто после услышанного врачебного приговора замыкались в себе, становились раздражительными, винили всех вокруг и наполнялись нелюбовью ко всем здоровым окружающим их людям. Они, как правило, страдальчески молчали, кляня в душе злую судьбу, переживали в одиночку и грызли себя, тем самым помогая раку быстрей закончить своё дело. Поэтому в основном и уходили раньше других. Но таких больных в эвакогоспитале было значительное меньшинство! Врачи и остальные пациенты понимали их и старались не лезть им в душу, хотя и делали попытки подбодрить.
Сомнительно, что кто-то из ученых-медиков, попытался когда-то исследовать эту непростую тему о душевном состоянии воина-фронтовика, узнавшем о своем страшном, смертельном диагнозе. Врачи-специалисты наверняка написали сотни трудов о безнадежных онкобольных, доживающих последние дни в мирных больницах, хосписах и лазаретах. Но, чаще всего, боец, прошедший фронт и ежедневно ходящий рука об руку со смертью, отличается от мирного больного, как железный, танковый скат от деревянного колеса телеги. У фронтовика внутренний стержень другой. Покрепче, поматерей, помужественней. Хотя и не без исключений, конечно. Люди есть люди. А смертельно больные люди тем более. Поэтому никто в эвакогоспитале не винил и ни в чем не упрекал тех немногих полу-живых фронтовиков, которые замкнулись в себе и не пускали никого к себе в душу. Каждый понимал, что он не бог и не судья.
Большинство же пациентов ракового госпиталя было настоящими бойцами. От первого дня на фронте до последнего дня на госпитальной койке. С той разницей, что на фронте надо было сражаться с вполне осязаемым врагом, которого нужно и можно было победить. А этот невидимый враг засел внутри своего же организма и медленно убивал, оставаясь непобеждённым. Но они продолжали бороться, стараясь не показывать своей слабости товарищам. Настолько, насколько хватало сил, конечно.
Было ещё кое-что, что не давало покоя этим живым мертвецам. Ехать им в таком состоянии было некуда, а они, как им казалось, неоправданно занимали в госпитале места тех раненых бойцов, которых можно было ещё подлатать и снова вернуть в строй. Ведь как сам этот госпиталь, так и врачи, оставленные в нём, были так нужны фронту и стране!
Раковые пациенты в душе чувствовали себя виноватыми за это. Они понимали, что нарушили негласный закон природы – на войне не болеют! Если сказать точнее, не болеют смертельно. Всякие там многочисленные простуды, расстройства желудка, почечные колики и ревматизмы были не в счёт. С ними сжились и научились не обращать на них никакого внимания. Обычно не дёргали военврачей по таким пустякам.
Эти мысли мучили этих несчастных людей в те моменты, когда боли отступали. До того неизбежного времени, когда они окончательно сваливались в койку, не в силах больше сопротивляться болезни, погружаясь при этом в бессознательный сон, где не было дикой боли только после укола морфином.
И всё же те, кто ещё оставался на ногах, находили в себе силы ценить это последнее, оставшееся им время жизни. Они подбадривали друг друга. Старались сами не впасть в уныние и поддержать своих товарищей. Шутили и смеялись иногда. Даже анекдоты рассказывали. Только вот темы этих анекдотов были в основном про врачей, болезни и пациентов. Такая вот жестокая правда жизни, к которой пациенты эвакогоспиталя пытались привыкнуть.
Гвардии капитан Фролов, стоя у окна госпитальной палаты, слышал, как старшина Семёныч, зашедший сюда полчаса назад, травил анекдоты. В их большой и светлой палате на пять человек собрались сейчас все ходячие пациенты госпиталя. Бледные, осунувшиеся, хромающие, облысевшие, кашляющие бывшие фронтовики, которые очень хотели жить и хоть какое-то время оставаться бойцами.
Анекдоты балагура Семёныча, иногда совсем неприличные, по-своему продлевали им жизнь. Заставляли смеяться и позволяли отвлечься от мыслей о смерти. Хотя бы на какое-то время!
Старшина, сидящий на стуле, говорил неторопливо, с немного смешным белорусским «дзеканьем» и звонкими согласными в словах. Это привносило некий народный колорит в его речь. Его говор заставлял улыбаться, даже если сами анекдоты были не очень смешными. Семёныч по обычной своей привычке рассказывал, адресуясь только к одному, выбранному им самим собеседнику. При этом он как бы не обращал внимания на всех остальных присутствующих в палате. В этот раз его благодарным слушателем был капитан-артиллерист Вадик Ткачёв, неимоверно похудевший из-за рака печени, но всё ещё остающийся жизнерадостным:
– Ну так вот, слушай меня, артиллерия! Главное в лечении – ни чем лечиться, а как!
Семёныч назидательно посмотрел на Вадика. В его произношении слово артиллерия слышалось как «алцылерия». Только одно это заставило его госпитальную аудиторию улыбнуться.
Старшина выдержал артистическую паузу и продолжил:
– Как-то лежат в палате трое. У одного – ангина, у второго – чирей на заднице, а у третьего – геморрой. В палату заходит главврач, совершающий утренний обход. Обращается к больному с чирьем: «Чем вас лечат?» Тот отвечает: «Глицерином на палочке мажут!» Врач задаёт вопрос: «Жалобы есть?». «Нет» – говорит пациент – «Всё в порядке!». Обращается ко второму с геморроем: «Чем вас лечат?» – «Глицерином на палочке мажут!». «Жалобы есть?». «Нет, всё хорошо!». Дошла очередь до третьего с ангиной. Главврач задаёт тот же вопрос, как и первым двум больным: «Как вас лечат?». Тот отвечает: «Глицерином на палочке мажут!». Врач задаёт обычный вопрос: «Жалобы, просьбы есть?». Тот отвечает: «Жалоб нет, просьба одна есть! А можно меня первого этой палочкой мазать?»
Слушавшие его загоготали. Капитан Фролов тоже улыбнулся. Он уже успел закрыть окно и сесть на свою кровать, поскольку колено, закованное в гипс, нестерпимо ныло. А стоять на одной ноге, опираясь на костыль, было неудобно и тяжело.
Капитан Вадик Ткачёв, закончив смеяться, мечтательно произнёс то, о чём думали и остальные:
– Я бы согласился с такой палочки по несколько раз в день принимать лекарство, которое дало бы мне возможность повоевать ещё! Желательно до победы!
Его голова с редким остатком волос, выпавших от ударных доз облучения, повернулась в сторону закивавших ему пациентов.
Сорокалетний связист, сержант Прохоров, еле справляющийся с мучительным кашлем, донимающим его из-за запущенного рака лёгких, перебил его, убрав на время ото рта кусок бинта:
– Теперь уж другие повоюют. А мы должны принимать судьбу такой, какая уж нам выпала. Я вот сам и так задержался на этом свете. Все мои предки по мужской линии помирали, не дожив и до тридцати лет. Кто на войнах, кто от болезней.
Сержант был фаталистом. Он уходил на фронт добровольцем и был уверен, что не вернётся с него, повторив судьбу своих предков. Он, говоря это, хотел таким странным способом поддержать товарищей. Но находящиеся в палате пациенты не согласились с ним, а замкнулись, опять уйдя в свои грустные мысли. В палате ненадолго воцарилась тишина.
Семёныч, почесав пятерней затылок, решил продолжить разговор. Не в его правилах было оставлять ребят в таком печальном расположении духа. По правде говоря старшина в душе мучительно переживал за то, что он, немолодой и повидавший жизнь мужик был почти здоровым в отличие от этих бойцов, которым бы еще жить да жить. Почему-то ему было неловко перед ними. Знал Семёныч, что ни в чем перед ними не виноват, а поди ж ты, сидела в душе какая-то заноза. Может быть потому, что понимал неотвратимую правду жизни – он, пятидесятилетний ветеран с ногой, покалеченной шрапнельным осколком, наверняка доживет до победы. Дождется ее родимой. А этим молодым ребяткам, набившимся сейчас в белоснежную палату, не суждено будет махануть за нее наркомовские сто. Не дотянут горемычные.
Старшина глубоко вздохнул и, невпопад сменив тему, опять обратился к капитану Ткачёву с вопросом:
– А вот скажи мне, артиллерия! Какой инстрỳмент на войне главнее всего?
Семёныч намеренно сделал ударение в слове инструмент на втором слоге. Ему так казалось правильным и подчеркивало его обширные технические знания.
– Так ясное дело, что пушка! – Вадик убедительно кивнул, отвлекшись от своих мыслей и добавил. – Ну, конечно, винтовка да автомат! Танк еще, самолет…
Семёныч назидательно поднял палец вверх:
– Этак ты мне сейчас весь список стрелкового оружия и воентехники армии перечислишь. А я про инстрỳмент тебя спрашиваю!
Старшина обвел глазами палату и с укоризной произнес, посмотрев на капитана Ткачёва:
– Вот и видно, что ты все больше на полуторках да студебекерах по фронтам со своей пушечкой колесил. Не потоптал тысячи километров пехом в составе царицы полей! А как известно, без пехоты сражения не выигрываются. Любой пехотинец скажет, что главный инстрỳмент на фронте – это лопата! Совковая, штыковая, саперная, все едино. Винтовка и автомат важны, конечно, но без лопаты никуды! Ни блиндажика, ни земляночки, ни окопчика захудалого не подготовить. Взлетную полосу тоже. Да, и тебе, артиллерия, как пушку за бруствером установить и замаскировать без лопаты, а?
Семёныч хитро улыбнулся и добавил в пол голоса:
– А с чего фронтовое обустройство начинается? Правильно, с нужника! Нужник необходим и пехоте, и танкистам, и летунам. Да и тебе, артиллерия, как без нужника обойтись? Без надлежащего нужника на фронте форменное безобразие будет. А чем удобный и глубокий нужник выкопать? Лопатой, братцы мои!
Вопрос к капитану Ткачёву был риторическим и не требовал ответа. Старшина и продолжил почти без паузы:
– Эх, сколько мы землицы перелопатили?! И в зной и в стужу. Песок, глина, камни. Почитай одна наша пехотная рота точно котлован для Днепрогеса выкопала. Не меньше. А сколько таких рот на фронтах? Не то, что Беломорканал, а поди море целое вырыли. Так что, ребятушки, нет инстрỳмента на фронте важнее лопаты! И нет никого главнее пехоты, кто лопатой этой махать привык! Поначалу лопатой до мозолей натрудишься, а потом уж и за Папашу можно хвататься да фрица бить! Вот и получается, что пехотинец с лопатой и Папашей в руках наиважнейшая сила в Красной армии!
Старшина вполне искренне считал ППШ – советский пистолет-пулемет Шапошникова, которого на фронте ласково прозвали Папашей, главным оружием победы. Хотя и доброго лукавства применительно к моменту в его словах вполне хватало.
Семёныч, закончив монолог, опять многозначительно повертел головой, оглядев все присутствующих. Пациенты понемногу стали отвлекаться от своих печальных мыслей. В палате начало раздаваться негромкое многоголосие перебивающих друг друга бывших бойцов разных родов войск, которые обязательно должны были высказаться в пользу своих «инстрỳментов» и военных профессий:
– Как же, Семёныч, твоя пехота без связи будет? С нужником, но без телефона, без проводов…? Ни атаки, ни обороны толковой…
– Все знают, что это война моторов! Пехотные войны – прошлый век. Без авиации нет победы…!
– Во-во! Моторы главное! Под Прохоровкой бронетанковые части немца крушили, а не пехота с лопатами…!
– Во Семёныч даёт! Куда он со своей лопатой без саперов? Тюкнет по мине замаскированной, когда нужник свой копать станет и… вспоминай как звали…!
Хитрец Семёныч не стал никому возражать. Мудрый психолог-самоучка наверняка знал, что добился, чего хотел благодаря своей простой, солдатской интуиции. Пусть уж ребятки поспорят незлобно между собой, чем замкнутся и уйдут с головой в свои нерадостные мысли. Всего то и надо – тему для разговора вовремя подкинуть.
Он поднялся со стула, слегка крякнув от боли в ноге, и бочком протиснулся на выход из палаты. Тихонько прикрыл за собой дверь, улыбнулся по-отечески и, прихрамывая, двинулся по коридору заниматься своими хозяйственными делами, которых в эвакогоспитале у него было предостаточно.
Глава 4
Несмотря на стремительное наступление Красной армии почти по всей линии фронта, в начале июля 1944-го года небольшая часть Белоруссии по-прежнему оставалась оккупированной гитлеровцами. На выступе, который занимала немецкая группа армий «Центр», продолжались тяжёлые бои.
Немецкая 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова», получив пополнение, была переброшена в район восточнее Гродно, но вынуждена была с боями отойти, чтобы не попасть в клещи Красной армии.
При любом отступлении всегда бывает момент неразберихи и несогласованности. Такое часто случалось даже у педантичных и аккуратных немцев, особенно ближе к концу войны. Штаб дивизии, давший команду на отход, временно потерял связь с некоторыми полками и батальонами.
Одному из взводов 3-го разведывательного батальона СС, подкреплённого двумя танками «Пантера», был дан приказ держать мост через речку, по которому части Красной армии могли проникнуть в тыл немецким войскам и взять их в кольцо. Приказ был получен ещё до отступления и никем не отменён после отхода основных сил. Оказалось, что охраняемый взводом мост остался в стороне от стремительно несущихся на запад советских танков Т-34.
Здесь, в забытом богом медвежьем углу западной Белоруссии, по-прежнему было тихо. Никто не собирался отбивать этот мост, находящийся уже в глубоком тылу Красной армии.
Связь со штабом была восстановлена только несколько часов назад, и командир взвода гауптштурмфюрер СС Рихард Граубе наконец-то получил внятный приказ выбираться из окружения.
Радисту удалось всё-таки связаться со штабом дивизии по усиленной дальнобойной рации, специально установленной на его танке ещё перед заданием. Гауптштурмфюрер через шумы и скрипы, заполнившие эфир, смог разобрать указание незаметно обогнуть небольшой близлежащий городок и следовать по просёлочной дороге, идущей между болотом и озером, прямиком в сторону линии фронта.
Был, конечно, риск нарваться на противотанковую засаду на зажатом участке этой дороги, но полученные из штаба разведданные успокаивали. По всему выходило, что эта дорога свободна от советских войск до самых прифронтовых лесов в районе Гродно. И даже партизаны, пролившие тут немало немецкой крови за время оккупации, ушли сейчас отсюда вместе с Красной армией.
Сам гауптштурмфюрер Рихард Граубе происходил из семьи судетских немцев. То есть был урождённым фольксдойче, что не совсем отвечало требованию командования войск СС к чистоте арийской крови. Этот факт его рождения и не позволил танкисту Граубе дослужиться до более высокого звания. Поэтому Рихард носил скромные эсэсовские погоны гауптштурмфюрера, что соответствовало званию гауптмана, то есть капитана вермахта, несмотря на то что он был гитлеровским офицером до мозга костей и начал воевать на восточном фронте сразу после окончания танкового училища, почти с первых дней русской кампании.
Он командовал штурмовым танковым взводом разведывательного батальона моторизованной дивизии СС «Мёртвая голова» уже довольно давно, ещё с Ленинградского фронта. Сам был участником тех боёв, когда его дивизию разделили пополам и взяли в плотное кольцо окружения. Он выходил из котла вместе с остатками дивизии.
Вообще, танковая дивизия СС «Мёртвая голова», в которой воевал Рихард, была почти полностью разбита несколько раз за эти три года войны. Но после очередного пополнения опять возвращалась на фронт, восстающая словно птица феникс из пепла.
Гауптштурмфюрер СС Рихард Граубе часто вспоминал райские четыре месяца в начале 43-го года, когда дивизию после очередного разгрома перебросили во Францию для переформирования. Их везли туда на железнодорожном эшелоне, а офицеры дивизии пытались понять, зачем и кому это было нужно. В какие умные головы генерального штаба танковых войск пришла мысль прокатить их через всю Европу?
Сами они этого не понимали, но очень надеялись, что останутся дослуживать в благодатной и неопасной Франции до окончания восточной кампании, куда возвращаться совсем не хотелось.
Но не успели танкисты толком попить хорошее французское вино и пощупать знойных аквитанских фермерш, как через три месяца дивизию опять отправили на восточный фронт. И снова всё завертелось в привычной обстановке. Бои, короткие наступления, длинные отходы. Теснота, духота, гарь выхлопных и пороховых газов внутри танка. Огонь, кровь и пот, ранения и смерть товарищей.
После возвращения из Франции дивизия успела повоевать на юге России и на Украине, пока их не перебросили сюда, на границу центральной и западной Белоруссии, включив в группу армий «Центр».
Вот здесь-то и был дано разведывательному взводу, которым командовал гауптштурмфюрер Граубе, дурацкое указание охранять никому не нужный мост переброшенный через безымянную речку. Приказ, после которого о них забыли на неделю, а вспомнив, потребовали выходить из окружения и рассчитывать только на свои силы.
После полученного наконец последнего указания, взвод покинул место дислокации у реки. Произошло это ещё ночью. Быстро прогрев танковые и мотоциклетные двигатели, двинулись в путь.
На марше впереди колонны ехали три мотоцикла BMW R-12 с колясками и установленными на них пулемётами MG-34. Шесть унтер-офицеров, сидевших в мотоциклах, были самыми опытными и обстрелянными разведчиками. Остальные солдаты сидели на броне двух «Пантер», идущих в арьергарде колонны.
Сам гауптштурмфюрер Граубе занял привычное для него командирское место в открытом цилиндрическом люке на башне головного танка. Он уже успел свериться с картой в свете карманного фонарика и сообщил направление движения обершарфюреру Веберу, сидящему в коляске первого мотоцикла. Тот иногда посматривал на свою карту и вёл колонну точно по заданному маршруту.
Они успели затемно и незаметно обогнуть маленький городок, оставив его слева от пути, и к утру подъехали к длинному озеру, открывшемуся справа.
Просёлочная, грунтовая дорога вела дальше вдоль озера и исчезала вдалеке, укрытая за деревьями. Обширные незасеянные и заросшие высокой травой поля, стоящие по левую сторону от грунтовки, закончились и упёрлись в редкий лиственный лес, переходящий в такой же редкий, но сосновый, по мере движения колонны.
Вдоль дороги, по одной её стороне, стояли покосившиеся местами столбы с натянутыми между ними проводами. Рихард дал команду водителю своего танка остановиться и солдатам спрыгнуть с брони. Затем «Пантера» съехала на обочину, подмяв под себя пару столбов. Гусеницами перемолотила десяток метров проводов и вернулась на дорогу.
Гауптштурмфюрер сделал это специально. На его карте были отмечены медицинский пансионат и пара деревень, расположенных впереди на дороге. Оставив их без связи, он лишал местное население любой возможности сообщить в город о проходящей колонне немцев.
Утро выдалось безветренное и тихое. Солнце уже встало и начинало усиленно припекать. Гауптштурмфюрер понимал, что перед последним многокилометровым броском через линию фронта лучше было бы охладить танковые двигатели. Кроме того, им не нужны были лишние глаза, которые могли заранее обнаружить колонну на дневном марше. Как с земли, так и с воздуха.
Поэтому он принял решение остановиться на привал в безлюдном месте у берега озера, скрытого от дороги деревьями и густыми кустарниками. Загнали танки и мотоциклы в орешник, которым плотно зарос берег, и наскоро натянули маскировочные сетки. Выставив часового, дозаправили технику из резервных канистр. Затем позавтракали ржаным хлебом с маргарином и тёплым желудёвым кофе, налитым в кружки из термосов.
Только после этого командир взвода разрешил солдатам попеременно поспать.
Сам же Рихард расстелил свой чёрный кожаный плащ на сухом пригорке. Снял свой летний китель бежевого цвета с нарукавным ромбом и петлицами, на которых серебряными нитками были вышиты зловещие эмблемы танковой дивизии «Totenkopf» – мёртвой головы. Аккуратно свернул его и положил на плащ в виде головной подушки. Стянул с себя чёрную пилотку и пристроил рядом. Оставшись в майке, сам растянулся и быстро уснул.
Гауптштурмфюреру снилась его родная Моравия. Невысокие ярко-зелёные горы и холмы в Судетах, пересечённые пронзительно прозрачными реками. Этот благодатный край был аннексирован Германией в 38-ом, и Рихард, будучи немцем по рождению и по убеждению, покинул его, поступив в Вюнсдорфское танковое училище. С тех пор он ни разу не возвращался в родные ему Судеты. Не видел отцовского дома уже долгих шесть лет. Но эти места временами снились ему, причём всегда в цвете. Он видел их во сне столь же часто, как и лицо своей невесты.
Семьёй Рихард так и не успел обзавестись. Откладывал это на потом. Был уверен, что свадьбу вполне можно сыграть после окончания войны с большевистской Россией. Ему не было ещё и тридцати, поэтому он и не торопился со столь серьёзным шагом в жизни. Но, конечно, был благодарен судьбе за то, что успел познакомиться со своей будущей невестой.
Его в августе 43-го года, после ранения, полученного во время сражения на Курской дуге, отправили в виде поощрения подлечиться в Германию. Госпиталь находился в сельской местности, недалеко от Дрездена.
Там Рихарду торжественно вручили Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и дали десять дней отпуска после выписки из госпиталя. Он намеревался съездить в родную Моравию и повидаться с родителями, но случилось то, что изменило его первоначальные планы и заставило остаться в фатерланде до самой отправки обратно на восточный фронт.
В один из сентябрьских дней, во время подготовки госпиталя к празднованию годовщины Имперского съезда нацистской партии, сюда было привезено много немецких девушек. Они были дочерями фермеров из окрестных хозяйств. Девушки помогали по праздничному убранству и готовили танцевальную программу, чтобы выступить перед выздоравливающими солдатами и офицерами.
Урсула Хартманн, белокурая розовощёкая девушка с округлыми формами, была одной из трёх дочерей зажиточного землевладельца, председателя местной ячейки нацистской партии. Когда-то у неё были ещё два старших брата, но они оба успели сложить голову на восточном фронте.
Рихард сразу приметил Урсулу и познакомился с ней. Ему запали в душу её природная жизнерадостность и весёлый нрав. Он стал ухаживать за ней, и девушка ответила взаимностью. Она стала приезжать в госпиталь и после праздника. Они гуляли вместе по липовой аллее, ведущей к госпиталю, и целовались, укрывшись от посторонних взглядов.
От светлых, пшеничных волос Урсулы пахло букетом из клеверного сена, настоящего деревенского молока, яблочного штруделя и слегка даже отдавало конским навозом. Но смешение этих запахов было чертовски приятно Рихарду, которому уже порядочно надоела резкая, госпитальная вонь от касторки, спирта и кровоточащих ран.
Он совсем не скромно изучал руками аппетитные формы Урсулы и целовал, целовал ее то в белоснежную шею, то в пухлые губы. А она и не сопротивлялась. Иногда только податливо вздрагивала и шептала больше для порядка:
– Рихард, милый! Не торопись. Прошу тебя, не торопись. Все будет… Надо только папе сказать. Он у меня строгий…
Иногда они разговаривали и строили планы, гуляя по осенней, зелено-золотой аллее. Урсула объясняла томным голосом:
– Рихард, дорогой мой! Ты пойми, что я добропорядочная, немецкая девушка. Клянусь, я буду тебе хорошей женой. Обещаю быть верной и ждать с фронта сколько понадобится. Но, я пока не могу переступить порог наших близких отношений без одобрения отца на свадьбу.
Рихард понимающе кивнул и, остановившись, крепко обнял ее за плечи. Урсула, прижавшись к нему, подняла голову и посмотрела Рихарду прямо в глаза. Добавила оправдывающимся тоном:
– Милый мой Рихард! Я знаю, что и фюрер и доктор Геббельс объявили, что немецкие девушки должны быть сейчас свободны в нравах. Они должны рожать как можно больше немецких детей для Германии. Я все это знаю, но я выросла в поместье. Наши правила жизни отличаются от городских. Мне обязательно надо спросить разрешения отца. Прости, мой настойчивый герр танкист!
Рихарду не за что было прощать Урсулу. Он хорошо понимал ее и даже одобрял такое решение. Во-первых, потому что и сам был выходцем из сельской местности. А во-вторых, потому что ему по нраву была такая чистота и добропорядочность девушки. Его Урсула разительно отличалась от легкомысленных французских девушек, которые совсем не брезговали близкими отношениями со стоящими на постое немецкими танкистами.
Урсула упросила отца, и он разрешил Рихарду после выписки из госпиталя погостить в их усадьбе.
Незадолго до отъезда на фронт Рихард успел рассказать отцу Урсулы о своих серьёзных планах в отношении его дочери. Тот, хоть и не совсем довольный неарийским происхождением Рихарда, всё-таки согласился выдать дочку за него замуж после войны.
Толстый, невысокий, чистокровный представитель нации, с большой лысиной на голове, показательно поправил нацистский партийный значок, приколотый к воротнику рубашки, и высокомерно сказал Рихарду:
– Ну что ж, молодой человек! Благодаря моей Урсуле, у вас будут дети с настоящей немецкой кровью!
Особенного выбора у её отца и не было. Количество берёзовых крестов на обширных территориях России всё увеличивалось, и в Германии явно стало не хватать женихов.
Они успели наскоро обручиться с Урсулой, и гауптштурмфюрер Граубе сообщил в письме родителям, что собирается жениться сразу после окончания войны. Только вот эта проклятая война всё никак не заканчивалась! Более того, наступающая Красная армия заставляла уже задуматься об её итогах. Опытный и здравомыслящий офицер-танкист начинал уже предполагать, что война может закончиться вовсе не победой Германии!
Он старался гнать от себя эти тревожные мысли, не показывал их своим подчинённым. Но злость с каждым днём увеличивалась. Злость на себя, что бездумно поверил фюреру. Злость на всю верхушку Рейха и на немецкое военное командование, которое допустило столько просчётов в отношении большевиков. А ещё большая злость у него появилась в отношении этих самых большевиков, которые не рассыпались сразу от ударов победоносной германской армии! Сдюжили, стерпели и повернули вспять лавину вермахта. А теперь уже и гнали её всё дальше на запад.






