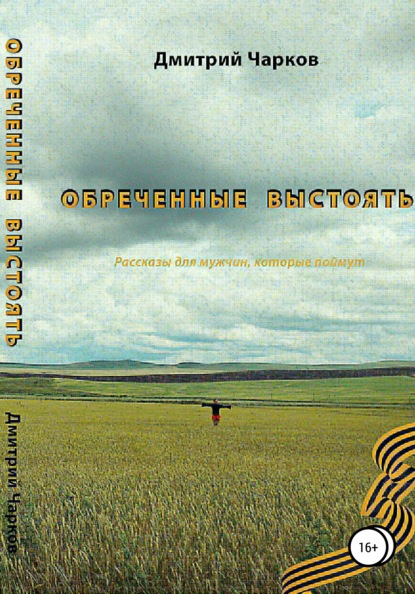
Полная версия:
Дмитрий Чарков Обреченные выстоять. Мужские расказы
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Дмитрий Чарков
Обреченные выстоять. Мужские расказы
Я, как и ты, ожиданьем живу
Верю молчанью, как обещанью,
Пасмурным днём вижу я синеву.
Русское поле, русское поле…
Инна Гофф
ТИГРЫ, МИШКИ, ТОПОЛЯ…
Велик не тот, кто никогда не падал, но тот велик, кто падал и вставал.
Конфуций
Когда перед собой ты вдруг обнаруживаешь вертолёт, который плавно зависает, разглядывая тебя пристально своими выпуклыми глазищами и покачивая при этом многоствольными пулемётами – ты невольно замираешь и лишь пялишься заворожено в его холодные и бездушные веки. Или в то, что ты за них принимаешь – стёкла кабины пилотов. Сами пилоты и их глаза проявляются, как изображения на полароиде, мгновениями позже. Но Митя слышал от некоторых своих друзей, и старшего брата тоже, что иногда ты даже не видишь их глаза – не потому, что они избегают прямого взгляда, а потому, как правило, что просто не успеваешь: эти люди смотрят поверх тебя, куда-то вдаль, ты инстинктивно сбрасываешь оцепенение, оглядываешься, и тут же падаешь, отброшенный чудовищной силой навзничь: кто-то из тех людей в «вертушке» незаметно для тебя нажал на какую-то кнопку. И ты уже мёртв. Всего-то кнопка – не педаль даже.
Каково это – быть мёртвым – Тамерлан не представлял. Иса сказал не думать – значит, не надо: он старший, он разбирается, и у него есть свой «калаш». За последние два месяца Мите попадалось много неподвижных людей вдоль дороги между Грозным и Урус-Мартаном, и они не производили впечатление тех, кто испытывал хоть какой-то дискомфорт, несмотря на нелепые позы, застывшую мимику или недостающие, обожжённые некоторые части тел. Впрочем, и на чрезмерные удобства по ту сторону бытия такое зрелище тоже не очень-то указывало. Но парнишке не верилось, что Аллах их сделал бессмертными, как говорил отец, или что Иисус теперь молится за них, как шептала мать. Просто не верилось, глядя на эти предметы, бывшими когда-то такими же человеками, как и он.
– Вот уж не думал, что снова доведётся отступать к Москве,– прохрипел дед Кирилл из темноты своего угла. Он сильно болел эти дни, почти не вставал с постели, и бабушка кормила его, как ещё недавно Адама – с ложечки. Митя про себя посмеивался иногда, наблюдая за бабой Галей, подносящей ложку к отросшей седой бороде.
– Почему опять, деда?– спросил он.
– Да в сорок первом-то… – дед Кирилл закашлялся, – ох ты ж, господи. Тьфу! …Я примерно такой ж был, как Иса наш – вот мы драпали от фрицев…
– Да ну! Ты ж говорил, вы били их!
– Это в сорок четвертом били их, да в сорок пятом… Били. И нас били. Так не свои же!
– Ладно уже, Кирилл, опять за своё!– всплеснула руками бабушка.
– Ма-ам, давай другую свечку зажжём,– предложила бабушке мама Ира, входя в комнату из недостроенной кухни. В руках у неё был старый эмалированный тазик, полный спелой черешни. – Тамерланчик, бери ягоду, вот только набрала, с дерева прямо.
Тамерланчиком его звала только мама, а бабушка с дедушкой – Митей: им так больше нравилось. Старший брат частенько дразнил Митю Там-Тамом, да и то так, чтобы отец не слышал, который обращался к нему не иначе, как по полной форме – Тамерлан. Ему это нравилось гораздо больше, чем Там-Там. Но ласковое «Митя» тоже ценил.
Электричества в Урус-Мартане уже давно не было, «федералы» все станции подорвали. Митя вспомнил, как отец на днях сказал, что свой новый дом они уже не успеют достроить. При этом мама на него посмотрела как-то странно и, отведя глаза, пробормотала еле слышно: «Самим бы ноги успеть унести».
– Дед, а ты тоже «федерал»?– спросил Тамерлан, отправляя в рот спелую ягоду из тазика.
– Чего это вдруг я «федерал»?– откликнулся Кирилл Фёдорович, переворачиваясь на бок.
– Тогда папка мой – «федерал»?
– Аслан не «федерал», уж точно.
– Он в такой же форме на фотографиях, когда в армии служил, как и эти «федералы»,– авторитетно заявил Тамерлан, кивнув неопределенно в сторону завешенного одеялом окна. – И твоя форма на войне тоже на их очень похожа. Там, где ты возле флага. На фотке той, помнишь?
– Помню, – тихо ответил дед.
Фоток больше не было. И кителя его армейского парадного тоже не было – как и не было их квартиры на втором этаже пятиэтажного дома на Фабричной в Грозном. Да и то, что осталось от той «хрущёвки», и домом-то уже назвать было сложно.
Мальчик подсел на краешек кровати к деду, пока баба Галя с мамой вышли из комнаты – они не разрешали ему приставать к больному.
– Я тебе кое-что расскажу, по большому-большому секрету, только ты никому не говори, обещаешь?– заговорщически спросил Митя. Дед Кирилл молча кивнул.
– Нет, ты скажи «клянусь аллахом!»
– Я не знаю никакого Аллаха, Митька, и Иисуса тоже,– в ответ прошипел дед.– С чего я ими клясться-то буду?
– Так… порядок такой. Поклянись, а то не скажу ничего!– не унимался мальчик, то и дело оглядываясь на темный проём двери. Пока всё было спокойно: старший брат с отцом что-то копали в погребе, «федералы» с ичкерами, видимо, и сами уже оглохли от своей стрельбы – потому и молчали, а женщины занимались с Адамом.
– Ну, клянусь, клянусь,– пробормотал Кирилл Фёдорович.
– Аллахом?– поднял брови Митя.
– Аллахом и Буддой, и Христом-богом, – заверил его дед.
– Перекрестись.
Перекрестился.
– Палец вверх подними. Да нет, указательный давай, не хлюзди – большой не пойдёт!
Дед поменял пальцы. Митя непроизвольно взглянул на потолок, но в свете отбрасываемого отблеска свечи разглядеть там ни Христа, ни Магомеда не смог: значит, можно! – сделал он вывод.
– Скажи сперва, ты видел на войне фрицев в вертолёте? Чтобы вот так прямо перед тобой, как этот… лист перед травой.
Дед невесело усмехнулся.
– Фрицев-то видел, конечно.
– Нет, а вот чтобы лопасти перед носом: вжих-вжих-прям, как из-под земли, вдруг? И пулемёты – настоящие, боевые, как… как змеи пучком уставятся на тебя и смотрят, смотрят…
– В Отечественную не было ещё вертолётов, Мить.
Тамерлан озадаченно посмотрел на старичка. Как так – не было вертолётов? Ми-24 были всегда: двух-глазые циклопы, один глаз над другим – побольше и пошире.
– У нас танки зато были, – продолжил Кирилл Фёдорович. – Ты же слышал про Курскую битву, про Жукова, Рокоссовского, Гудериана? Я к инженерному батальону тогда приписан был, после контузии. Довелось столкнуться с фашистским «тигром» нос к носу. Он, представляешь, заплутал, видимо – от своих отбился, и к нам прямо в тыл вышел.
– Да ну? Что он, баран, что ли, чтобы от своих отбиться?– засомневался Митя.
Тигр ему представлялся умным и вполне воспитанным хищником. Пусть даже и фашистским. Хотя бабушка рассказывала только про уссурийских – Боголюбовы в Грозный перебрались из Владивостока больше пятнадцати лет назад, когда мама Ира вышла замуж за папу Аслана. Тамерлану представлялось, что тигров там – как баранов в Урус-Мартане: ходят себе важно между Хабаровском и Владивостоком, охраняют свою территорию. Да-а-а, это тебе не бараны, не шиш-галыш!
– Клянусь тебе всеми ими!– дед поднял глаза кверху. Митя тоже – никого, чисто: можно больного деда помучить ещё немного.
– Представляешь, вытаскиваю из блиндажа корзину с провиантом, а он, «тигр» ихний – на-ка тебе! Как лист перед травой, ага: заворачивает с просеки прямо на нашу опушку.
– Так ты б с «калаша» его..! Та-та-та-та-та!!! Загрызёт же иначе, я знаю!
– А винтарь мой у паленицы прислонен остался. Да и проку-то стрелять: «тигровая» броня – там сотня тонн весу.
Баба Галя про броню ничего не говорила: шкура – да, хорошая папаха могла бы выйти.
– А танк-то ваш где был?
– Наши все на Дуге уже стояли.
– Ну, деда, а из танка по тигру… Мокрое место, наверно, потом – клочки по закоулочкам!
Кирилл Фёдорович засомневался: о том же самом ли они с внуком говорят?
– «Тигры» фрицевские крепкие были, – уверенно провозгласил дед, откидываясь на подушку. – Завернул он, значит, и встал. Понял, что к чужим угодил, вот казус-то! И я встал, рот открыл.
– Ты б ему подкинул хлебца – может, и ушёл бы, сытый – предложил Митя.
Дед опять привстал на локте:
– О! Моя кровь, хоть и в чеченских жилах! Верно ведь: я от неожиданности-то сперва выронил всё, а потом схватил сверху краюху – да в него! Да второй, и третьей…
Митя захихикал тихонько. В последние дни повышать голос в доме отец запретил.
– И не поверишь ведь: как дал фриц задний ход, и мигом – фьюить! Только я его и видел. Даже не успел наш пост прозвонить. Так и не обнаружили его во всём радиусе – может, в речушке увяз там рядом.
Мальчик, оглянувшись на дверь, тихо прошептал:
– Деда, а тебе страшно было? Испугался? Да?
Кирилл Фёдорович почесал бороду, глянул на внука и ответил:
– Да, Мить, очень страшно.
– А ты… это… не написал в штаны?
Дед от неожиданности замер – уж не потешаться ли над ним вздумал этот шалопай черноглазый? Но парень смотрел на старшего с серьёзным и несколько настороженным, как показалось деду, выражением.
– Нет, Митька, не вышло такого со мной – я ж на войне был. Мало ли чего там увидишь – так и портков не напасёшься.
Мальчик тяжело вздохнул и отвернулся. Дед Кирилл насторожился:
– А ну-к, погоди, ты ж мне рассказать хотел что-то? Про «вертушку», небось? Давай, твоя очередь.
Митя немного помялся, потом выдавил из себя:
– Я тоже так вот, нос к носу… с «мишкой».
Дед ахнул:
– Гималайским?!
– Нет, – помотал головой мальчик, – с «двадцать четвёртым».
Кирилл Фёдорович сообразил, что гималайские остались на Дальнем Востоке, а тут речь может идти только о Ми-24. Их в Грозном узнавали все.
– Как так? Тебе ж отец запретил ходить со двора? А если брат узнает? Иса тебе голову оторвёт сразу.
– Тсс!– испуганно приложил палец к губам Тамерлан. – Не оторвёт, а отрежет, между прочим. Но ты же поклялся не говорить!
– Поклялся, как же… Теперь ты мне клянись, что ни шагу впредь отсюда.
Митя перекрестился, затем направил указательный палец вверх, одновременно поклонившись и омыв ладонями лик свой, при этом пробормотав что-то под нос. Глянул вверх – верно: Там его уж на этот раз, должно быть, заметили непременно. Значит, можно продолжать.
– За домом Муслима – у них, знаешь ведь, овражек такой, и забор кирпичный, красный.
– Ну?
– Я на минутку только: хотел добежать, поменять ему кассету «Рэмбо» на «Рокки», и сразу назад. Представляешь, только подбежал к воротам, а тут из-за забора, снизу из оврага как будто – «мишка». Прям на меня. И, как твой тигр: замер, будто сам меня испугался, понимаешь? А я… вот… в общем, штаны мои потом мокрые оказались. Деда, скажи: я теперь трус, значит?
В глазах мальчика Кирилл Фёдорович видел крошечное отражение мягко колышущегося пламени свечи, стоявшей тут же на столе, рядом с черешней, про которую Митька совершенно забыл. На миг даже показалось, что отражение как-то поплыло вниз в Митиных глазах, к длинной реснице, и растаяло… Парень отвернулся, шмыгнув носом.
– Мить, честное ветеранское: это не имеет никакого отношение к храбрости…
– Но ты-то ведь тогда один на один с целым тигром оказался, и ничего – сам сказал..!
Митя осёкся, потому что где-то за окном послышался нарастающий свист. Кирилл Фёдорович скорее по его выражению лица догадался, чем сам услышал, что началось всё по кругу: опять и опять, снова и снова, в который уже раз за минувшие сутки.
За минувшие годы.
Снаряд разорвался, наверно, в трёх-пяти домах вниз по переулку. Митя резко прижал ладони к своим ушам и зажмурился, прошептав:
– Хоть бы не в Мусика, хоть бы не в Мусика, хоть бы не в…
Из прихожей они услышали твёрдый голос Аслана:
– Так! Все в подвал по лестнице, быстро! Ира, ты первая с Адамом – там внизу Иса поддержит. Тёщщща, вы где? Тамерлан?
Даже теперь дед Кирилл не мог не отметить про себя какой-то особой теплоты, прямо-таки шуршащей в голосе зятя, когда тот произносил слово «тёща», и непроизвольно улыбнулся – ранее в своей жизни он не встречал ни у друзей, ни у знакомых такого бережного отношения к родне, особенно к женщинам. Всегда подтянутый, галантный и предупредительный Аслан порой вызывал у него тайное восхищение: ну, будущий кандидат наук, а как же! – им, видимо, по статусу положено такими быть. Вслух хвалить мужчин в семье было не принято: вызывать уважение и оказывать его окружающим у горцев, казалось, было в качестве дополнительной молекулы их ДНК. Впрочем, не только это, и не только позитивные молекулы – уж на этот счет умудренный войной и жизнью дед Кирилл иллюзий не строил.
Тамерлан подскочил на кровати, ринулся к дверям, потом резко замер и, обернувшись, спросил:
– Дед… ты..?
– Давай иди, иди, Митя, я тоже, я сейчас, – он осторожно приподнялся на постели и перенес ноги на пол. Ох уж эта немощь, эта одышка, эта постоянная боль в груди. И это нескончаемое бегство.
Митя скрылся в проёме. Кириллу Фёдоровичу не нужно было одеваться – они давно уже все спали в одежде. Последние два-три месяца ноги всё чаще отказывались ему подчиняться. «Лишь бы котелок продолжал варить, а то ведь всякое бывает», – часто думалось ему. На фоне регулярной в последнее время канонады он иногда ловил себя на ощущении, что находится в тревожном ожидании: вот сейчас к нему в траншею свалится сверху тяжелый продолговатый металлический предмет с массивным набалдашником, без чеки, без смысла, без шансов избежать неизбежное. Галка называла такие моменты приступами спутанности сознания, которые начинали его действительно пугать. Да, лишь бы котелок не продырявился – не время сейчас, до Пятигорска бы дотянуть.
Кирилл Фёдорович выпрямился во весь рост и вдруг замер, пробормотав:
– Старый пень… надо было сказать ему. Конечно, надо было, вот я…
– Тесть мой, как вы тут? – на пороге появился Аслан – высокий, худощавый, собранный, с умными и, как всегда, внимательными глазами.
Второй взрыв прогремел чуть дальше первого, но в той же стороне – значит, метили направленно в одну точку.
Не долго думая, Аслан двумя шагами преодолел разделявшее их пространство и, аккуратно обхватив тестя спереди, приподнял его с видимой легкостью, невзирая на протесты подопечного, и мелкими шажками направился со своей ношей обратно, через дверной проём к подполу, где их уже ждал Иса, старший сын – точная внешняя копия Аслана, только моложе гораздо.
Там, под их недостроенным домом, в земле, было всё необходимое, чтобы переждать обстрелы и зачистки – Кирилл Фёдорович сам ещё в прошлом году укреплял свод и стены, возводил перегородки, даже вентиляцию с толком удалось проложить. Думали, урожай хранить будут. Сейчас провианта хватало, и тёплых вещей, и топчанов. Жаль было всё это оставлять тут на произвол и разграбление. Но детей и женщин нужно было эвакуировать.
Ту ночь они пережили, обошлось. Аслан утром ходил к брату узнать, как у тех прошло. За красным кирпичным забором, где ещё три года назад они вместе возводили кладку, всё оставалось по-прежнему, кроме одного – не было самого дома. Вместо него посреди широкого двора дымилась груда разбросанного кирпича, утвари и другого бесполезного теперь хлама. Никто из родных, слава Богу, не пострадал, по крайней мере – физически, и лишь старый кот Джохар неподвижно лежал под сенью абрикосового деревца. Но он умер от старости, как заверил Митю отец.
А дед Кирилл умер в Пятигорске две недели спустя. Отступление к Москве совсем подорвало его силы, и в последние дни он находился между реальностью происходящего и какой-то другой, из своего далекого прошлого. Когда сознание ненадолго возвращалось к нему, он пытался что-то сказать Тамерлану, но Аллах лишил деда Кирилла дара речи после той ночи, когда не стало Джохара. Всё, что у него получалось, это по-детски жалобно заглядывать в быстро повзрослевшие Митькины черты и нечленораздельно что-то мычать, немощно указывая на свои ноги. Все успокаивали его, пока, наконец, Тамерлан не положил конец никому непонятной суете деда, прошептав ему на ухо лишь несколько слов:
– Дедуля, я услышал. Ты рассказал мне тогда не всю правду про то, как с «тигром» повстречался. Но ведь к храбрости это не имеет никакого отношения, я знаю, ты мне сам говорил, поэтому не переживай. Всё будет хорошо, скоро приедем в Москву.
Кирилл Фёдорович благодарно ему кивнул и нервно улыбнулся, сжав костлявыми пальцами узкую ладонь внука. С тех пор его и отпустило.
А через три дня Там-Там горько плакал на могиле деда в одиночестве, когда все уже вышли за ограду. Необычный блеск он видел и в глазах старшего брата, но Иса плакал молча, стиснув зубы. Адам же ревел во всю – и по поводу, и без. Хотя к настоящему мужеству ничто из этого не имело никакого отношения.
Посмотреть бы только вот ещё в глаза тем, кто деда снова заставил воевать…

БУДЬ ГОТОВ
Где-то далеко, в памяти моей
сейчас, как в детстве, тепло,
хоть память укрыта
такими большими снегами…
Р.Рождественский
Я сидел на рассохшейся от времени и перемен бурой дубовой скамье. Краска на ней давно перестала быть – она просто стёрлась, в ничто и в никуда. Но сам спил, казалось, всё ещё хранил тепло чьей-то энергии – тепло, передающее душевный покой и умиротворение; словно у дерева, давно срубленного и переработанного, засиженного людьми и изъеденного насекомыми, душа жила намного дольше и трепетнее, чем у вознесенного к высотам бытия жреца божественного культа.
Во мне не было ни печали, ни радости: лишь спокойная уверенность… в прошлом. Я провёл рукой по поверхности скамьи рядом с собой, словно поглаживая время, затем по отшлифованному сгибу, и, слегка нагнувшись телом вперёд, по тыльной шершавой стороне, и пальцы мои вдруг нащупали неровности, очевидно оставленные не природой: расковырянные гвоздиком или ножичком заусенчатые выбоины – скорее всего, буквы. Вася или Маша, пионеры или… Любопытство пересилило вальяжную расслабленность, и я, соскользнув с нагретого места, присел на корточки, задрав голову к деревянной доске и пытаясь разобрать надпись на скрытом от всеобщего обозрения кусочке летописи.
ФЕТЬКА ПРИДУРАК
Я замер, не смея нарушить вдруг нахлынувший поток воспоминаний…
Любой из ребят, регулярно выезжающие на отдых вместе с друзьями в летние детские лагеря, подтвердит, что самое захватывающее время суток – это… первый час после отбоя!
И Фёдор это знал лучше других. Наигравшись за день на площадках загородного лагеря, он умудрялся сохранить ещё массу энергии после объявленного клича «Всем спать!». В голове постоянно рождались идеи, как это наискучнейшее занятие – укладывание в постель в компании своих сверстников – превратить в захватывающий поединок между сонным царством и всенощным бодрствованием.
– Давайте рассказывать страшные истории про чёрную-чёрную руку! – мог вызваться он в один вечер, а в другой предложить:
– Пойдём девчонкам жуков подкинем в постели!
При этом у него всегда на готове была баночка из-под клубники, привезенной на выходных родителями. В крышке непременно имелись прорези, а внутри, на самом дне, копошилась дюжина огромных майских жуков – и где он их только брал, уму непостижимо, но эти безобидные насекомые оказывались подчас в нужном месте и в нужном количестве. «Будь готов!», что называется.
Как-то раз, через час после отбоя, они с Семёном незаметно пробрались в спальню к девочкам, но только тихонько открыли крышку, чтобы выпустить жуков на волю, как за дверьми послышались тяжелые шаги проверяющего – сам директор частенько делал обход территории для выявления пионеров-негодников. Мальчишки, только лишь заслышав его приглушенный голос на веранде, тут же метнулись под ближайшую кровать, столкнувшись при этом лбами – да так сильно, что перед глазами сразу посветлело, несмотря на тьму непроглядную в помещении, а звон в ушах, казалось им, готов был и мертвеца из могилы поднять. При этом в целях конспирации ни единого звука не выдавилось из их плотно сжатых пионерских ртов. «Всегда готов!»
Но под одной кроватью им оказалось тесно, и, будто пара одурманенных отравой тараканов, они одновременно ринулись расползаться в разные стороны под соседние койки, замерев под ними как раз в тот момент, когда дверь в спальню приоткрылась, и на пороге показались два светлых сандалия на босу ногу. Ничего выше этих сандалий Фёдору из-под кровати видно не было. Сандалии немного постояли, словно раздумывая над чем-то, а потом к ним добавились ещё и колени. «На корточки присел», – догадался Семён, а Фёдор в своём укрытии зажмурил глаза. Ему подумалось, что если он притворится спящим, то его просто оставят в покое – ну не будет же, в самом деле, директор лагеря будить посреди ночи спящего мальчика: это негуманно.
В этот момент, в сумраке тонкой полоски света с веранды, Фёдор приметил недалеко от правого сандалия крышку от своей баночки, выроненной во время недавней суматохи, и вспомнил про жуков.
Жуки, видимо, тоже про него вспомнили. Лёжа на животе под кроватью, он вдруг уловил их шуршание у себя на спине. А банка, которую он всё ещё судорожно сжимал в руке перед собой, была наполовину пуста. Если б он не знал, кто это его щекочет, то ощущения могли бы быть даже приятными. Но в том-то и дело, что он знал, и в панике дёрнулся кверху, совсем забыв, что там металлическая сетка кровати, на которой мирно посапывала Света, не догадываясь о происходящем внизу, под своим матрацем. Впрочем, она лишь слегка подскочила на постели, даже не проснувшись.
Яркий сноп света от фонарика резанул по его зажмуренным глазам, и Фёдор, больно ударившийся перед этим об импровизированный потолок, даже смог изобразить зевок, и потянулся на полу, пробормотав:
– Чего по ночам шастаете, спать не даёте?
Следующим высветился Сенька. В отличии от своего друга, он не притворялся ни спящим, ни случайно зашедшим на чашку чая под кровать прохожим – он просто в ужасе пялился на сидящего перед ним майского жука, не смея произнести ни звука.
– Выползаем все, живо! – донеслось до них гремучее шипение директора, и Семён сразу и не понял-то даже, кому выползать – жукам или им с Федькой. – Тоже мне, дети-индиго!
В тот раз им пришлось по-морскому мыть полы на веранде до полуночи: вожатый Дима от души выливал полное ведро воды, а они тряпками собирали всю эту воду назад в ведро, причем отжать нужно было ровно столько, сколько и вылилось. Хоть слезами добавляй.
Ночной труд облагораживает. После трёх вёдер они спали в своих мягких постельках, как сурки в норках, и даже утренний протяжный крик Светы, обнаружившей на своей подушке одного из обитателей Федькиной банки, забытого ими второпях накануне, не принёс им желанного удовлетворения – спать сильно хотелось, а руки-ноги ломило, будто это их ночью отжимали вместо тряпок
Пару дней Фёдор ходил тише воды и ниже травы, помня про упражнения с вёдрами под луной. Но природу не обманешь, а Фёдора не согнёшь – ближе к середине смены настала пора Больших Зубных Паст.
Как-то после полдника он подошёл к Семёну и с видом бывалого заговорщика подмигнул:
– Сегодня идём..?
– Куда? – не понял тот.
– Девчонок пастами мазать. Забыл, что ли?
Семён поскрёб затылок.
– С тобой как свяжешься – так обязательно влипнешь: или под поломойку, или под кровать.
– Трусишь? Слабо, что ли?
– А вот и нет! Спать сегодня хочу, вот и всё.
– Струу-сил, струу-сил, струсил! – запел Федька.
– Сам ты..! – и Семён побежал к футбольному полю.
Федя решил действовать в одиночку. Он бы мог, конечно, позвать ещё кого-нибудь из мальчишек, но тогда были бы нарушены условия конспирации. Ведь чем больше ребят знали о готовящейся вылазке, тем больше шансов, что информация достигнет стана противника, и девчонки будут готовы к его приходу, а это в пионерские планы никак не входило.
Весь вечер он вёл себя самым прилежным образом: убрался в своей тумбочке, привёл в порядок постель, аккуратно расставил обувь, включая резиновые сапоги на случай дождливой погоды, и даже зубы честно на ночь почистил, приметив при этом, кто из девочек какой пастой пользуется. После отбоя он одним из первых юркнул под покрывало в своей кровати и старательно изображал самое неподдельное желание отдохнуть и выспаться как следует после перипетий прошедшего дня.
Свет погас, и теперь было самое главное – не уснуть самому ненароком. Он прислушивался, как его товарищи рассказывали некоторое время разные байки про то да про сё, но постепенно разговоры утихли, и через некоторое время по комнате разносилось только мерное сопение, да порой половица скрипнет на веранде под легким шагом Ольги Валерьевны, охранявшей в ту ночь их покой. Через час и она должна была уже идти спать в свою комнату, и вот тогда настанет время действовать.





