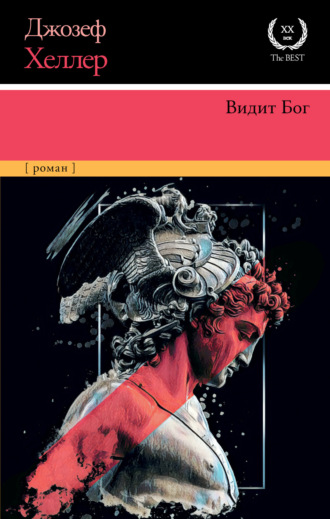
Джозеф Хеллер
Видит Бог
– Так ты служил филистимлянам и сражался за них? – и по сей день с ужасом припоминают люди.
– Вы чертовски правы, служил, – отвечаю я вспыльчиво. – А не пойди я на это, мои же воины и побили б меня камнями.
Вот еще один эпизод моей борьбы с Саулом, которого ни в каких Паралипоменонах не сыщешь, не правда ли? Они там подчистили обе наши истории, и его, и мою. Да какая теперь разница? Я своего добился, а только это в счет и идет, разве нет? То же и с Моисеем, и с Иосифом, и Бог еще должен всем нам спасибо сказать за то, что мы помогли Ему сдержать слово, которое Он дал Аврааму. Я помог мечом. Иосиф – переводом напугавшего фараона сна насчет семи колосьев и тучных коров и тощих коров на язык состоящего всего из двух слов простого рецепта, который, пожалуй, мог бы заслужить ему кислые похвалы Зигмунда Фрейда и зажечь уважительный огонь в глазах всякого, кто подвизается в сфере покупки фьючерсов на зерно.
– Скупай хлеб, – сказал Иосиф.
– Скупать хлеб? – переспросил фараон.
– Твой сон, – сказал Иосиф. – Сон означает, что надо скупать хлеб.
Так что, когда грянул голод, только фараоновы житницы и оказались полны. Оголодалые люди, у которых водились деньжата, сходились со всех земель окрест Египта и Палестины, чтобы купить еды, без коей им было не выжить. Когда деньги кончились, они стали расплачиваться скотом, лошадьми и ослами. Когда кончился скот, они стали отдавать в уплату землю, а там и самих себя. Всем этим завладел фараон, некупленными остались только земли жрецов. Иосиф постановил собирать в пользу фараона пятую часть всего, что рождает земля, и прошу любить! – помимо иных чудес цивилизации, египтяне додумались также до феодализма и испольной системы.
Пятая часть? Такого налога даже мне не спустили бы, да я на него и не претендовал. Соломон, тот претендовал, но удовлетворился двенадцатой частью и в итоге поставил царство на грань краха своими бездумными и тщеславными тратами. Он на все норовил наложить лапу и все расточал на себя, а его недоумок сын, едва унаследовав трон после Соломоновой смерти, нанес сокрушительный удар по всем надеждам на возрождение национальной мощи.
– Мой мизинец толще чресл отца моего, – по-дурацки объявил благородный Ровоам населению, которому и так уже опротивела эксплуатация. – Отец мой обременял вас тяжким игом, так я ваше иго увеличу; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами.
Еще и скорпионов приплел, идиот. Такой же умный, как Самсон, но лишь наполовину такой же воспитанный. Интересно, как он себе мыслил – с кем он говорит? В единый миг труды Иосифа, Моисея, Господа и мои обратились в пыль, во взрывчатый хаос, в руины. Опять гражданская война, и опять созданная мною империя развалилась на два обособленных государства.
Моисей не получил за свои труды ничего, кроме поношений с обеих сторон. Иосиф по крайней мере добился от фараона разрешения сынам Иакова переселиться с семьями в Египет, где их поджидали все блага этой страны. На самом-то деле неотесанных обитателей шатров Ханаанских поджидал очередной обескураживающий сюрприз: явившись туда со своим скотом, они немедля обнаружили, что никакая ассимиляция в местном культурном обществе им не светит. Для египтян они были мерзостью. Египтяне даже садиться есть рядом с ними не желали. И не потому, что пришлецы были евреями, не думайте, – они и сами-то толком не знали, кто они такие. Сыновья Иакова, вот и весь сказ. Их сторонились потому, что они – пастухи, скотоводы. Утонченные египтяне любого пастуха, любого кочевника почитали за мерзость. Так что ни в одной египетской харчевне места для них не находилось, пока Иосиф не попросил и не получил у фараона добрых пастбищ в Гесеме, на которых сыновья Иакова, называвшегося теперь еще и Израилем, смогли осесть со своими женами, младенцами, шатрами и скотами и есть, как обещал им благодарный фараон, тук земли. Онейромантический[5] дар Иосифа спас страну от голода, а фараону принес такие богатства, какие тому и в самых буйных снах не грезились.
Четыреста лет спустя Египтом правил уже другой фараон, ничего об Иосифе не знавший. Короткая у египтян память, верно? Фараон этот обратил потомков Израиля в рабство, поставив над ними суровых начальников, отчего и пришлось Моисею, бедняге, выводить их оттуда. Он на эту работу никогда не просился и удовольствия от нее тоже не получил никакого.
– Сними обувь, – вот первое, что услышал Моисей от горящего куста. – Ты стоишь на святой земле.
Так оно и продолжалось до скончания Моисеевой жизни. Уговаривать фараона, чтобы тот отпустил евреев из Египта, само по себе было делом нелегким. Организовать сплоченное движение сопротивления и уговорить евреев уйти вместе с ним из страны было и того труднее. Уйти? Пожалуй. Без споров и препирательств? И думать нечего. Все равно что надеяться ветер догнать.
– Кто-кто-кто-кто…
– Кончай, Моисей, – сказал Господь. – Я же выправил твое заикание, забыл, что ли?
– …кто я, чтобы они продолжали мне верить? И как-как-как…
– Моисей!
– …как мне ответить, когда они спросят об имени?
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ.
Моисей, болезненно сморщившись, отступил на шаг.
– Опять Я ЕСМЬ СУЩИЙ?
– А что?
– Они уже глядят на меня с угрозой и бормочут проклятия. Что-что-что…
– Ты прекратишь или нет?
– …что они скажут, когда тяготы возрастут?
«Вэй из мир» – вот что они сказали, когда тяготы возросли, в переводе это значит «горе мне». Фараон навалил на них, труждавшихся в полях, возившихся с кирпичом и известкой, еще больше работы.
– Я по-прежнему ожесточаю сердце его, – сказал Господь, когда Моисей пришел к Нему жаловаться. – И не смей говорить Мне опять, что это бессмысленно. Таков приказ. Я займусь фараоном, а ты занимайся народом. Думаю, скучать тебе не придется.
И не соврал. Интересно, что бы случилось, ответь Моисей отказом?
Словно сообразив, что разговоры им предстоят долгие, Бог дал Моисею брата по имени Аарон, дабы было в чей рот влагать слова, а там и сестру Мариам, принявшуюся бойко пророчествовать. В противном случае при Моисеевом косноязычии вместо десяти язв могло потребоваться двадцать, а вместо сорока лет скитаний – все четыреста.
Уходя из Египта, народ благоразумно уклонился от дороги земли Филистимской, устремившись взамен к югу, дорогою пустынною к Чермному морю. Моисей взял с собою кости Иосифа. Воркотня и занудливые приставания, которых он так опасался, донимали его с самого начала вкупе с обычными ироническими замечаниями, облекаемыми в форму риторического вопроса, который евреи и выдумали и по которому нас узнают еще с тех времен, когда Каин ответил: «Разве я сторож брату моему?»
– В чем дело? – С таким брюзгливым попреком обратилась толпа к Моисею, увидев преследующие ее колесницы египетские. – Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?
Тоже, между прочим, неплохо сказано.
К середине второго месяца вся конгрегация ныла, жалуясь на голод, обвиняя в нем Моисея с Аароном и сожалея о добрых старых днях рабства в земле Египетской, где они сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта. Моисей оправдывался. Господь послал манну. А им все равно хотелось котлов с мясом и хлеба. Бог дал им перепелов. И отравил оных, дабы не ели их.
А кроме того, Он говорил. Он говорил, и говорил, и говорил, и все Моисею, а выговорившись, начинал говорить опять, и опять Моисею. Наговорено было столько, что непонятно, откуда Моисей брал время на то, чтобы еще куда-то идти. И ни единого слова благодарности или хвалы, никогда, ни единого. И ни слова сожаления о Моисее, ни одному человеку, после того как Моисей ушел. Похоже, благой Господь никогда не уставал говорить с Моисеем, бранясь то по одному, то по другому поводу, грозясь массовым уничтожением и день за днем полагая законы, которых хватило и на Исход, и на Левит, и на Числа, и на Второзаконие. Он-то писал их пальцем на камне, Ему это было раз плюнуть, а тащить тяжеленные скрижали с горы пришлось Моисею. И после того как Моисей их разбил, увидев золотого тельца, бедняге пришлось еще лезть обратно в гору за новым комплектом. Сорок лет продолжалось это – Бог гневался, рвал и метал, народ взбрыкивал, упрямился и непокорствовал. И вот наконец доплелись, и Моисей – настолько, готов поспорить, измотанный, что у него не было даже сил омыть руки свои, – взошел на гору Нево, на вершину Фасги, чтобы взглянуть по-над Иорданом на землю обетованную, в которую путь ему был заказан за некий необъясненный проступок, до сути коего ни я и никто другой докопаться так и не смогли. А вскоре затем, хоть зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась, Моисей умер, и где находится его могила, никто и по сей день не знает.
Ну вот, стало быть, – земля обетованная. Мед там действительно имелся, а молоко мы притащили с собой, в вымени наших коз. Народу Калифорнии Бог дал роскошную береговую линию, киноиндустрию и Беверли-Хиллз. Нам Он дал пески. Канны получили от Него великолепный кинофестиваль. Мы получили ООП. Зимой у нас хлещет дождь, летом стоит жарища. Людям, которые не умеют наручные часы завести, Он дал подземные океаны нефти. Нам же Он дал грыжу, геморрой и антисемитизм. Те, во всем подозревавшие недоброе шпионы, что вернулись из земли Ханаанской после первого ее осмотра, описали ее как землю, поедающую живущих на ней, землю, населенную одними исполинами. Вранье, конечно, но не лишенное доли истины. Верно, были в ней и смоквы, и гранатовые яблоки, и виноградные кисти, столь тяжелые, что унести их можно было лишь на шесте, уложенном на плечи двух мужчин. Но такого, чтобы пожирать живущих на ней, за той землей не водилось. Да и не предлагалось нам лучшей, приходилось держаться за эту.
Из двадцати четырех человек, принимавших участие в первой разведке, только Иисусу с Халевом достало веры в предназначение, провозглашенное Божеством, и желания двигаться дальше. Народ же уперся, испугавшись нарисованной остальными разведчиками мрачной картины.
– Шагай, шагай, – попытался Господь ободрить народ Свой, обнаружив, что тот погрязает в страхе. – Я пошлю пред тобою шершней. Обещаю. Князья Едомовы смутятся, трепет объемлет вождей Моавитских, унынье охватит всех жителей Ханаана. Нападет на них страх и ужас, и онемеют они, как камень. Ты прогонишь евеев, хананеев, хеттеев, ферезеев, а заодно уж и иевусеев. Они обратят к тебе спины свои и побегут. Ничто тебя не остановит. Слово даю.
Никто и шагу вперед не сделал. Тогда Господь решил, не сходя с места, истребить их всех. Очень Он прогневался и обозлился.
– Всех перебью! – орал Он на Моисея. – Думаешь, Я шутки шучу? Сколько еще, по-твоему, Я буду терпеть раздражения от народа сего и сидеть сложа руки? Сколько еще знамений Мне сделать среди него, чтобы уверовал он? Я уж это и прежде проделывал – потопом, огнем и серой. Отойди-ка в сторону, Моисей.
– Может, поговорим, обсудим все? – начал Моисей. Он изо всех сил старался удержать Его и особенно напирал на то, что Бог станет посмешищем среди египтян, если уничтожит избранный народ Свой после того, как завел его так далеко и наобещал ему так много: «И они расскажут о том народам других земель, и те тоже будут смеяться над Тобой и перестанут бояться Тебя. И станут говорить, что убиты мы были потому, что Ты не смог вести нас, а не потому, что мы не смогли идти за Тобой. Они поверят, что это Ты ослабел, не мы».
– Ладно, – смилостивился Бог, которому вовсе не улыбалось стать посмешищем египетским. Тем не менее Он ткнул большим пальцем через плечо Свое и приказал: – Давайте топайте. Мотайте отсюда.
И они возвратились в пустыню Фаран, что близ Кадес-Варни, еще на тридцать восемь лет, пока не испустили дух все, кто роптал против Бога, и не ушло одно поколение и не пришло другое. Если Бога и будут помнить, то, уж, наверное, не за терпение Его и человеческую доброту, ведь так? Из всех, кто вышел из Египта, только Иисусу и Халеву дозволено было войти в землю обетованную. Когда Господь сказал: «Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан», Иисус и Халев повели свое войско через Иордан к Иерихону, начав завоевание Палестины, которого никто, кроме меня, завершить не смог. Земля Палестины по-прежнему остается землею сильной, вмещающей множество разнообразных, взаимообогащающихся культур. Разница в том, что теперь все они – мои.
Не думайте, впрочем, что Он облегчил мне задачу. Жизнь человека, избранного Богом, – не ложе, устланное розами. Спросите Адама, спросите Еву. Посмотрите, что Он учинил с Моисеем, что случилось с Саулом. Бог мог подготовить мою встречу с Голиафом, но убивать-то его пришлось все же мне. Чуть ли не всю мою жизнь я труждался и мучился как последний пес. Когда я воцарился в Иерусалиме, мне было уже под сорок, и все, чего я добился, досталось мне в поте лица моего.
Иосиф дал нам приют и спасение, Моисей довел до границы, а Иисус перевел через нее. Но именно я докончил Божью работу. И Бог, я думаю, видит, что Он хоть немного да обязан мне за ту роль, которую я сыграл, помогая Ему достичь Его цели.
Представьте, кем бы Его считали теперь, если б мы так сюда и не добрались или, добравшись, были б истреблены. Видит Он и то, что я ожидаю награды Его до того как умру, не после. А кроме того, Он должен еще извиниться передо мной – это по меньшей мере. Я же не говорю, что меня не следовало наказывать за грехи, которые я совершил. Я говорю, что наказания, избранные Им, были бесчеловечны. Я и сам никак не пойму, какой, собственно, милости я жду от Него. Наверное, я просто боюсь попросить. Боюсь, что Он ничего мне не даст. И еще больше боюсь, что даст. Разве не трагедией будет обнаружить, что на самом-то деле Он все это время был тут, рядом?
Есть у Него своекорыстное обыкновение взваливать на других всю вину за Свои ошибки, разве не так? Он выбирает наугад человека, незваный-непрошеный рушится на него, так сказать, прямо с ясного неба и взваливает на беднягу задачу монументальной сложности, до которой мы, по способностям нашим, не всегда еще и дотягиваем, а после обвиняет нас за ошибку, которую Сам же Он и совершил, делая Свой выбор. Ему свойственно забывать, что непогрешимости в нас ничуть не больше, чем в Нем. Так он поступил с Моисеем. Так поступил со мной. Саул Его сильно разочаровал. Зато уж с Авраамом, первым нашим патриархом, Он не промахнулся, не так ли?
Что говорить, с Авраамом Ему повезло, и я горжусь тем, что принадлежу к числу потомков этого достойного человека, горжусь, впрочем, по причинам, не имеющим особого отношения к его завету с Богом или к тому, что он – первый наш патриарх. Да он и сам всем этим особо не кичился. И Сарру, жену его, я тоже очень люблю – и за смех ее, и за ее ложь. Авраам и сам ведь смеялся так, что пал на лице свое, когда услышал от Бога, что Сарра родит ему сына, ибо Сарре было уже за девяносто и обыкновенное у женщин у нее давно прекратилось. Сарра солгала Богу, когда Он спросил ее, отчего это она рассмеялась. Сарра напоминает мне Вирсавию в лучшие ее времена, со всем ее смехом и ложью, склонностью к веселью и пристрастьем к веселому вранью. В юности общительная красавица, Сарра под старость, если ей приходилось отстаивать то, что ей причиталось, обращалась с другими женщинами как сущая мегера. Вот и Вирсавия отличалась тем же, и я был бы рад снова обвить руками ее стан и держать, приклонив свою главу на ее.
Авраам и поныне поражает меня тем, с какой видимой легкостью совершил он подвиг трудности невероятной. Он сам себя обрезал. Это, уверяю вас, не пустяк – попробуйте как-нибудь на досуге и поймете. Вам, разумеется, понятно, что я говорю это, основываясь на обширных, неоспоримых познаниях по части механики обрезания, приобретенных мною в те дни, когда я был помолвлен с Мелхолой, когда я радостно и неспешно спустился с холмов вместе с моим племянником Иоавом и отрядом певших бравые песни добровольцев, чтобы собрать те сто краеобрезаний филистимских, которыми мне предстояло расплатиться за Мелхолу с Саулом. По нашим прикидкам, чтобы совершить обрезание одного живого филистимлянина, требовалось шестеро крепких израильтян. В дальнейшем работа оказалась не столь уж и тяжелой – то есть когда я наконец свыкся с мыслью, что филистимлянина лучше сначала убить. Мне, в мою простоватую голову, не приходило, что Саул расставил мне западню. А в его – что я могу уцелеть. Оба мы недооценили друг друга, и с тех пор он начал меня побаиваться. Я получил жену, а он – огромное преимущество: он знал, что хочет убить меня, а я о том и ведать не ведал.
Даже по прошествии стольких лет, даже помня, как она помогла мне избежать ножей Сауловых убийц, я не способен выдавить из себя ни единого доброго воспоминания о нашем долгом браке с Мелхолой. Взамен того всякий раз, как я вспоминаю ее имя, во мне поднимается то же мстительное негодование против нее, что и в день, когда она омрачила мой триумф, – в день, когда я доставил наконец ковчег завета в Иерусалим, в день национальных и религиозных торжеств, наполнивших всех в Израиле, кроме Мелхолы, восторженным ликованием. Ах, какой получился праздник! А какой парад я возглавил! Но Мелхола была вредоносной бабой, норовившей испортить мне всякий приятный день и радовавшейся всякому худому, она ни разу не снизошла до похвалы в мой адрес, до того, чтобы полюбоваться мною и вообще увидеть меня таким, каким меня видело подавляющее большинство людей: героем-царем мифических масштабов, монументальной фигурой, обретшей бессмертие на огромном беломраморном пьедестале, – и это еще одна особенность Микеланджеловой статуи во Флоренции, от которой меня выворачивает наизнанку. Выставить меня необрезанным! Кем я, бубена масть, по его мнению, был?
Что ни говорите, а созданное Микеланджело римское изваяние Моисея имеет со мной, достигшим расцвета лет, больше сходства, чем то, флорентийское, в какие бы то ни было мои годы. И все вам то же самое скажут. Естественно, я был не такой крупный, да и сделан был не из мрамора. Шрам на голени у меня отсутствовал, рожки на голове тоже. Но я обладал такой же величавой и гордой статью, такой же очевидной аурой бессмертного величия и силы, пока не стал с годами слабеть и пока мне не запретили выходить на поле сражения.
С тех пор я сбавил в весе. Волосы мои истончились, борода побелела, пальцы начали леденеть в повторяющихся припадках озноба, от которых у меня стучат зубы и которых даже Ависага Сунамитянка со всей ее девственной, упругой, благодатной красой облегчить не способна, ибо холод струится во мне по своим кошмарным путям, сколько она ни укрывает меня своим телом, сколько ни растирает во всех местах, до каких достают ее руки и нежное личико. Я все гадаю, довольно ль ей лет, чтобы помнить великолепие и мужскую мощь, которыми я обладал до того, как мышцы мои стали сдавать и сам я иссох от старости. Сквозь веющие аиром и кассией притирания, которыми она освежает себя, сквозь ароматы алоэ и корицы, коими слуги душат мою постель, пробивается резкий, притягательный, прирожденный запашок ее женского тела, и я желаю ее. Я желаю ее, а отвердеть не могу. Тепло ее пор не проникает в мои. Маленькие женственные формы ее совершенны, груди с вытянутыми, темными сосцами так полны и свежи, гладкая плоть ее мерцает в трепетном свете моих масляных ламп, и ни единого нет в ней изъяна. Откуда у нее столь удивительная кожа – ни крошечной родинки, ни малейшей веснушки? Ависага, Ависага. Ависага?
– Ависага!
В последнее время я приохотился звать ее, даже когда мне не холодно, чтобы она полежала со мной. Когда кто-то есть рядом, я себя чувствую лучше, чем один. И, освоившись с ней, я начал примечать то да се. Да, поцелуи ее сладки. Вкус меда во рту ее. Коленом, а там и бедром, которое я стараюсь напрячь, чтобы усилить ощущение, я осязаю щетинку черных волос на аккуратно подстриженном бугорке ее лона, крепких, курчавых, пружинистых. Мне нравится здоровый запах ее живота. Недавно, всего один раз, он же и первый, я протянул руку, чтобы коснуться ее. Я наконец охватил раскрытой ладонью скругленье ее бедра. Гладкое. Ни унции лишней плоти. Все как раз такое твердое и шелковистое, как я и думал. Вирсавия, претерпевшая с течением времени положенные изменения, ныне грузнее, чем в молодости, лицо и тело ее лишились ясности очертаний. Она гордится тем, что сохранила все передние зубы – маленькие, кривоватые, налезающие один на другой, некоторые из них обкрошились по уголкам. К сожалению, детство ее миновало еще до того, как евреи столь естественным для них образом занялись ортодонтией. Мне-то все едино, сколько у нее уцелело передних зубов, ибо я люблю ее и желаю любви ее больше, нежели вина, и так же сильно, как прежде. Вирсавия еще может согреть меня, наполнить мои жилы теплом, целительным притоком крови. Вирсавия могла бы возбудить меня с легкостью, если бы пожелала, но она и не верит в это, и этого не желает. Возможно, потому и не желает, что не знает об этой своей способности. Мне сейчас семьдесят, значит, ей где-то от пятидесяти двух до шестидесяти – в зависимости от того, какая именно ложь из тех, которые она мне привычно скармливала, была правдой. Ограниченная, субъективная картина мира, сложившаяся у нее, как у всякой занятой только собой вертихвостки, не позволяет Вирсавии и на секунду поверить, будто я хочу поиметь ее, хотя мог бы отодрать Ависагу Сунамитянку. Правда-то в том, что отодрать Ависагу Сунамитянку у меня нипочем не получится, а с Вирсавией, глядишь, и проскочит. Шевеление рудиментарной эрекции я ощущаю, лишь когда она рядом со мной или ловя себя на уповании, что она направляется ко мне, чтобы снова, на свой околичный манер, просить о спасении ее жизни, и, может быть, посидеть немного рядом, чуть склонив в притворном почтении голову, стараясь придумать какие-нибудь слова, которые дадут ей возможность затянуть визит. Иногда, видя ее растерянность, я прихожу ей на помощь, подкидывая обрывки сведений, способных ее растревожить. Она прикусывает губу, прикусывает палец. Мне и самому часто хочется, чтобы она задержалась. Это я, к примеру, с тайной спазмочкой жестокого наслаждения первым посвятил ее в идею Адонии насчет публичного пира. Она, перед тем вяло сутулившаяся на обитой мягким скамье, расставив длинные, тонкие ноги и рассеянно наматывая на палец прядь желтоватых волос, навострила уши, подобралась и принялась сосредоточенно слушать. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, циничный видит цинизм лишь в других, лукавый находит лукавство там, где нет никакого лукавства.
Мы оба считаем само собой разумеющимся, что смерть моя, хоть и близкая, не явится без предупреждения, без того, чтобы оставить мне достаточно времени для окончательного волеизъявления. Вирсавии более чем выгодно поддерживать во мне жизнь до тех пор, пока я не передумаю. На этой неделе длинные волосы ее снова позолотели и что ни день приобретают все более глубокий пепельный тон – естественный их цвет, с которым она решила вдруг покончить, выкрасившись поярче. Мудрить с оттенками или удовлетвориться легкими касаниями осенней кисти – это не для моей Вирсавии. Дня три-четыре о ней может быть ни слуху ни духу. Затем она появляется, чуть не вприпрыжку, ослепительная блондинка, какой и не сыщешь больше во всем христианском мире. Тонкие волоски на предплечьях она, должно быть, тоже обесцвечивает. А волосы на ногах снимает, поливая их растопленным воском и после сдирая затвердевшую корочку. Подмышки же она выстригает ножницами.
Она такая же чокнутая и своекорыстная, какой была всегда, и я люблю ее как прежде. Я не верю, будто она когда-нибудь любила меня, хоть она и твердит, что любила, и я не сомневаюсь – она и вправду так думает. По-моему, она всегда сильнее любила саму мысль о любви и в особенности, конечно, о любви к царю Давиду. Она сама в этом призналась, когда поведала мне, что каждый вечер купалась на своей крыше, которую так хорошо было видно с моей, с заранее обдуманным намерением растормошить мое воображение и заставить меня послать за нею. И она попала прямо в яблочко, эта девчонка, в первый же раз, как я увидел ее.
Наши начальные бурные три года были воистину волнующим временем, жуткая скверна непостижимым образом сплеталась в них с беззаботностью и буйными радостями, пока не погибли Урия и мой ребенок и пока она не родила Соломона. Тогда-то все и кончилось. Похоть ее остыла. Вирсавия нашла ей замену в жизненной цели, которую давно уж искала, в карьере, к которой стремилась и к которой неосознанно себя приуготовляла.
– Давай назовем его Царем. – Вот прямо так и предложила она, едва разрешившись вторым нашим ребенком, довольно крупным мальчишкой.
Бог смилостивился и простил нас. Но я не смилостивился и Его не простил.
Моя восьмая жена, Вирсавия, была первым из всего-навсего двух известных мне людей, которые с такой легкостью пользовались словарем любви в обычных своих разговорах, что самые приторные банальности, самые мерзкие непристойности быстро приобретали привлекательную естественность внятного каждому, драгоценного смысла. Вторым был я. Вирсавия бесстыдно обучила меня этому. Она научила меня говорить о подобных вещах, раскрывать сокровенное, воздыхая, шептать, с обожанием и с некоторой даже витиеватостью, слова об ощущениях, которых я до того не ведал, и безвозбранно расспрашивать ее о разных женских делах, кои всегда почитались запретной загадкой, окутанной мраком великой тайны. Она доказала мне, что я способен на такие свершения, относительно коих я жизнью был готов поручиться, что они лежат за пределами моих мужских возможностей, доказала, что я смогу когда-нибудь научиться выговаривать «я люблю тебя» без колебаний, без трусливого трепета и дурацкой ухмылки, не робея от этих слов до дрожи в коленках, – более того, что когда-нибудь я могу даже захотеть сказать ей «я люблю тебя» и сумею сказать эти слова без запинки, замешательства, испуга, приниженности и стыда.
– Я люблю тебя, Вирсавия, – помню, сказал я ей совершенно искренне, когда все у нас только еще начиналось и мы лежали с ней как-то под вечер, приходя в себя в объятиях друг дружки, – но как мне хотелось бы тебя не любить.
– Уже хорошо, – улыбнулась она, наставница, гордая успехами ученика.
– Я люблю тебя, Вирсавия, – повторил я всего лишь два-три шепчущих мгновенья спустя, – и как же я рад, что люблю.
– Еще того лучше, – одобрительно сказала она, с избытком вознаграждая меня радостным светом, вспыхнувшим в ее синих глазах.
Воспоминания этого рода обдают мое сердце и кости лихорадочным жаром, превосходящим все, чего сумела пока достичь Ависага Сунамитянка с ее цветущей красой и нежными ласками. Слава Богу, моему грубияну племяннику Иоаву ни разу не довелось услышать, как я говорю Вирсавии «я люблю тебя», вот уж было б ему что добавить к унизительным домыслам на мой счет, впервые забредшим в его голову, когда мы с ним мальчишками росли в Вифлееме и он обнаружил во мне пристрастие к музыке, – домыслы эти лишь укрепились моей дружбой с Ионафаном и разного рода бесстыжими бреднями, возраставшими вокруг нее, как прорастают в загаженном саду зловонные плевелы. Нет, Иоава просто необходимо убить, ведь так? Он никогда не взирал на меня с таким почтением, с каким я сам на себя взираю. Более чем достаточная причина для убийства, ибо мысль об этом выходит далеко за пределы того, что способен снести истинный царь, а сколько я себя помню, мысль эта всегда сидела у меня в печенках. А как быть с Нафаном? Нафан, этот ханжа, этот пророк, наверняка с самого начала знал, что я помешался на Вирсавиной заднице и норовлю добраться до нее каждое утро, каждый полдень и каждую ночь – и добираюсь, – и ведь ни словом не попытался меня образумить, пока муж ее не погиб и у него, у Нафана, не появилось нечто, чем меня можно было прижать по-настоящему. Иерусалим – город маленький. А Вирсавия была баба горластая. Может, и Урия все знал.
Освободив меня от всех тормозов и силком приучив выговаривать разные пикантные разности, Вирсавия открыла во мне дремавшую до поры тягу к любовному витийству, которым я в дальнейшем с успехом пользовался для того, чтобы околдовывать и совращать даже ее – и даже после того, как она постановила для себя, что больше у меня этот номер не пройдет. Стоило ей обучить меня, как я с восторгом предался этому занятию. Я стал пользоваться словами – чистыми, поэтичными, восторженными словами, способными вскружить голову даже Вирсавии, я сокрушал ими ее непреклонную неуступчивость, не поступаясь ничем существенным – ничем, что она желала бы получить взамен. Я наслаждался, без зазрения совести играя на струнах давней ее слабости и тем еще острее оттачивая дар, которым она же меня и наделила. Речи мои текли рекой, слова низвергались пышными водопадами, растопляя и одолевая и ее искреннюю решимость держать меня на расстоянии, и неподдельную любовь к себе самой.
– Нет, Давид, подожди-ка минуту, не подходи, стой где стоишь, – строго приказывала она тоном, к которому прибегала, чтобы недвусмысленно напомнить мне о соглашении, каковое мы с ней будто бы заключили. – Если хочешь, чтобы я любила тебя, приходи ко мне с чем-то конкретным. Мне нужны настоящие доказательства твоей любви.
– Аметист?
– Я хочу, чтобы Соломон стал царем.
– Вот она, возлюбленная моя, – отвечал я, переходя в наступление и выговаривая слова со всей доступной мне быстротой. Тем временем руки мои, лежавшие на плечах Вирсавии, понемногу отклоняли ее назад, – она пасет между лилиями.
Или:
– Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей. Два сосца твои – как двойни молодой серны. Волосы твои – как стадо коз, зубы твои – как стадо выстриженных овец. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Оооох, ты сукина дочь! Оооох, оооох, оооох, сукина дочь! – Все, что мне требовалось, – это раскрепоститься и сказать ей чистую правду.
– Ах, Давид, Давид, – громко выдыхала она в экстатическом изумленье, уже закатывая глаза и без дальнейшего принуждения опадая на ложе. – И откуда ты берешь такие слова?
– Сам сочиняю.
– Хочешь мне воткнуть?
Вирсавия была единственной из моих жен и наложниц, наделенной даром кончать. Теперь-то я разбираюсь в этих делах достаточно, чтобы понять – Ависага будет второй, если мне когда-нибудь повезет настолько, что я смогу соединить желание с силой. Авигея тоже любила прижиматься ко мне в поисках исцеления от заброшенности, одиночества, страха, против которых мои большие ладони, лежавшие на спине ее, воздвигали крепкую защитную стену. Микеланджело был прав, снабдив меня такими здоровенными лапищами. Авигея с радостью спала бы рядом со мной каждую ночь, но она была слишком тонким человеком, чтобы когда-либо попросить об этом. Она была единственной в моей жизни женщиной, которая действительно любила меня. Мне так ее не хватает. Ныне я с каждой зарей обнаруживаю, что мне не хватает ее сильнее, чем на заре вчерашней. Утро – самое плохое для меня время. Авигея расстроилась бы, узнав, как плохо я сплю, какое испытываю одиночество. Она бы нашла какой-нибудь способ умерить бессловесную грусть, которая одолевает меня, когда мне не спится или когда я, поспав, пробуждаюсь от тусклых, запоминающихся с пятого на десятое снов, в которых ничего дурного не происходит, но которые все равно оставляют во мне ощущение полной отчаяния пустоты. Вирсавия, единственная из трех моих настоящих жен, взрывалась в постели, словно хананейка, или обезьяна-ревун, или одна из тех похотливых моавитянок либо мадианитянок, которых Моисею никак не удавалось отогнать от его стана. Впервые услышав эти неожиданные, судорожно нарастающие звуки, ощутив непроизвольное воздымание ее извивающегося тела, я перепугался. «Оооох, оооох, оооох, сукин ты сын!» – это благословенное, поэтичное выражение я впервые услыхал от нее.




