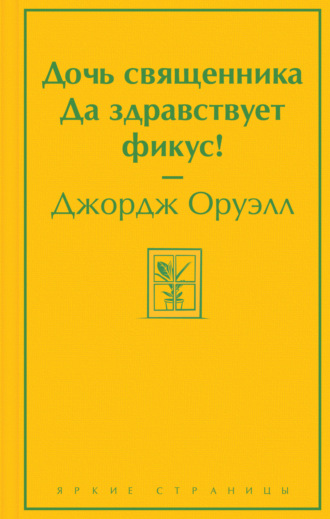
Джордж Оруэлл
Дочь священника. Да здравствует фикус!
2
Было двадцать девятое августа. Сон сморил Дороти в теплице двадцать первого; из чего следует, что в ее жизни образовался пробел в восемь дней.
Случившееся с ней было не так уж необычно – едва ли проходит неделя, чтобы в газетах не появилось сообщение о чем-то подобном. Человек пропадает из дома, отсутствует несколько дней или недель, а затем обращается в полицию или в больницу, не имея ни малейшего понятия, кто он и откуда. Установить, как он провел прошедшее время, как правило, не представляется возможным; по всей вероятности, он блуждал, не вполне сознавая себя, как во сне или гипнозе, но сохраняя подобие нормальности. В случае Дороти наверняка можно сказать только одно: в какой-то момент она сделалась жертвой ограбления, поскольку лишилась золотого крестика и носила не свою одежду.
Она уже почти пришла в себя, когда к ней обратился Нобби; при должном обращении ее память могла бы восстановиться в течение нескольких дней, если не часов. Для этого потребовалось бы совсем немного: случайная встреча с другом, фотография родного дома, несколько правильных вопросов. Но случилось то, что случилось, и ее разум не получил нужного стимула. Она осталась в промежуточном состоянии только что проснувшегося человека – умственная деятельность была практически в норме, но ее личность скрывалась в тумане.
Естественно, что, едва Дороти связалась с Нобби и компанией, любая попытка самоанализа терпела неудачу. Некогда было присесть и все обдумать – некогда разложить проблему по полочкам и найти решение. В том мире «деклассированных элементов», в который она ненароком попала, никто не мог себе позволить и пяти минут связных размышлений. Дни проходили в непрестанной активности, напоминавшей бредовый сон. В самом деле, большинству людей подобное может привидеться только в кошмаре; однако этот кошмар заполняли не страсти-мордасти, а голод, холод, жара и грязь, а также постоянная усталость. Впоследствии, когда Дороти вспоминала то время, дни и ночи у нее сливались воедино, и она не могла сказать с определенностью, сколько все это продолжалось. Она только помнила, что у нее без конца болели натертые ноги и хотелось есть. Голод и натертые ноги составляли ее самые отчетливые воспоминания о том времени; а еще ночной холод и дурацкое ощущение неряшливости, возникавшее от недосыпа и отсутствия крыши над головой.
Добравшись до Бромли, они «обжили» ужасную, заваленную бумажным мусором свалку, вонявшую отходами нескольких скотобоен, и провели ночь, не давшую отдыха, в высокой влажной траве с краю сквера, укрываясь лишь своей поклажей. Утром они продолжили поход, направившись в сторону хмельников. Дороти уже тогда поняла, что история, рассказанная Нобби – о том, что им была обещана работа, – не соответствовала действительности. Он откровенно признался Дороти, что выдумал это, лишь бы завлечь ее. Единственная их надежда в плане работы состояла в том, чтобы податься в хмельные края и предлагать свои услуги на каждой ферме, пока не найдут, где еще требуются сборщики.
Им предстояло одолеть порядка тридцати пяти миль, если считать по прямой, однако на исходе третьего дня они едва достигли края хмельников. Естественно, что их продвижение замедляла потребность в еде. Если бы не поиски еды, они могли бы одолеть все это расстояние за пару дней, а то и за день. Однако все их передвижения диктовались в первую очередь чувством голода, а приближаются они к хмельникам или удаляются, заботило их постольку-поскольку. Полкроны Дороти растаяли за несколько часов, после чего им оставалось лишь попрошайничать. Но здесь их поджидал подвох. Один бедолага может довольно легко выпросить себе еду на дороге, да и двоим это несложно, но совсем другое дело, когда попрошаек четверо. В таких условиях, чтобы не помереть с голоду, каждому из них приходилось выискивать еду с упорством и целенаправленностью дикого зверя. Еда – вот что занимало все их мысли в течение трех дней, одна лишь еда, раздобыть которую было ох как непросто.
Дни напролет они попрошайничали. Они покрывали огромные расстояния, обходя вдоль и поперек деревню за деревней, и «канючили» перед мясными и бакалейными лавками, как и перед всеми более-менее зажиточными домами, мозолили глаза отдыхавшим на пикниках, махали с обочин машинам (ни одна не остановилась) и донимали старых джентльменов слезными рассказами о своих бедствиях, с жалостливой миной на лице. Часто крюк в пять миль не приносил им ничего, кроме корки хлеба или горсти мясных обрезков. Попрошайничали все, не исключая Дороти; она ведь не помнила прошлого, ей не с чем было сравнить свое положение, чтобы устыдиться. Однако, несмотря на все их усилия, они бы протянули ноги, если бы вдобавок не промышляли воровством. В сумерках и спозаранку они прочесывали сады и огороды, воруя яблоки, терн, груши, орехи, позднюю малину и, самое главное, картошку; Нобби считал за грех пройти мимо картофельного поля и не набрать хотя бы карман картошки. Это он в основном воровал, пока остальные стояли на стреме. Нобби был отчаянным вором; он гордился тем, что был готов украсть все, что плохо лежит, и если бы товарищи иной раз не сдерживали его, то все непременно угодили бы в тюрьму за соучастие. Один раз Нобби даже позарился на гуся, но тот разразился таким страшным гоготом, что Чарли с Дороти едва успели оттащить Нобби, когда на пороге дома возник хозяин.
За каждый из тех первых дней они проходили по двадцать – двадцать пять миль. Бродили по выгонам и глухим деревенькам с несусветными названиями, плутали на тропинках, терявшихся в полях, и отлеживались, восстанавливая силы, в сухих канавах, пахших фенхелем и пижмой, проникали в частные лесные угодья и «обживали» рощи, где было вдоволь хвороста для костра и речной воды, чтобы приготовить варево из всего, что удалось добыть, используя в качестве котелков две двухфунтовые банки из-под табака. Бывало, им улыбалась удача, и они пировали первоклассным рагу из бекона (выпрошенного) и цветной капусты (ворованной) или запекали в золе большущие водянистые картошки, а случалось, варили повидло из ворованной малины и жадно его поглощали, обжигая рот. Единственным, в чем они не знали недостатка, был чай. У них могло не быть ни крошки еды, но чай был всегда – крепкий, темный и бодрящий. Такую вещь, как чай, выпросить несложно. «Извините, мэм, не найдется щепотки чаю?» В подобной просьбе едва ли откажут даже черствые кентские кумушки.
Дни были удушающе жаркими, дорога блестела в раскаленном воздухе, и проезжавшие машины вздымали облака колючей пыли. Часто в этих машинах – грузовиках, заваленных мебелью, детьми, собаками и птичьими клетками, – ехали целыми семьями веселые сборщики хмеля. Ночи всегда были холодными. Едва ли в Англии найдется уголок, где после полуночи не пробирает озноб. А все постельные принадлежности наших путников состояли из двух больших вещмешков. Один мешок делили между собой Фло и Чарли, а другой был в распоряжении Дороти; Нобби спал на голой земле. Такой сон при любой погоде – сплошное мучение. Если Дороти ложилась на спину, голова без подушки запрокидывалась, вызывая ломоту в шее; а на боку нестерпимо ломило нижнее бедро. И даже когда, ближе к рассвету, удавалось забыться прерывистым сном, холод пробирал до костей. Одному только Нобби все было нипочем. Он мог спать во влажной траве, как в постели, и его грубая, обезьянья физиономия, с жидкой рыжей порослью на подбородке, похожей на медную проволоку, всегда отличалась здоровым румянцем. Он был из тех рыжих, которые словно светятся изнутри, согревая не только себя, но и воздух вокруг.
Такую жизнь, со всеми ее нелепостями и неудобствами, Дороти принимала без возражений – лишь иногда у нее мелькала смутная мысль, что ее прежняя жизнь, которой она не помнила, как-то отличалась от теперешней. Уже через пару дней она перестала досадовать на свое незавидное положение. Все невзгоды – грязь, голод и усталость, бесконечные скитания, жаркие пыльные дни и холодные бессонные ночи – она терпела молча. Так или иначе, усталость не давала ей погружаться в раздумья. К вечеру второго дня путники совершенно выбились из сил, только Нобби держался молодцом. Даже гвоздь в башмаке, царапавший ему ногу, не особо его беспокоил. А Дороти порой едва не засыпала на ходу. К тому же ей приходилось нести мешок с ворованной картошкой, поскольку двое мужчин и так несли вещмешки, а Фло отказывалась от любой ноши. Они старались иметь про запас десяток фунтов[60] картошки. Дороти, глядя на Нобби с Чарли, перекинула мешок через плечо, но лямка пилой врезалась ей в плоть, а мешок бил по бедру, натирая кожу, и в итоге растер до крови. Кроме того, ее хлипкие туфли очень быстро расползлись по швам. На второй день правый каблук отвалился, и Дороти захромала; но Нобби, имевший завидный опыт в таких делах, посоветовал ей оторвать и второй каблук, чтобы обе ноги были в равном положении. И все бы ничего, только при подъеме в гору голени ей скручивала боль, а по пяткам словно лупили железным прутом.
Но Фло и Чарли испытывали еще большие мучения. Бесконечные скитания не столько изматывали их, как угнетали и озлобляли. Раньше они и подумать не могли, чтобы прошагать за день двадцать миль. Оба они были из лондонской бедноты, и, хотя нищенствовали уже не первый месяц, скитаться по большой дороге им еще не приходилось. Чарли не так давно лишился хорошей работы, а Фло выгнали из дома родители, когда она пала жертвой соблазна. Эти двое познакомились с Нобби на Трафальгарской площади и согласились идти с ним на хмель, воображая, что их ждет веселое приключение. Однако, как люди, «севшие на мель» сравнительно недавно, они смотрели свысока на Нобби и Дороти. Они ценили смекалку Нобби и его воровскую удаль, но в социальном плане считали его ниже себя. Что касалось Дороти, они почти не удостаивали ее вниманием после того, как истратили ее полкроны.
Уже на второй день пути Чарли с Фло стали хандрить. Тащились позади, все время ворчали и требовали еды больше остальных. На третий день дорога их доконала. Они открыто стали ныть, что хотят назад в Лондон, и не желали слышать ни про какой хмель; то и дело они приваливались где-нибудь в теньке и жадно поглощали все съестное. После каждого такого привала стоило немалых усилий уговорить их идти дальше.
– Ну же, ребята, – говорил Нобби. – Собирай манатки, Чарли. Пора двигать.
– Ох, я заебался! – отвечал Чарли хмуро.
– Ну, здесь-то нам не место для постоя. Али как? Мы ж хотели быть до ночи в Севеноксе, забыл, что ли?
– Ох, ебал я Севенокс! Что Севенокс, что хуенокс, мне похую.
– Ну и нехуй! Мы ж хотим завтра работу. Али как? А прежде чем искать работу, надо освоиться на фермах.
– Ох, ебал я фермы! Хоть бы сроду не слыхал про ебаный хмель! Не гожусь я на такую хуету – бродяжить по большой дороге, как ты. Хватит с меня. По горло, блядь, сыт.
– Если мы так хмель, млять, собираем, – встревала Фло, – я уже, млять, наелась от пуза.
Нобби поделился с Дороти соображением, что Фло с Чарли наверняка «отвалят», если им повезет найти транспорт до Лондона. Самого же Нобби ничто не могло лишить присутствия духа, даже гвоздь, буравивший ему ногу, отчего рваный носок пропитался кровью. На третий день гвоздь обнаглел настолько, что через каждую милю Нобби останавливался, чтобы разобраться с ним.
– ‘Звиняй, детка, – говорил он. – Снова надо подлатать поганое копыто. Умаллигатонить этот гвоздик.
С этими словами он находил круглый камень, засовывал его в башмак и старательно вколачивал гвоздь.
– Так-то! – восклицал он, ощупывая злосчастное место пальцем. – Уложил сучка в могилу!
Однако эпитафия должна была гласить: «Я еще вернусь». Через четверть часа гвоздь непременно вылезал в том же месте.
Естественно, Нобби подкатывал к Дороти, но, получив отпор, не обиделся. Легкий нрав не позволял ему принимать неудачи слишком серьезно. Он всегда радовался жизни, всегда пел раскатистым баритоном – как правило, одну из трех любимых песен: «Сонни-боя», «Рождество в работном доме» (на мотив «Церкви единый оплот») и «…! Вот и весь перертуар», в бравурной армейской манере. Он был вдовцом двадцати шести лет и успел побывать продавцом газет, карманником, арестантом, солдатом, взломщиком и, наконец, бродягой. Впрочем, он не спешил делиться этими фактами своей биографии, так что они раскрывались лишь по мере общения с ним. Он нередко пересыпал свои разговоры яркими воспоминаниями: как он полгода служил в пехотном полку, пока не получил освобождение из-за травмы глаза, какой отвратной баландой кормили в тюрьме, как он рос в трущобах Дептфорда[61], как умерла его жена при родах, в восемнадцать лет (ему самому было двадцать), какие дико гибкие дубинки в колонии для малолеток, как глухо бухнул нитроглицерин, выбив дверь сейфа на обувной фабрике, и Нобби взял сто двадцать пять фунтов, которые просадил за три недели.
К вечеру третьего дня путники достигли края хмельников, и им стали встречаться бедолаги, по большей части такие же бродяги, шедшие назад, в Лондон, решив, что здесь им ничего не светит – хмель не уродился, и расценки были грошовые, а все места уже заняли цыгане и «домашние». От этого Фло с Чарли окончательно пали духом, но Нобби, умело сочетая запугивание с убеждением, уговорил их задержаться еще ненадолго.
В деревеньке под названием Уэйл[62] им повстречалась старая ирландка, миссис Макэллигот, только что нанявшаяся на ближайший хмельник. Она выменяла им на яблоки кусок мяса, который недавно «слямзила», и поделилась полезными сведениями о сборе хмеля и местных фермах. Разговор они вели, развалившись на травке напротив хозяйственного магазинчика с газетной доской на стене.
– Вы бы к Чалмерсу подалис, – советовала им миссис Макэллигот грубым дублинским говором. – Энто милей пять отседа. Я слыхала, Чалмерс хочет ишо дюжину сборшиков. Уж он вам даст работу как пит дат, ежли поспешите.
– Пять миль! – проворчал Чарли. – Очуметь! А поближе ничего?
– Ну, тута Норман. Я-то к нему нанялас – с утра выхожу. Но вам к нему нечего и думат. Никого не берет, окромя домашних. Половина хмеля пропадет, а ему и дела нет.
– Что за домашние? – сказал Нобби.
– Ну как, кто в домах живут. Либо тут где рядом, либо кого фермер пустит. Тепер такой закон. Прежде как: придешь на хмел, притулилас в хлеву и горя не знаешь. А тепер либористы, паршивцы, закон приняли, шоб не брат батраков, кого фермер на постой не пустил. Так шо Норман берет тока домашних.
– Это ты, что ли, домашняя?
– Черта лысого! Но Норман не знает. Наплела ему, шо меня тут пустили. По секрету, я в коровнике кемарю. Там ничё так, тока вон и гряз, но утром надо выйти до пяти, шоб скотник не застукал.
– Мы в хмеле не бельмеса не смыслим, – сказал Нобби. – Я его, заразу, увижу – не узнаю. Уж лучше быть старым да опытным на такую работу, а?
– Не бзди! Хмель никакого опыта не требует. Знай себе рви да в корзину кидай. Вот и вес белмес.
Дороти клевала носом, слушая их бессвязную болтовню о хмеле и о какой-то девушке, убежавшей из дома. Фло с Чарли вычитали о ней на газетной доске и оживились, вспомнив о Лондоне с его удобствами. Эта беглянка, пробудившая их интерес, называлась в статье «дочерью ректора».
– Видала, Фло? – сказал Чарли и прочитал заголовок вслух, смакуя каждое слово: – «Тайная любовная жизнь дочери ректора. Поразительные откровения». Ух! Жаль, нет пенни – почитал бы!
– Да? Ну и о чем там?
– Как? Ты не читала? Во всех урнах газеты. Дочь ректора то, дочь ректора се – не без сальных подробностей, ясное дело.
– Она горячая штучка, дочка старого ректора, – сказал Нобби мечтательно, лежа на спине. – Вот бы она здесь была! Уж я бы знал, что с ней делать, ага, я бы ее того.
– Девчонка из дому сбежала, – сказала миссис Макэллигот. – Крутила шашни с одним типом, на двадцать лет старше себя, а тепер пропала, вот и ишут ее по всем весям.
– Среди ночи смылась, на машине, в одной ночнушке, – сказал Чарли с чувством. – Деревня на ушах стоит.
– Ходят слухи, – добавила миссис Макэллигот, – он ее увез за границу и продал в энтот… дом терпимости в Парыже.
– Говоришь, в одной ночнушке? Видать, мамзель та еще!
За этим могли бы последовать новые подробности, но неожиданно вмешалась Дороти. Предмет их разговора вызвал в ней смутное любопытство. Она услышала незнакомое слово – «ректор». Сев на траве, она спросила Нобби:
– А кто это, ректор?
– Ректор? Ну как, поп-клоп… викарий. Который в церкви проповедует и распевает песнопения, и все такое. Вчера нам один встретился – на зеленом велике, с воротничком вокруг шеи. Священник… пастор. Ну, знаешь.
– А… Да, кажется.
– Свяшенники! – сказала миссис Макэллигот. – Тоже пройдохи, палец в рот не клади. Ну, ест такие.
Дороти мало что поняла из этого объяснения. Слова Нобби отчасти просветили ее, но лишь отчасти. Вся вереница мыслей, вызываемая словами «церковь» и «священник», странным образом размывалась у нее в уме. Она отметила еще один пробел – с ней это случалось периодически – в неведомых знаниях, доставшихся ей из прошлого.
Это была их третья ночь в дороге. В сумерках они проскользнули в рощу, собираясь «покемарить», но чуть за полночь хлынул дождь. Целый час они отчаянно метались в темноте, ища укрытия, и в итоге наткнулись на стог сена, в котором ютились с подветренной стороны, пока не забрезжил рассвет. Фло всю ночь ревела, действуя на нервы остальным, и к утру на нее было жалко смотреть. Ее глупое пухлое лицо, мокрое от дождя и слез, напоминало кусок сала, если можно вообразить сало, перекошенное жалостью к себе. Нобби порылся под живой изгородью и, набрав охапку веток посуше, развел костер и заварил чай, как делал каждое утро. Никакое стихийное бедствие не могло помешать ему заварить чай. В числе его пожитков имелись куски старой шины, которыми он разжигал влажный хворост, а кроме того, он владел искусством, доступным лишь самым бывалым бичам, вскипятить воду на свече.
После такой ночки все были сами не свои, а Фло заявила, что не может больше ступить ни шагу. Чарли тоже расклеился. Так что Дороти с Нобби отправились на ферму Чалмерса вдвоем, условившись встретиться позже с непутевой парочкой и поделиться новостями. Пройдя пять миль до фермы Чалмерса, они увидели обширные фруктовые сады, которые вывели их к хмельникам, и местные сборщики им сказали, что бригадир «скоро покажется». Они прождали с краю плантации четыре часа, обсыхая на солнце и глядя на сборщиков за работой. Картина была идиллической. Хмель, напоминавший непомерно разросшуюся фасоль, тянулся вдаль пушистыми зелеными рядами, с пышными гроздьями нежно-зеленых шишек, наподобие гигантского винограда. Когда дул ветер, от них исходил свежий, с горчинкой, запах прохладного пива. В каждом ряду загорелое семейство обрывало хмель и бросало в корзины, напевая при этом; а когда гудок объявил перерыв на обед, все разошлись кипятить чай над кострами из стеблей хмеля. Дороти им страх как завидовала. До чего счастливыми они казались, сидя вокруг костров, с кружками чая и ломтями хлеба с беконом, овеваемыми запахом хмеля с дымком! Она мечтала о такой работе, однако вскоре выяснилось, что им с Нобби здесь делать нечего. Примерно в час дня пришел бригадир и сказал, что у него нет для них работы, и они поплелись обратно, на дорогу, вознаградив себя за напрасное ожидание дюжиной ворованных яблок.
Когда они вернулись к условленному месту, Фло с Чарли там не оказалось. Они, разумеется, поискали их для приличия, хотя оба, разумеется, поняли, что случилось. Все было яснее ясного. Фло стрельнула глазками в водителя какой-нибудь попутки, и тот подхватил их с Чарли, рассчитывая потискать в дороге милашку. Но что было хуже, беглецы прихватили с собой оба вещмешка. Дороти с Нобби остались ни с чем – у них не было ни корки хлеба, ни картошки, ни щепотки чая, ни жестянки, чтобы сварить что-нибудь, и нечем было укрыться ночью – буквально ни с чем, кроме своей одежды.
Следующие полтора дня им пришлось нелегко – очень нелегко. Как же они мечтали о работе, голодные и измотанные! Но чем дальше они забредали в хмельные края, тем больше убеждались, что они никому не нужны. Обходя ферму за фермой, они слышали одно и то же: сборщики не требуются. Кроме того, поиски работы не оставляли им времени на попрошайничество, и им было нечего есть, кроме ворованных яблок и кислого терна, от которого у них сводило животы. Той ночью дождь не шел, но было гораздо холоднее. Дороти даже не пыталась заснуть, а просидела до рассвета у костра, подбрасывая хворост. Они с Нобби нашли укрытие в буковой роще, под раскидистым древним буком, защищавшим от ветра, но периодически обдававшим их росой. Нобби спал сном ребенка, растянувшись на спине, с открытым ртом, и неверное пламя костра бросало отсветы на его широкую щеку. А Дороти, изнывая от усталости, всю ночь изводила себя безответными вопросами. Такая ли жизнь была ей уготована – скитаться голодной с утра до вечера и мерзнуть по ночам под мокрыми деревьями? Не была ли другой ее прошлая жизнь? Откуда она пришла? Кто она? Ответов не было, и на рассвете их с Нобби снова ждала дорога. К вечеру они обошли в общей сложности одиннадцать ферм, и Дороти с трудом переставляла ноги.
Но поздним вечером, вопреки вероятности, им улыбнулась удача. Они забрели в деревню Клинток, обратились на ферму под названием Кэрнс[63] и немедленно получили работу, без всяких вопросов. Бригадир смерил их взглядом и сказал: «Ну, порядок, сгодитесь. Начнете утром; корзина номер семь, бригада девятнадцать», даже не спросив их имен. Было похоже, что сбор хмеля не требовал ни доброго имени, ни опыта.
Они прошли на луг, где располагался лагерь сборщиков. Словно во сне от усталости и такой неожиданной радости, Дороти шла по лабиринту крытых жестью хижин и цыганских повозок с разноцветной стиркой, вывешенной в окнах. На заросших травой тропинках между хижинами возились дети, а рядом потертые жизнью взрослые с довольным видом готовили еду над бессчетными кострами. С краю луга стояли несколько зачуханных жестяных хижин, для несемейных. Увидев Дороти, один старик, коптивший сыр над костром, указал ей в сторону женских хижин.
Дороти открыла дверь и в тусклом свете, проникавшем в заколоченные окна без стекол, увидела пространство футов двенадцати, сплошь заваленное соломой. Слипавшимся глазам Дороти представшая картина показалась преддверием рая. Она шагнула в солому, но из-под ног у нее раздался женский вопль.
– Эй! Ты чё творишь? Слазь с меня! Тебе хто велел ходить по мне, дура?
Очевидно, Дороти была здесь не одна. Она стала шагать осторожней, споткнулась, рухнула в солому и тут же заснула. Но тут рядом вынырнула, словно русалка из соломенной пучины, растрепанная полураздетая женщина.
– ‘Дарова, подруга! – сказала она. – Умаялась небось?
– Да, устала – очень устала.
– Ну, ты окочуришься от холода в соломе без ничего. Нет одеяла?
– Нет.
– Ну-ка, погодь. У меня тут мешок.
Она нырнула назад в солому и достала мешок семи футов длиной. Ей пришлось растолкать опять успевшую заснуть Дороти, и та кое-как залезла в мешок, такой длинный, что она умещалась в нем с головой. Дороти ворочалась и все глубже погружалась в соломенные недра, такие теплые и сухие, что она и подумать не могла. Солома щекотала ей ноздри, забивалась в волосы и колола даже через мешок, но никакие покои – будь то ложе Клеопатры из лебяжьего пуха или плавучая кровать Харуна ар-Рашида – не могли быть ей милее.
3
Удивительно, до чего легко, едва получив работу сборщика хмеля, освоить ее. Всего через неделю ты становишься мастером и чувствуешь себя так, словно всю жизнь только и делал, что собирал хмель. Трудно придумать что-то более элементарное. Физически это, конечно, выматывает – приходится быть на ногах по десять-двенадцать часов в день, и к шести вечера тебя рубит сон – зато не нужно никаких особых навыков.
Примерно треть сборщиков в лагере знала о сборе хмеля не больше, чем Дороти. Некоторые приехали из Лондона без малейшего понятия, как выглядит хмель, не говоря о том, как и для чего его собирают. Передавали историю об одном типе, который, выйдя первый раз на сбор хмеля, спросил: «А где лопаты?» Он думал, что хмель нужно выкапывать, как картошку.
Все дни в «хмельном лагере», кроме воскресений, были похожи один на другой. Полшестого по стенам хижин стучали, и Дороти, зевая, выползала из соломы и нащупывала обувь, слыша сонную ругань других женщин, также выползавших из соломы, – всего их было шестеро, если не семеро, а то и все восьмеро. Любая одежда, снятая по глупости, пропадала в соломенной пучине безвозвратно. Взяв горсть соломы и сухого хмеля и набрав по пути хвороста, все разжигали костры и готовили себе завтрак. Дороти всегда готовила себе и Нобби и стучала в дверь его хижины, поскольку он с трудом вставал в такую рань. Те сентябрьские утра – пока небо на востоке медленно светлело, становясь из черного кобальтовым, а трава серебрилась росой – выдались на редкость холодными. Завтрак всегда был одинаковым: бекон, чай и хлеб, поджаренный на жире от бекона. За завтраком люди готовили второй точно такой же хлеб с беконом на ужин, после чего брали с собой и шли в поле – полторы мили по голубому, ветреному рассвету, то и дело вытирая текущий от холода нос мешком или подолом.
Хмельники делились на плантации площадью порядка акра, и каждая бригада – примерно сорок сборщиков под началом бригадира, часто цыгана – обрабатывала их одну за другой. Побеги хмеля тянулись по веревкам на двенадцать футов и выше и свешивали гроздья с проволочных поперечин, образуя ряды шириной в один-два ярда; в каждом ряду стояла увесистая деревянная рама с холщовой корзиной, закрепленной наподобие гамака. Придя на место, сборщики раскладывали раму, срезали с веревок два ближайших побега – массивные, словно косы Рапунцель, конические гирлянды – и отрясали их от росы. Затем растягивали над корзиной и принимались обрывать тяжелые шишки хмеля, начиная с толстого края. Первое время работалось неуклюже и медленно. Руки, вялые спросонья, немели от холодной росы, а влажные шишки выскальзывали из пальцев. Самым трудным было срывать шишки, не срывая стебли с листвой; иначе мерщик мог отказаться принимать сбор, сочтя, что там многовато отходов.
Кроме того, стебли кололись мелкими колючками, и через два-три дня на пальцах не оставалось живого места. По утрам, когда пальцы, усеянные затянувшимися ранками, почти не гнулись, это было сплошным мучением; но постепенно ранки начинали снова кровоточить, и тогда боль притуплялась. При должной сноровке и хороших шишках один побег можно было оборвать за десять минут, пополнив корзину на полбушеля. Но хмель рос неравномерно на разных плантациях. Где-то шишки достигали размера грецких орехов и так плотно облепляли стебель, что можно было снять их все одним махом; а где-то они оставались заморышами, не крупнее горошин, и росли так редко, что приходилось возиться с каждой по отдельности. Если хмель попадался совсем никудышный, за час возни не набиралось и бушеля.
С утра, пока шишки хорошенько не обсохли, работа шла ни шатко ни валко. Но потом выглядывало солнце, прогретый хмель начинал источать горьковатый аромат, сборщики тоже разогревались, и работа спорилась. С восьми до полудня все только и знали, что рвать хмель как заведенные, все больше входя в азарт с каждым часом, стремясь поскорее дорвать побег и передвинуть корзину чуть дальше. Вначале на каждой плантации корзины стояли вровень, но затем отдельные сборщики вырывались вперед, и некоторые заканчивали свой ряд, пока остальные ковырялись ближе к середине; таким умельцам разрешалось перейти на соседний ряд и продолжить сбор в обратном направлении, навстречу тихоходам, – про таких говорили, что они «крадут твой хмель». Дороти с Нобби всегда плелись в хвосте, ведь их было всего двое на корзину, тогда как на большинстве корзин – четверо. К тому же Нобби, со своими загрубелыми ручищами, оказался неважным сборщиком; в целом женщины справлялись с этим лучше мужчин.
А по обе стороны от Дороти с Нобби две группы – на корзинах номер шесть и номер восемь – всегда шли нос в нос. На корзине номер шесть была семья цыган: кудрявый отец с серьгой, пожилая, похожая на мумию, мать и двое рослых сыновей; а на корзине номер восемь – старая торговка из Ист-Энда, в широкой шляпе и длинном черном платье, нюхавшая табак из табакерки с рисунком парохода, с выводком дочерей и внучек, поочередно наезжавших на пару дней из Лондона. Вообще в бригаде было немало детворы, ходившей по рядам с корзинками, подбирая упавшие шишки. У торговки была худенькая бледная внучка по имени Роза, то и дело убегавшая со смуглой цыганской девочкой, рвать тайком осеннюю малину, роняя шишки хмеля; и тогда пение сборщиков перекрывал пронзительный голос торговки: «А ну-ка, Роза, лентяйка мелкая! Подбери шишки! Смотри, надеру тебе задницу!» И т. д., и т. п.
Примерно половину сборщиков составляли цыгане – в лагере их было не меньше двухсот. Остальные называли их дидикаями[64]. Люди они были неплохие, довольно дружелюбные и при всякой надобности бесстыдно льстили белым; однако их отличало лукавство, особое дикарское лукавство. Своими грубыми восточными физиономиями, выражавшими непробиваемую тупость в сочетании с немыслимой хитростью, они походили на диких, но выродившихся животных. Разговоры их ограничивались полудюжиной замечаний, которые они талдычили дни напролет, ничуть от этого не утомляясь. Две молодые цыганки, стоявшие у шестой корзины, десяток раз за день обращались к Нобби и Дороти с одной и той же загадкой:
– Чего не может самый умный англичанин?
– Не знаю. Чего?
– Почесать комару жопку каланчой.
За этим каждый раз следовали взрывы смеха. Их невежество поражало воображение – они с гордостью заявляли, что никто из них не может прочитать ни единого слова. А старый отец семейства, решивший невесть с чего, что Дороти «ученая», всерьез спросил ее, дойдет ли он со своим фургоном до Нью-Йорка.
В полдень гудок с фермы оповещал сборщиков о часовом перерыве, а незадолго перед этим приходил мерщик, собирать хмель. Бригадир выкрикивал: «‘Мель готовь, номер девятнадцать!», и все спешили подобрать упавшие на землю шишки, дорвать валявшиеся там и сям побеги и выбрать листву из корзины. Здесь требовалась сноровка. Не годилось выбирать листву «дочиста», ведь она добавляла вес. Опытные сборщики, такие как цыгане, мастерски определяли допустимый «уровень загрязнения».
Подходил мерщик с плетеной корзиной, вмещавшей бушель, вместе с «книжником», заносившим объемы в амбарную книгу. «Книжниками» были молодые люди из клерков, присяжных бухгалтеров и им подобных, халтурившие в свободное время. Мерщик набирал хмель бушель за бушелем, произнося нараспев: «Один! Два! Три! Четыре!», а сборщики записывали цифры в свои учетные книги. Каждый собранный бушель приносил им два пенса, и всякий раз возникали перебранки из-за пристрастного подсчета. Шишки хмеля упругие – можно при желании запихать их целый бушель в квартовую[65] емкость; так что сборщики, набрав корзину, встряхивали ее, чтобы шишки чуть раздались, а мерщик всякий раз приподнимал ее за край и снова уплотнял их. Иногда мерщикам велели «поприжать» хмель, и они набивали в свою корзину пару бушелей, под злобные восклицания: «Ишь, как трамбует, гад! Ты бы, млять, еще ногами утоптал» и т. п.; а опытные сборщики прибавляли ехидно, что помнят, как таких мерщиков напоследок окунали в коровий пруд. Из корзин хмель ссыпали в семифутовые мешки, теоретически вмещавшие сотню фунтов[66], но, когда мерщик «прижимал» хмель, требовалась пара человек, чтобы поднять такой мешок. На обед давали час, и сборщики разводили костры из стеблей хмеля (что запрещалось, но всеми нарушалось), кипятили чай и жевали хлеб с беконом. После обеда сборщики продолжали работу до пяти-шести вечера, когда снова приходил мерщик и забирал новую партию хмеля, и тогда все могли возвращаться в лагерь.







