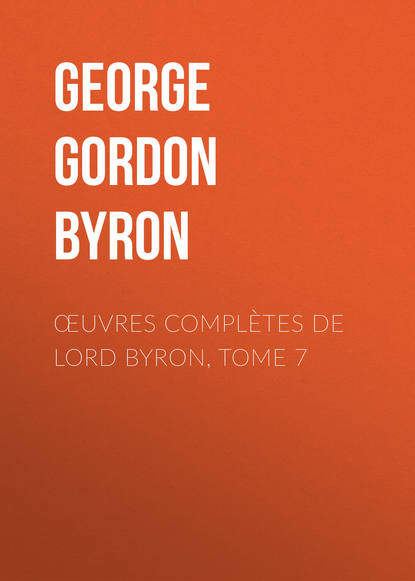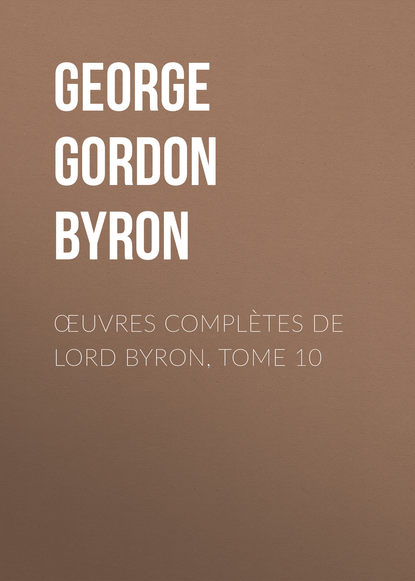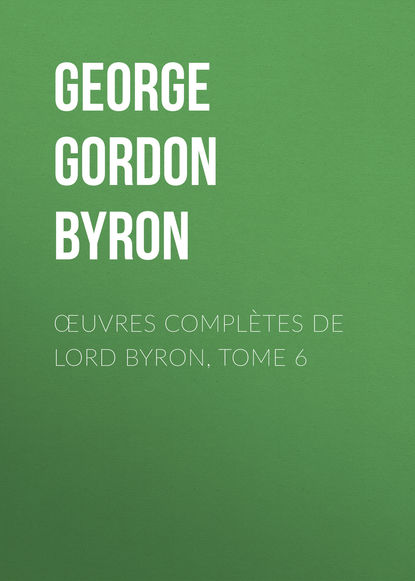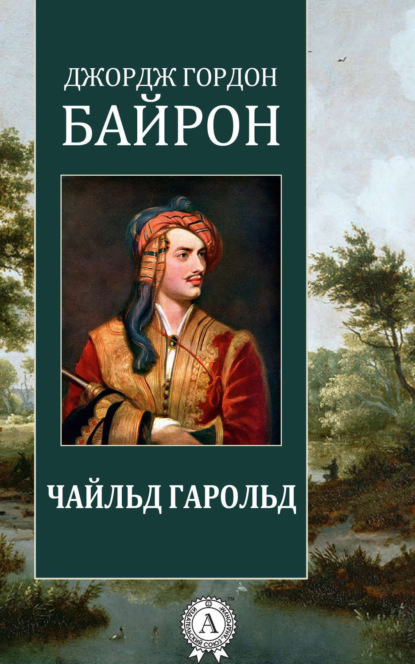
Полная версия:
Джордж Гордон Байрон Чайльд Гарольд
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

ДЖОРДЖ БАЙРОН
ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬД
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПЕСНЕ
«L'univers est une espèce ae livre, dont on n'а lu que la première page quand on n'а vu que son pays. J' en ai feuilleté un assez grand nombre, que j'ai trouve également mauvaises. Cet examen ne m'а point été infructueux. Je haïssais ma patrie. Toutes les impertinences des peuples divers, parmi lesquels j'ai vécu, m'ont réconcilié avec elle. Quand je n'aurais tiré d'autre bénéfice de mes voyages que celuilа, je n'en regretterais ni les frais ni les fatigues».
Le Cosmopolite.[1]Нижеследующая поэма была написана большею частью среди той природы, которую она пытается описать. Она начата была в Албании, а все относящееся к Испании и Португалии составлено по личным впечатлениям автора, вынесенным из пребывания его в этих странах – вот что следует установить относительно верности описаний. Пейзажи, которые автор пытается обрисовать, находятся в Испании, Португалии, Эпире, Акарнании[2] и Греции. На этом поэма пока останавливается: по приему, оказанному ей, автор решит, следует ли ему повести за собой читателей далее, в столицу Востока,[3] через Ионию и Фригию;[4] настоящие две песни написаны только в виде опыта.
Для того чтобы придать поэме некоторую связность, в ней изображен вымышленный герой – лицо, совершенно не претендующее, однако, на выдержанность и цельность. Мне сказали друзья, мнением которых я очень дорожу, что меня могут заподозрить в намерении изобразить в «Чайльд-Гарольде» определенное, существующее в действительности лицо; в виду этого, я считаю своим долгом раз навсегда опровергнуть такое предположение: Гарольд – дитя воображения, созданное указанной мною целью. Некоторые мелкие подробности, чисто местного характера, могут дать повод к такому предположению, но в целом я, надеюсь, не дал никакого основания для подобного сближения.
Считаю почти лишним указать на то, что название «Чайльд»[5] в именах «Чайльд-Ватерс», «Чайльд-Чильдерс» и т. д. я употребляю потому, что оно соответствует старинной форме стихосложения, избранной мною для поэмы. Песня «Прости» (Good Night) в начале первой песни, навеяна песней «Lord Maxwell's Good Night» в Border Minstrelsy, сборнике, изданном г. Скоттом.
В первой песне, где говорится об Испании, могут встретиться некоторые незначительные совпадения с различными стихами, написанными на испанские сюжеты, но совпадения эти только случайные, так как, за исключением нескольких заключительных строф, вся эта часть поэмы была написана на Востоке.
Спенсеровская строфа, как это доказывает творчество одного из наших наиболее чтимых поэтов, допускает самое разнообразное содержание. Д-р Беатти говорит по этому поводу следующее: – «Недавно я начал писать поэму в стиле Спенсера и его размером, и собираюсь дать в ней полную волю своим настроениям, быть или комичным или восторженным, переходить от спокойно описательного тона к чувствительному, от нежного к сатирическому – как вздумается, потому что, если я не ошибаюсь, избранный мною размер одинаково допускает все роды поэзии». Находя подтверждение себе у такого авторитетного судьи и имея за себя пример некоторых величайших итальянских поэтов, я не считаю нужным оправдываться в том, что ввел подобное же разнообразие в мою поэму; и если мои попытки не увенчались успехом, то в этом следует винить только неудачное выполнение замысла, а не строение поэмы, освященное примерами Ариосто, Томсона и Беатти.
Лондон, февраль 1812 года.
Дополнение к предисловиюЯ выждал, пока большинство наших периодических изданий посвятило мне обычное количество критических статей. Против справедливости большинства отзывов я не имею ничего возразить: мне было бы не к лицу спорить против легких осуждений, высказанных мне, потому что, в общем, ко мне отнеслись более доброжелательно, чем строго. Поэтому, выражая всем и каждому благодарность за снисходительность ко мне, я решаюсь сделать несколько замечаний только по одному пункту. Среди многих справедливых нападок на неудовлетворительность героя, «странствующего юного рыцаря» (я продолжаю настаивать, наперекор всем противоположным намекам, что это вымышленное лицо), указывалось на то, что помимо анахронизма, он еще к тому же совершенно не похож на рыцаря, так как времена рыцарства были временами любви, чести и т. д. Но дело в том, что доброе старое время, когда процветала «l'amour du bon vieux temps, l'amour antique», было самым разнузданным из всех веков. Те, кто в этом сомневаются, пусть прочитают Сент-Палэ (Sainte Palaye), passim, и в особенности том II-й.[6] Обеты рыцарства не более соблюдались тогда, чем всякие обеты вообще, а песни трубадуров были не более пристойны и во всяком случае гораздо менее изысканы по тону, чем песни Овидия. В так называемых «cours d'amour, parlemens d'amour ou de courtésie et de gentillesse» любви было больше, чем учтивости или деликатности. Это можно проверить по Роланду, также как и по Сент-Палэ. Можно делать какие угодно упреки очень непривлекательному Чайльд-Гарольду, но во всяком случае он был настоящим рыцарем по своим качествам – «не трактирный слуга, а рыцарь-тэмплиер». Кстати сказать, я боюсь, что сэр Тристан и сэр Ланселот были тоже не лучше, чем их современники, хотя они и очень поэтичны, и настоящие рыцари «без страха», хотя и не «без упрека». Если история об основании ордена подвязки не басня, то рыцари этого ордена носили в течение многих веков знак памяти о какой-нибудь графине Саллюсбюри, известность которой довольно сомнительна. Вот что можно сказать о рыцарстве. Бёрку нечего было жалеть о том, что рыцарские времена прошли, хотя Мария Антуанета была столь же целомудренна, как большинство тех, в чью честь ломались копья и сшибались с коней рыцари.
Еще до времен Баярда[7] и до поры сэра Иосифа Банкса (самого целомудренного и самого знаменитого рыцаря древних и новых времен) мало найдется исключений из этого общего правила, и я боюсь, что несколько более тщательное изучение того времени заставит нас не жалеть об этом чудовищном надувательстве средних веков.
Я предоставляю теперь «Чайльд-Гарольда» его судьбе таким, каков он есть. Было бы приятнее и, наверное, легче изобразить более привлекательное лицо. Нетрудно было бы затушевать его недостатки, заставить его больше действовать и меньше выражать свои мысли. Но он не был задуман, как образец совершенства; автор хотел только показать в его лице, что раннее извращение ума и нравственного чувства ведет к пресыщению минувшими удовольствиями и к разочарованию в новых, и что даже красоты природы и возбуждающее действие путешествий (за исключением честолюбия, самого сильного стимула) не оказывают благотворного действия на такого рода душу, – или вернее на ум, направленный по ложному пути. Если бы я продолжил поэму, то личность героя, приближаясь к заключению, была бы углублена, потому что, по моему замыслу, он должен был бы, за некоторыми исключениями, стать современным Тимоном или, быть может, опоэтизированным Зелуко.[8]
К ИАНТЕ[9]
Средь дальних странствий взор мой привлекалиКрасавиц чуждых дивные черты,И в легком сне ко мне порой слеталиВоздушные создания мечты:Всех прелестью живой затмила ты.Не рассказать мне слабыми устамиО нежных чарах юной красоты.Ты у одних – сама перед глазами,Других лишь обману я бледными строками.Когда б всегда осталась ты такой.Сдержав весны цветущей обещанье!Прекрасная и телом и душой, —Ты на земле самой любви мерцанье,Невинная, как юное мечтанье…Для той, что нежный рост твой сторожит,Ты – словно чистой радуги сиянье…Та радуга ей счастие сулит,Пред красками ее далеко скорбь бежит.О, пери Запада! Доволен я судьбою:Ты молода, мне ж вдвое больше лет.Бестрепетно любуюсь я тобою,Иной любви огня во взорах нет.Я не увижу, как завянет цветТвоей красы. Не стану я склонятьсяСредь жертв твоих бесчисленных побед.Не будет сердце кровью обливаться.Ведь без страдания часы любви не длятся…Как взгляд газели – взгляд твоих очей,То робок он, то смелостью сверкает;То манит он к себе сердца людей,То красотой глаза их ослепляет.Пускай же он по строкам тем блуждает,Пускай улыбка, прелести полна,В нем промелькнет… Пусть сердце не узнает,Зачем тебе та песнь посвящена,Но лилия в венок мой будет вплетена.Что имя Ианты труд мой вдохновлялоЧитатели Гарольда моегоВсе будут знать: оно стоит сначала,Его в конце забыть трудней всего…Разбитой лиры друга своего,Чья песнь теперь восторгом пламенеет,Потом коснись, – и больше ничегоМоя надежда ожидать не смеет.Ужели дружба прав на это не имеет?…ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
I.В Элладе ты слыла неборожденной,О муза, дочь певцов! Так много лирС тех пор терзало слух твой утомленный,Что не дерзну я твой нарушить мир…Хоть видел я твой храм – обломки зданья[10]И твой ручей, что прерывал одинЗабытых мест глубокое молчанье,Чтоб скромное вести повествованье,Покой усталых муз тревожить нет причин.II.Жил юноша в Британии когда-то,Который добродетель мало чтил;Он дни свои влачил в сетях развратаИ ночи за пирами проводил;Увы, разгул был для него кумиром;Лишь пред пороком он склонялся ницИ, презирая то, что чтится миром,Доволен был лишь оргией иль пиром,В кругу развратников и в обществе блудниц.III.Пред вами Чайльд-Гарольд.[11] Я не намеренПоведать вам, откуда вел он род;Но этот род был знатен, чести веренИ заслужил в былые дни почет;Но всякое преступное деяньеПотомка загрязняет предков честьИ обелить его не в состояньиНи летописца древнее сказанье,Ни речь оратора, ни песнопевца лесть.IV.Кружился в свете он, как на простореКружится мотылек среди лучей;Не мог предвидеть он, что злое гореЕго сразит нежданно в цвете дней;Но вот година тяжкая настала:Узнал он пресыщенье, а оно,Как чаша бед, приносит мук не мало.В краю родном Гарольду тесно стало;Так в келье схимнику и душно, и темно.V.Грехов не искупая, он стезеюПреступной шел. Красивых славя жен,Гарольд был очарован лишь одною,[12]Но с ней, увы! не мог сойтися он…Как счастливо, что ласкою развратаНе запятнал он светлый свой кумир:Измена за любовь была бы платой.Жену б он разорил безумством тратыИ вынесть бы не мог семейной жизни мир.VI.Пресыщен всем, утратив счастья грезы,Он видеться с друзьями перестал;В его глазах порой сверкали слезы,Но гордый Чайльд им воли не давал.Объят тоской, бродил он одиноко,И вот решился он свой край роднойПокинуть, направляясь в путь далекий;Он радостно удар бы встретил рокаИ скрылся б даже в ад, ища среды иной.VII.Покинул Чайльд-Гарольд свой замок старый;Под гнетом лет, казалось, рухнет он,Его ж щадили времени удары:Держался он массивностью колонн.Там некогда монахи обитали,[13]Теперь же суеверия приютТеатром стал пафосских сатурналий;Могли б подумать старцы, что насталиИх времена опять, коль хроники не лгут.VIII.Порою, словно тайну вспоминая,Измену иль погибшую любовь,За пиршеством, немую скорбь скрывая,Сидел Гарольд, сурово хмуря бровь;Но тайной оставалася тревогаЕго души; друзьям он не вверялЗаветных дум и шел своей дорогой,Советов не прося; страдал он много,Но в утешениях отрады не искал.IX.Хоть он гостей сзывал к себе не малоНа пиршества, все ж не имел друзей;[14]Льстецов и паразитов окружалаЕго толпа; но можно ль верить ей?Его любили женщины, как мота:Сокровища и власть пленяют жен(При золоте метка стрела Эрота);Так рвутся к свету бабочки; оплотаТам ангел не найдет, где победит Мамон.X.Гарольд не обнял мать, пускаясь в море,С любимою сестрой в отъезда часНе виделся;[15] души скрывая горе,Уехал он, с друзьями не простясь;Не потому он избегал свиданья,Что был и тверд, и холоден, как сталь,Нет! Кто любил, тот знает, что прощаньяУсугубляют муку расставанья…Лишь горестней нестись с разбитым сердцем в даль.XI.Богатые владенья, замок старыйПокинул он без вздохов и без мук,Голубооких дам, которых чары,Краса кудрей и белоснежных рукМогли б легко отшельника святогоВвести в соблазн, – все то, что пищу датьПорывам сладострастия готово…Ему хотелось мир увидеть новыйИ, посетив Восток, экватор миновать.[16]XII.Надулись паруса; как будто вторяЕго желаньям, ветер резче стал;Поплыл корабль, и скоро в пене моряБесследно скрылся ряд прибрежных скал.Тогда в душе Гарольда сожаленьеПроснулось, может быть; но ничегоОн не сказал и скрыл свое волненье,Он твердым оставался в то мгновенье,Как малодушный плач звучал вокруг него.XIII.В вечерний час, любуяся закатом,Он арфу взял; под бременем тревогЛюбил он волю дать мечтам крылатым,Когда никто внимать ему не мог;И вот до струн коснувшися рукою,Прощальную он песню затянул,В то время, как корабль, в борьбе с волною,Катился в даль, и, одеваясь тьмою,Его родимый край в пучине вод тонул.ПРОЩАНИЕ ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА
1.Прости! Родимый берег мойВ лазури тонет волн;Бушует ветр, ревет прибой;Крик чайки грусти полн.В пучине солнце гасит свет;За ним нам вслед идти;Обоим вам я шлю привет!Мой край родной, прости!2.Нас ослепит зари краса,Лишь мир простится с тьмой;Увижу море, небеса,Но где ж мой край родной?Мой замок пуст; потух очаг;Весь двор травой зарос;Уныло воет в воротахПокинутый мной пес…3.– Малютка паж![17] под гнетом думТы плачешь, горя полн;Тебя страшит ли ветра шум,Иль грозный ропот волн?Не плачь! Корабль надежен мой…Он быстро мчится в даль,За ним и сокол наш лихойУгонится едва ль.4.«Пускай бушует шквал, ревя, —Я бури не боюсь!Но не дивись, сэр Чайльд, что яИ плачу и томлюсь.С отцом и с матерью роднойРасстаться ль без тревог?Моей опорою однойОстались ты да Бог!5.Благословил отец меня,Но слезы мог сдержать;Пока ж не возвращуся я,Все будет плакать мать».– Пусть скорбь мрачит твои черты.Дитя! когда б я былДушой невинной чист, как ты,И я бы слезы лил.6.Ты бледен, верный мой слуга,[18]Тебя печаль гнетет…Боишься ль встретить ты врага,Боишься ль непогод?– «О, нет, я с страхом незнаком,Он чужд душе моей;Но жаль жены; покинув дом,Я все скорблю о ней.7.Она близ замка твоегоЖивет; что ей сказать,Коль дети спросят, отчегоС отцом в разлуке мать?»– Ты прав; понятна скорбь твоя,Мне ж ничего не жаль…Не так душою нежен яИ мчусь со смехом в даль.8.Коварным вздохам лживых женВозможно ль верить? Нет!Измена, что для них закон,Их слез смывает след.Я не тужу о дне быломИ не страшуся гроз.Больней всего, что ни о чемНе стоит лить мне слез.[19]9.Я одинок; средь волн морскихКорабль меня несет;Зачем мне плакать о других:Кто ж обо мне вздохнет?Мой пес, быть может, два, три дняПовоет, да и тот,Другим накормленный, меняУкусит у ворот.[20]10.Корабль! валы кругом шумят…Несися с быстротой!Стране я всякой буду рад,Лишь не стране родной.Привет лазурным шлю волнам!И вам, в конце пути,Пещерам мрачным и скалам!Мой край родной, прости!XIV.Средь бурных волн Бискайского заливаПлывет корабль; уж пятый день землиНе видно; наконец, вот миг счастливый:Желанный берег светится вдали.Здесь Цинтрских гор блестит хребет зубчатый;[21]Там океану Того дань несет;[22]Явился местный лоцман провожатыйИ Чайльд-Гарольд поплыл к стране богатой,Где нивы тучные дают обильный плод.XV.О Боже! благодатными дарамиТы этот край волшебный наделил!В садах деревья гнутся под плодами,В его горах Ты мир сокровищ скрыл;Но разрушать то супостаты рады,Что создал Ты: страну надменный врагПоработил, не ведая пощады…Брось на врага карающие взгляды,И побежденный галл повергнут будет в прах.XVI.Своей неописуемой красоюВас Лиссабон всегда пленить готов,Волшебно отражаемый рекою,Что чар полна и без прикрас певцов.Могучий флот по ней несется ныне:Пришел спасти от галлов АльбионТех мест незащищенные твердыни;Но лузитанец дик и полн гордыни,[23] —Ту длань, что держит меч, с проклятьем лижет он.XVII.Прелестный город, кажущийся раемИздалека, вблизи совсем иной;Войти в него – и он неузнаваем;Средь стен его турист объят тоской.И хаты, и дворцы, все без изъятья,Купаются в грязи; их вид убог.В лохмотьях и вельмож, и нищих платье;О чистоте так смутны их понятья,Что с ней и страх чумы сроднить бы их не мог.XVIII.Кто не жалел, любуясь этим краем,Что он принадлежит толпе рабов!На Цинтру бросьте взоры; всякий с раем[24]Тот светлый уголок сравнить готов;Везде в нем дышит прелесть неземнаяНо ни перу, ни кисти средства нетПонятья дать о нем; страна такаяСобою затмевает кущи рая,Что в пламенных стихах нам описал поэт.XIX.Крутой утес с красивым рядом келий;Сожженный солнцем мох на скатах круч;Лес, выросший над бездной; мрак ущелий,Куда не проникает солнца луч;Лимонов золотистые отливы;Лазурь морской волны, что сладко спит;Несущийся с горы поток бурливый;Здесь виноград, там возле речки ивы, —Все это тешит взор, сливаясь в чудный вид.XX.Тропинкою взберитесь до вершиныКрутой горы, где иноки живут;Что шаг вперед – то новые картины…А вот и монастырь;[25] вас поведутОсматривать его; монахи с веройПри том легенд вам много сообщат:Здесь смерть нашли за ересь лицемеры,А там Гонорий жил на дне пещеры.[26]Он, чтоб увидеть рай, из жизни сделал ад.XXI.Средь этих мест встречается не малоТаинственных крестов,[27] – их целый ряд;Но те кресты не вера воздвигала:Они лишь об убийствах говорят.Обычай здесь на месте преступленья,Там, где звучал последний жертвы стон,Досчатый ставит крест; не исключеньяУбийства там, где, потеряв значенье,Не в силах граждан жизнь оберегать закон.[28]XXII.По горам и долам здесь красовалисьЧертоги королей, но дни чредойПрошли, и что ж? – руины лишь остались,Заросшия кустами и травой.Вот пышный замок принца. Здесь когда-тоИ ты, Ватек, любивший роскошь бритт,[29]Дворец построив, зажил в нем богато…Но ты забыл, что от утех развратаИ сладострастья чар душевный мир бежит.XXIII.Ты выбрал, чтоб предаться светлым чарамЗемных утех, тот чудный уголок,Но, пораженный времени ударом,Теперь, как те, твой замок одинок.Его порталы настежь; пусты залы;От зарослей к дворцу проезда нет.О, Боже, как ничтожны мы и малы!Придет пора: дворца как не бывало,Проносятся года, его сметая след…XXIV.А вот дворец, который с гневным взглядомВстречает бритт. Когда-то в замке томСбиралися вожди; рожденный адом,Сидел там карлик-черт; одет шутом,Пергаментною мантией покрытый,В руке держал он свиток. ИменаТам значились, что в свете знамениты;Гордяся свитком тем, с враждой открытойНад победителем смеялся сатана.[30]XXV.Конвенцией он звался. Перед светомТам собранных вождей он осрамил,Смутил их ум (но грешен ли он в этом?)И радость бритта в горе превратил.Победный лавр попрали дипломаты;Тот чудный лавр, увы! носить не намС тех пор, как в Лузитании богатойУзнали мы, врагов коварством смяты,Что победителям, не побежденным, срам.XXVI.При имени твоем бледнеют бритты,О, замок Цинтры! Краскою стыдаЗарделись бы правителей ланиты,Умей они краснеть. Пройдут годаИ все ж потомство, полное презренья,Позора не забудет тех вождей,Что, победив, узнали пораженье…Их ожидают в будущем глумленьяИ гневный приговор суда грядущих дней.[31]XXVII.Так думал Чайльд, один бродя по горам;Хоть местностью был очарован он,Но все же об отъезде думал скором:Так век порхать для ласточки закон.Тяжелых дум он здесь изведал многоИ пожалел, немой тоской объят,Что долго шел греховною дорогой;К проступкам он своим отнесся строго:От света истины померк Гарольда взгляд.XXVIII.Верхом! верхом![32] – он крикнул и поспешноПрелестной той страны покинул кров;Но он уж не влеком мечтою грешной:Не ищет ни любовниц, ни пиров…Несется он таинственной дорогой,Не ведая, где пристань обретет;Он по свету скитаться будет много;Не скоро в нем уляжется тревога,Не скоро с опытом знакомство он сведет.XXIX.Вот Мафра, где, судьбы узнав измену,Царица Лузитании жила;[33]Там оргии обедням шли на сменуИ дружбу знать с монахами вела.Блудницы Вавилона светлый генийСумел такой воздвигнуть здесь чертог,Что ряд ей совершенных преступленийЗабыт толпою; люди гнут колениПред блеском роскоши, что золотит порок.XXX.Гарольд вперед несется, очарованКрасой холмов, ущелий и долин…Не горестно ль, что цепью рабства скованТот светлый край? Лишь сибарит один,Поклонник ярый комфорта и лени,Не знает, как отраден дальний путь.Не мало нам дарит он наслаждений,Глубоких дум и новых впечатлений;Как свежий воздух гор живит больную грудь.XXXI.Уж Чайльд-Гарольд вершин не видит снежныхВысоких гор, что скрылись без следа,В Испании среди степей безбрежныхОвец пасутся ценные стада;Но близок враг; ему чужда пощадаИ потому пастух вооружен;В обиду своего не даст он стада;Всем гражданам с врагом бороться надо,Чтоб гордо властвовать не мог над ними он.XXXII.Что земли лузитанцев разделяетС Испанией? Китайская ль стена?Сиерра ли там скалы возвышает,Иль льется Того светлая волна?Разделены те страны не стеною,Что их вражде могла платить бы дань,Не быстро протекающей рекою,Не цепью гор высоких, сходной с тою,Что южной Галлии указывает грань.XXXIII.Нет, ручейком ничтожнейшим;[34] со стадомЯвляется пастух порою там,Презрительным окидывая взглядомМеста, принадлежащие врагам.Простолюдины горды как вельможиВ Испании: понятна их вражда;Ведь с ними лузитанцы мало схожи:Они – рабы, при этом трусы тоже;Рабов подлее их найти не без труда.XXXIV.Воспетая в балладах, Гвадиана,[35]Пугая взоры мрачною волной,Близ этих мест течет. Два вражьих стана,Когда-то здесь сойдясь, вступили в бой.Здесь рыцари, чтоб счет окончить старый,Настигли мавров. Долго бой кипел;Удары наносились за удары;Чалма и шлем, во время схватки ярой,Встречалися в реке, где плыли груды тел.XXXV.О край, стяжавший подвигами славу!Где знамя, что Пелаг в боях носил,[36]Когда отец-изменник, мстя за Каву,В союзе с мавром, готам смерть сулил?Ты за погром сумел отмстить жестоко…Близ стен Гренады враг был побежден;Померкла пред крестом луна пророка;Умчался враг, и в Африке далекойСтал мавританских дев звучать унылый стон.XXXVI.Тем подвигом все песни края полны;[37]Таков удел деяний прежних лет;Когда гранит и летопись безмолвны,Простая песнь их сохраняет след.Герой, склонись пред силой песнопенья!Ни лесть толпы, ни пышный мавзолейТебя спасти не могут от забвенья;Порой историк вводит в заблужденье,Но песнь народная звучит в сердцах людей.XXXVII.«Испанцы, пробудитесь!» Так взываютК вам рыцари, кумиры дней былых;Хоть копья в их руках уж не сверкаютИ красных перьев нет на шлемах их,В дыму, под рев орудий непрерывный,Их грозный зов звучит: «Вооружась,Воспряньте все!» – исполнен силы дивной,Ужель утратил власть тот клич призывный,Что в Андалузии сроднил с победой вас?XXXVIII.Чу! конский топот слышен средь проклятий;Кого окровавленный меч настиг?Ужель спасать вы не пойдете братийОт деспотов и от клевретов их?Грохочут пушки; залпов их раскатыЗловеще эхом гор повторены,Они твердят о том, что смертью взятыРяды бойцов. Все ужасом объяты,Когда является во гневе бог войны.[38]XXXIX.Кровавыми сверкая волосами,С горы на бойню смотрит исполин;Он все сжигает гневными очамиИ в царстве смерти властвует один.С ним рядом разрушенья дух лукавый,Что чествовать победы будет зла.Сегодня три могучие державыСойдутся здесь и вступят в бой кровавый;Как счастлив исполин, – ему лишь кровь мила!XL.Когда средь войск ни друга нет, ни брата,Вас может восхитить сраженья вид;Как рати разукрашены богато!Как весело оружие блестит!Подобно стае псов, что травле рада,Несется войско бешено вперед;Но будет ли для многих лавр наградой?Храбрейшие погибнут в пекле ада:Бог брани, с радости, всех павших не сочтет.XLI.Три армии стеклись сюда для битвы;Внушителен знамен трех наций вид!Звучат на трех наречиях молитвы.Сюда сошлись: испанец, галл и бритт,Союзник-друг, услужливый без меры(Не лучше ли в своей отчизне пасть?).Войска, являя храбрости примеры,Удобрят только нивы ТалаверыИ хищных воронов накормят кровью всласть.[39]XLII.Здесь павшие сгниют; гнались за славойБезумцы, что искали громких дел;Они ж служили деспоту забавой.Он пролагал свой путь чрез груды тел.Какой же был тот путь? – лишь путь обмана.Найдется ли на свете уголок,Что был бы принадлежностью тирана?Его лишь склеп, где, поздно или рано,Предастся тленью он, забыт и одинок.XLIII.О, Албуэра! славу и кручинуТы сочетала. Мог ли мой геройПредвидеть, чрез твою несясь равнину,Что скоро в ней кровавый грянет бой?Пусть павшие вкушают мир забвенья!Победный лавр пусть радует живых!Великий день! До нового сраженьяТолпы ты будешь слышать прославленьяИ воспоет тебя поэт в стихах своих…[40]XLIV.Довольно воспевать любимцев брани;Победный лавр их не продолжит дней;Чтоб мир узнал о славе их деяний,Должны погибнуть тысячи людей.Пускай наемщик гонится за славойИ, веря ей, кончает жизнь в бою:Он дома мог бы в свалке пасть кровавойИль, очернен разбойничьей расправой,Тем опозорить бы отчизну мог свою!XLV.Гарольд затем направил путь к Севилье;[41]Она еще свободна от цепей,Но ей грозят погибель и насилье,И не спастись от разрушенья ей:Враги уж в расстояньи недалеком…Не пали бы ни Илион, ни Тир,Когда б бороться можно было с рокомИ, злобно издеваясь над пороком,Пред Добродетелью склонялся б грешный мир.XLVI.Но граждане Севильи, бед не чуя,[42]По-прежнему разгулу преданыИ дни проводят, радостно ликуя;Им дела нет до язв родной страны!Звучит не бранный рог, а звон гитары;[43]Веселию воздвигнут здесь алтарь;Грехи любви, что не боятся кары,Ночной разврат и сладострастья чарыВ Севилье гибнущей все царствуют, как встарь.XLVII.Не так живет крестьянин; он с женоюСкрывается, боясь взглянуть на дол,Что может быть опустошен войною…Прошла пора, когда он бодро шелВ вечерний час домой, покинув нивы,И танцевал фанданго при луне.Властители! когда б тот мир счастливый,Что вы губить не прочь, вкусить могли вы,Народ бы ликовал, не слыша о войне.XLVIII.Лихой погонщик, мчась дорогой ровной,Поет ли песнь возлюбленной своей,Кантату ль в честь любви, иль гимн духовный?Нет, он теперь поет Viva el Rey![44]Воинственны слова его напева,Годоя[45] он клянет за лживый нрав;При этом вспоминает, полный гнева,Что вверилась Годою королева,Преступную любовь изменой увенчав…XLIX.Равнина, окаймленная скалами,[46]Где башни мавританские видны,Была недавно попрана врагами:Сроднились с ней все ужасы войны…Здесь ядер след; там луг, конями смятый;А вот гнездо дракона; у врагаТолпой крестьян те скалы были взяты,С тех пор они для всех испанцев святы:Над неприятелем победа дорога.L.Кого не встретишь здесь с кокардой красной?[47]Она убор отчизны верных слуг;Взглянувши на нее, испанцу ясно,Что перед ним не злобный враг, а друг;Беда пренебрегать ее защитой, —Кинжал остер, удар неотразим!Давно б враги уж были перебиты,Когда бы мог кинжал, под платьем скрытый,Зазубрить вражий меч иль скрыть орудий дым.LI.На выступах высоких скал МореныОрудья смертоносные блестят;Здесь новых укреплений видны стены,А там ряды зловещих палисад;Все войско под ружьем; спустив запруду,Глубокий ров наполнили водой;Ждут приступа; глядя на ядер груду,[48]На часовых, расставленных повсюду,Не трудно отгадать, что скоро грянет бой.LII.Властитель, расшатавший в мире троны,Еще не подал знака; медлит он,Но скоро в ход он пустит легионы,Что ни преград не знают, ни препон;Вести борьбу напрасны все усильяС бичом судьбы. Испанцы! близок час,Когда над вами гальский коршун крыльяПобедно развернет, суля насильяИ целым сонмищем сродняя с смертью вас!LIII.Ужель должны отвага, юность, силаПогибнуть, чтобы славой громких делГордиться мог тиран?[49] Ужель могилаИль рабства гнет Испании удел?Ужель напрасны вопли и моленья?Ужель спасти Испанию от бедНе могут ни героя увлеченья,Ни юности отважные стремленья,Ни патриота пыл, ни мудрости совет?LIV.Испанки позабыли звон гитары;Вступив в ряды солдат, лишь гимн войнеОни поют. Как метки их удары!Разя врагов, летят вперед они…Вид легкой раны, крик совы, бывало,Их приводили в дрожь; теперь ни меч,Ни острый штык их не страшат нимало;Там, где бы даже Марсу страшно стало,Они Минервами идут средь грома сеч…LV.Когда б вы Сарогоссы деву зналиВ то время как светило счастье ей,Когда б ее глаза черней вуалиВы видели и шелк ее кудрей,Когда б ваш слух ее ласкали речи, —Вы не могли б поверить, что с враждойОна искать с войсками будет встречиИ с ними, не страшась опасной сечи,Близ сарогосских стен в кровавый вступит бой.LVI.Ее любовник пал, – она не плачет;[50]Пал вождь, – она становится вождем…Удерживает трусов; храбро скачетПред войском, чтобы с дрогнувшим врагомПокончить; отомстить она сумеетЗа друга и за павшего вождя;Она бойцов лучом надежды греет;Пред нею галл трепещет и бледнеет,Средь стен разрушенных оплота не найдя.LVII.Не потому отважна так испанка,Что амазонки в ней струится кровь, —О, нет, ее услада и приманка —Исполненная страстности любовь.Она разит врагов, но так злодеюЗа гибель голубка голубка мстит.Жен стран иных сравнить возможно ль с нею?Им не затмить ее красой своею,Она же доблестью и силой их затмит.LVIII.Амур оставил след перстов небрежныхНа ямках щек испанки молодой,[51]Ее уста – гнездо лобзаний нежных,Что может в дар лишь получить герой…Ее глаза душевным пышат жаром;Ей солнца луч не враг: еще нежнейЕе лицо, одетое загаром;Кто грань найдет ее всесильным чарам?Как дева севера бледнеет перед ней![52]LIX.В стране, что бард уподобляет раю,Где властвует гарем, в своих стихахЯ красоту испанок прославляю(Пред ней и циник должен пасть во прах).Здесь гурии скрываются от света,Чтоб их амур не мог увлечь с собой,А первообраз рая Магомета —Испания – ужель не верно это?Там гурий неземных витает светлый рой.LX.Парнас! я на тебя бросаю взоры;[53]Передо мной в величьи диком ты…На снежные твои гляжу я горы;Они – не греза сна иль плод мечты;Понятно, что в объятьях вдохновеньяЯ песнь пою. В присутствии твоемСкромнейший бард строчит стихотворенье,Хоть муза ни одна, под звуки пенья,На высотах твоих не шелохнет крылом…LXI.Не раз к тебе моя мечта летела;[54]Как жалок тот, кто не любил тебя!И вот к тебе я подхожу несмело,О немощи моих стихов скорбя…Дрожу я и невольно гну колени,Поэтов вспоминая прежних дней;Не посвящу тебе я песнопений, —Доволен я и тем, что в упоеньиКороною из туч любуюся твоей.LXII.Счастливей многих бардов, что в ЭлладуМогли переселяться лишь мечтой,Я, не скрывая тайную отраду,Волненья полн, стою перед тобой.Приюта Феб здесь больше не находит.Жилище муз могилой стало их,А все с священных мест очей не сводитКакой-то дух и средь развалин бродит,С волной и ветерком шепчась о днях былых.LXIII.Пока прости! Я прервал нить поэмыИ позабыл, чтоб чествовать тебя,Сынов и жен Испании. Их все мыГлубоко чтим, свободы свет любя.Я плакал здесь. Свое повествованьеЯ буду продолжать, но разрешиЛисток от древа Дафны на прощаньеСорвать певцу!.. Поверь, что то желаньеДоказывает пыл, не суетность души.LXIV.В дни юности Эллады, холм священный,Когда звучал пифический напевДельфийской жрицы, свыше вдохновенной,Ты не видал таких красивых дев,Как те, что в Андалузии тревогойЖеланий жгучих нежно взрощены.Как жаль, что не проходит их дорогаСредь мирных кущ, которых здесь так много,Хоть с Грецией давно простились славы сны.LXV.Своим богатством, древностью и силой[55]Горда Севилья, полная утех,Но Кадикс[56] привлекательнее милый,Хоть воспевать порочный город грех.Порок! в тебе живая дышит сладость;Как весело идти с тобой вдвоем;Соблазнами ты привлекаешь младость,Даря и упоение, и радость…Ты гидра мрачная, но с ангельским лицом…LXVI.Когда Сатурн, которому подвластнаСама Венера, стер с лица землиБез сожаленья Пафос сладострастный, —В страну тепла утехи перешлиИ ветреной, изменчивой богиниПеренесен был в Кадикс светлый храм(Венера лишь верна морской пучине,Ее создавшей). В Кадиксе донынеПред ней и день, и ночь курится фимиам.LXVII.С утра до ночи, с ночи до рассветаЗдесь льется песнь; цветами убранаТолпа, любовью к пиршествам согрета,Веселью и забавам предана.Зов мудрости считают там напастью,Где нет конца разгулу и пирам,Где истинная вера в споре с властью;Молитва здесь всегда в союзе с страстьюИ к небу лишь летит монахов фимиам.LXVIII.Вот день воскресный. День отдохновеньяКак христианский чествует народ?На праздник он стремится, полн волненья…Вы слышите ль, как царь лесов ревет?Израненный, врагов смущая карой,Он смерть коням и всадникам сулит;Нещадные наносит он удары;Ликуют все, любуясь схваткой ярой,И взоры нежных дам кровавый тешит вид.LXIX.День отдыха, последний день седмицы,[57]Что посвящен мольбе, как Лондон чтит?Принарядясь, покинуть шум столицыИ духоту ее народ спешит.Несутся света сливки и подонкиВ Гамстэд, Брентфорд иль Геро. УстаетИная кляча так от этой гонки,Что, сил лишася, стать должна к сторонке;Ее догнав, над ней глумится пешеход.LXX.Снуют по Темзе, пышно разодеты,Красавицы; иным шоссе милей,А тех влечет к себе гора Гай-Гэта,Ричмонд и Вер. О Фивы прежних дней!Зачем здесь жен и юношей так много?[58]На тот вопрос ответить мне пора:Всем исстари известною дорогойИдет народ, спеша на праздник Рога,[59]Где после выпивки танцуют до утра.LXXI.Все предаются странностям невольно,Но Кадикса не перечесть причуд;Лишь утром звон раздастся колокольный,Все в руки четки набожно берутИ к Деве Непорочной шлют моленья(Во всей стране и не найти другой),Прося грехов бессчетных отпущенья…Затем все рвутся в цирк, где в упоеньиИ бедный, и богач глядят на смертный бой.LXXII.Пуста еще арена, а как много[60]Здесь всяких лиц! Все здание полно;Призывного еще не слышно рога,Меж тем уж мест свободных нет давно…Все гранды тут; наносят раны взглядыКрасивых дам; но так добры они,Что жертв им жаль; они помочь им рады,На холод донн, не знающих пощады,Поэтов жалобы бессмысленны вполне.LXXIII.Но вот умолкло все. В плюмажах белыхОтряд въезжает всадников лихих;Они готовы к ряду схваток смелых;Гремят их шпоры, блещут копья ихИ шарфы развеваются. СобраньеПоклоном встретив, мчат они коней…Их ждут, когда удастся состязанье,Улыбки дам, толпы рукоплесканья…Не так ли чествуют героев и вождей?LXXIV.В блестящем платье, в мантии наряднойСтоит средь круга ловкий матадор;Ему вступить в борьбу с врагом отрадно,Но он пред тем вокруг бросает взор:Спасенья нет, коль встретится преграда!Лишь дротиком одним вооружась,Он издали с царем сразится стада;Ведь пешему остерегаться надо…В бою как часто конь от бед спасает нас.LXXV.Вот подан знак; уж трижды протрубилаСигнальная труба, разверзлась дверь;Все смолкло и, кнутом ударен с силой,Ворвался в цирк дышащий злобой зверь…Его глаза, что кровию налиты,