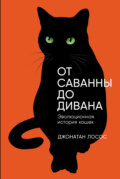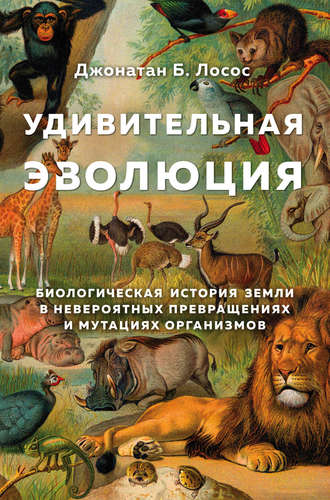
Джонатан Б. Лосос
Удивительная эволюция. Биологическая история Земли в невероятных превращениях и мутациях организмов
Часть первая
Природные двойники
Глава первая
Эволюционное дежавю
Представьте себе кита, плывущего в океане: обтекаемое туловище, хвостовой плавник, маленький плавник на спине, хвост волнообразно двигается вверх и вниз. Наблюдая за этой безмятежной картиной, кто обвинит древних греков в том, что они считали кита рыбой? Данная точка зрения существовала тысячелетия, пока двести пятьдесят лет назад Карл Линней не выправил ситуацию, признав левиафанов млекопитающими на основании того, что они производят на свет живого детеныша, имеют молочные железы и другие признаки[10]. Греки были обмануты конвергентной эволюцией.
Мы прошли долгий путь со времен долиннейских ученых. Нам, несомненно, известно гораздо больше об эволюции, чем было известно им. И наше углубленное знание анатомии и взаимосвязей видов помогло определить бесчисленные случаи конвергентной эволюции. Тем не менее наш список далеко не полный. По мере поступления новых данных молекулярной биологии мы снова и снова обнаруживаем, что были введены в заблуждение, так же как и греки, и что виды, которые мы считали похожими из-за принадлежности общему предку, на самом деле выработали схожие признаки независимо друг от друга.
Позвольте привести два недавних примера. По некоторым оценкам, морские змеи относятся к числу смертельно опасных животных. Яд отдельных их видов такой же смертельный, как у любой змеи. К счастью, большинство морских змей редко кусают человека, даже если их взять в руки. Но совсем иная ситуация с носатой энгидриной, которая будет свирепо защищаться: именно она ответственна за девяносто процентов случаев со смертельным исходом во всем мире. Названная так за особый кончик на морде, который выступает над нижней челюстью, она может быть широко распространена географически – от Арабского залива до Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии, а также Австралии и Новой Гвинеи. Это один из самых широко распространенных в мире видов змей.
По крайней мере, так считалось. В 2013 году команда шриланкийских[15], индонезийских и австралийских ученых сообщила, что они провели штатные генетические сравнения среди популяций данного вида и получили неожиданный результат. Даже несмотря на то, что популяции демонстрировали лишь малые анатомические внутривидовые различия, генетически они были максимально различными. В частности австралийские популяции носатой энгидрины были схожи с другим австралийским видом энгидрины, а не с азиатскими популяциями данного вида. Точно так же азиатские популяции носатой энгидрины входили в наиболее тесную связь с другими азиатскими видами. Иными словами, существует не один вид носатой энгидрины, а два. И признаки, которые определяют данный вид, – не только его нос, окрас и общий внешний облик, но и скверный нрав – эволюционировали конвергентно, причем настолько сильно, что его дальние родственники, обитающие на противоположных берегах Индийского океана, считались представителями того же самого вида.
А теперь пример более знакомый для тех, кто никогда не видел морскую змею. Юношей я был чист душой и телом и довольно поздно познал радости алкоголя и распутства.
Однажды я был в гостях у своей подруги. Она предложила мне чаю. Я не любил чай, но хотел показаться светским юношей, и согласился. Вскоре я почувствовал себя странно. Мое тело покалывало, руки дрожали, сердце бешено стучало в груди. Я подумал, что у меня случился сердечный приступ. Но потом сделал логичный вывод, что я еще слишком молод, да к тому же инфаркт не мог сопровождаться таким всплеском энергии. Я уже не помню, насколько невозмутимо мне удалось выведать причину моего состояния у хозяйки, но наверняка я сделал вежливое признание, что чувствую себя слегка необычно. И она быстро объяснила, что я выпил особенно бодрящий сорт чая – нечто, сравнимое с теперешним напитком «Ред Булл». Теперь, будучи уже взрослым человеком, я начинаю свое утро с чашечки яванского кофе, но стараюсь не пить его после четырех часов дня. Если я выпью его позже, то не буду спать всю ночь.
Возможно, у вас по-другому, но меня жизнь постоянно заставляет повторять одни и те же ошибки. И точно так же я мучился однажды ночью в бразильском Пантанале, крутясь и ворочаясь в своей постели, не в силах уснуть, несмотря на тяжелый день и обильный ужин. «Почему я не могу уснуть?» – задавался я вопросом, а в голове мельтешили разные мысли. И вдруг прозрение. Тот незнакомый фруктовый прохладительный напиток за ужином. Я хотел пить и выпил две банки. Он был газированным, с легким привкусом яблочного сока. Что за напиток?
Я быстро пробежался по клавиатуре и нашел название шипучки – гуарана антарктика – и ее состав. Гуарана, крупнолистовое вьющееся растение из семейства кленовых родом из амазонских джунглей. А теперь угадайте, что содержат семена гуараны. Тот же состав, что и в кофе, чае, пепси, маунтин дью и шоколаде. Пуриновый алкалоид, 1,3,7-триметилпурин-2,6-дион. Молекулярная формула: C8H10N4O2.
Кофеин.
Несмотря на мое знакомство со средствами его доставки (пепси, чай, энергетические напитки), я никогда особо не задумывался над тем, откуда берется сам кофеин. Кофе и чай получают из одноименных растений. Колу, по крайней мере, изначально, производили из плода дерева кола; шоколад – из какао; гуарану антарктику – из семян гуараны (кофеина в них в два раза больше, чем в зернах кофе).
Все эти растения вырабатывают кофеин. И не различные его виды, а абсолютно одинаковое вещество. Кофеин – это кофеин, вне зависимости от его источника. Одно вещество – масса источников.
Мое любопытство должно было бы разгореться из-за того большого количества разных растений, которые производят кофеин, наведя меня на мысль о том, являются ли все они близко родственными или же процесс выработки кофеина конвергентно эволюционировал много раз. Но вскоре я уснул, и эта мысль так и не пришла мне.
К счастью, несколько пытливых ботаников решили исследовать данный вопрос. В статье, опубликованной в 2014 году[16], международная команда ученых использовала генетические данные, работая двумя группами, чтобы продемонстрировать, что процесс производства кофеина в этих растениях эволюционировал независимо. Одна группа сравнила ДНК многих видов растений, чтобы построить эволюционное древо видов, содержащих кофеин. Они сконцентрировались на трех видах – кофе, чае и какао. Такие эволюционные деревья – технический термин «филогенез» – напоминают генеалогические древа. У близкородственных видов можно выявить сходство благодаря поиску недавнего общего предка, точно так же, как братья и сестры выявляют свое родство благодаря родителям. Дальние родственники, такие как четвероюродные братья, появляются на сравнительно далеких ветках филогенеза, и нужно копнуть глубже, изучив эволюцию, чтобы найти их недавнего общего предка.
Филогенез показал, что растения кофе, чай и какао расположены на разных ветках эволюционного древа – они не близкие друг другу родственники. Какао скорее ближе к клену и эвкалипту, чем к чаю или кофе. А кофе происходит от предка, давшего начало картофелю и томатам, а не чаю или какао.
Чай располагается на своей собственной эволюционной ветке, далекой от всех остальных рассматриваемых видов. Иными словами, необходимо погрузиться глубже в процесс филогенеза, вернувшись в прошлое, чтобы найти предка давшего начало чаю, какао и кофе.
Тот факт, что кофеиносодержащие виды, не являются близкими родственниками, указывает на то, что способность вырабатывать кофеин, вероятней всего, эволюционировала независимо в трех типах растений. Но ученые копают глубже, чтобы проверить гипотезу их кофеиновой конвергенции, исследуя, как развивалась способность вырабатывать кофеин. Если виды независимо развили у себя эту способность, тогда фактический биохимический способ, которым они делают это, может не совпадать, и изучение ДНК может вскрыть разные пути, ведущие к одинаковому результату. И наоборот, если виды унаследовали данную способность от одного общего предка, тогда можно предположить, что они вырабатывают кофеин одинаково.

Филогенез, демонстрирующий эволюционные связи выбранных двудольных растений (растения с особым типом пыльцы, составляющие более половины всех видов растений). Виды, имеющие общего предка, более тесно связаны друг с другом, чем виды, произошедшие не от одного предка. Значок с дымящейся чашкой обозначает виды, вырабатывающие кофеин. Так как эти три вида не являются близко родственными, то наиболее вероятное объяснение, что кофеин эволюционировал независимо в каждой из этих групп (либо же выработка кофеина была родовым свойством, которое независимо утрачивалось много-много раз, но этот сценарий требует гораздо больше эволюционных изменений и, таким образом, менее вероятен).
Кофеин синтезируется путем преобразования исходной молекулы, именуемой ксантозин. Этот процесс осуществляют ферменты, именуемые N-метилтрансферазы (НМТ), которые последовательно отрезают части молекулы ксантозина, а потом добавляют новые. Среди растений существует много типов НМТ, которые выполняют самые разнообразные функции. Так что изначально они эволюционировали не с целью выработки кофеина. Скорее способность производить кофеин стала результатом эволюционного изменения в этих ранее существовавших ферментах, когда ксантозин преобразуется в кофеин.
Изучая геном различных видов, ученые выделили ДНК разных НМТ и обнаружили, что те НМТ, которые были преобразованы в кофе, отличались от тех, которые были преобразованы в чай и какао. Таким образом, эволюционные пути к выработке кофеина были различны – конвергенция осуществилась разными дорогами.
ЭВОЛЮЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ отличается от большинства других наук тем, что ее базовые открытия, касающиеся истории жизни, получены не на основе первопричин. Здесь не работают дедуктивные методы. Нельзя просто подойти к доске и вывести формулу для утконоса. Скорее здесь задействован индуктивный метод, когда общие принципы возникают за счет накопления множества изученных случаев.
Эти исследования позволяют нам отличать то, что происходит регулярно, от того, что случается лишь изредка. Другими словами, эволюция идет самыми разными путями: практически все правдоподобное, что вы можете себе представить, развивалось где-то когда-то у определенных видов. Если подождать, то в конечном итоге произойдет даже самое невероятное. Как сказал математик Ян Малкольм в фильме «Парк Юрского периода»: «Жизнь находит способ». Таким образом, чтобы понять основные модели эволюции жизни, мы задаемся не вопросом «что может случиться?», а «что обычно случается?»
То же самое с эволюционной конвергенцией. Стандартное знание заключается в том, что конвергентная эволюция происходит время от времени, но она необязательно ожидаемое событие. В научных трудах традиционно используются такие слова, как «поразительная», «удивительная» и «неожиданная» для описания ее возникновения. В новостных сюжетах отражаются эти настроения, заставляя нас воспринимать публикацию каждого нового примера, как нечто потрясающее и непредвиденное.
Но все меняется. В последние годы появился ряд ученых, которые разделяют противоположную точку зрения, настаивая на том, что конвергенция и есть ожидаемое событие, что она вездесуща и мы не должны удивляться, обнаружив, что множество видов, отдаленно связанных друг с другом, выработали у себя схожее свойство, чтобы адаптироваться к одинаковым природным условиям. И дальше ученые делают более обобщенный вывод: эволюция обусловлена, ее направляет естественный отбор, заставляя снова вырабатывать одни и те же решения проблем, поставленных окружающей средой. Согласно этой точке зрения, непредвиденные случаи в истории играют незначительную роль: их влияние стирается предсказуемым ходом естественного отбора.
НА ПЕРЕДОВОЙ этого научного направления – Саймон Конвей Моррис. Будучи скромным и закрытым человеком, палеонтолог Кембриджского университета не похож на того, кто раскачивает лодку. И все же, несмотря на внешнюю сдержанность, этот обладающий острым умом борец инициировал радикальный пересмотр роли копирования в эволюционном процессе.
То, что Конвей Моррис стал вдруг проповедником конвергентной эволюции и яростным критиком Стивена Джея Гулда, может показаться поначалу удивительным. Будучи ярким студентом в Кембриджском университете, он сделал себе имя докторской диссертацией, посвященной изучению диковинных животных легендарных сланцев Берджес канадской части Скалистых гор. Но это исследование фокусировалось на феномене, который казался антитезой конвергентной эволюции.
Сланцы Берджес сформировались около пятисот одиннадцати миллионов лет назад во время кембрийского периода, когда животный мир, как известно, только зарождался. До этого формы жизни были проще, в основном более-менее плоские. Вопрос о том, как произошел переход от этого чужеродного мира к предкам сегодняшних видов, все еще обсуждается. Но однозначно можно сказать, что все произошло быстро и масштабно, породив кембрийский взрыв, когда за короткий геологический период на планете возникло большинство знакомых всем нам видов животных – моллюски, иглокожие, ракообразные, позвоночные.
Но тогда появились не только предки сегодняшней фауны. Когда в начале XX века палеонтолог Чарльз Уолкотт, тогдашний директор Смитсоновского института, впервые обнаружил ископаемых животных в сланцах Берджес, оказалось, что все они принадлежали хорошо известным таксономическим группам – моллюскам, ракообразным, червям и так далее. Но когда полвека спустя Конвей Моррис захотел повторно изучить эти образцы, он обнаружил, что большинство их было палеонтологическими диковинами, не имевшими отношения ни к одному известному таксону. (Таксоны – эволюционные группы, такие как рыбы или моллюски; слово «таксон» может быть применимо к любому эволюционному уровню от вида или рода до царства). Уолкотт, вероятно, отвлекаясь на выполнение своих административных обязанностей или попросту не сумев отличить принадлежность найденных им образцов, отнес большинство ископаемых животных к существующим таксономическим группам, несмотря на их явные странности.
Термин «диковины» не относится к научному, но дает хорошее представление о том, насколько специфичными были эти образцы. Об этом размышлял Конвей Моррис, когда скрупулезно изучал десятки тысяч экземпляров, собранных Уолкоттом и пылившихся в хранилищах Смитсоновского и других музеев. Рассмотрим, для примера, виваксию, которая похожа на лежащую на боку сосновую шишку, покрытую идущими внахлест овальными чешуйками.
Добавьте сюда плоский, как у улитки, низ, чтобы скользить по морскому дну, и два ряда длинных острых иголок, идущих по спине, – и вы получите животное, похожее на то, что появлялось в одной из серий «Футурамы».
А вот еще животное, которому Конвей Моррис дал имя «галлюцигения» из-за «диковинного и фантастического внешнего вида». «Мультяшная» – то слово, которое приходит мне на ум.

Подборка образцов обитателей экосистемы сланцев Берджес 511 миллионов лет назад. Сверху вниз: аномалокарис, пикайя, одонтогрифус, опабиния, виваксия (слева) и галлюцигения (справа).
Судя по произведенной Конвеем Моррисом реконструкции, оно представляет собой длинную, похожую на карандаш трубку с едва различимым шариком головы на одном конце и коротким перевернутым, как у шотландского терьера, хвостом на другом. С трубчатого тела свисает семь пар остроконечных несочлененных ног-ходулей, соединенных сверху с семью мягкими изогнутыми трубками, идущими по спине. Сзади туловища расположены два ряда из трех коротких трубок, сидящих близко друг к другу около хвоста (предположительно на хвосте, так как Конвей Моррис признавал возможность того, что он мог перепутать, где голова, а где хвост животного. В его оправдание следует отметить, что ископаемое животное было приплюснуто и не самого лучшего качества)[11]. В своей работе, посвященной данным видам, Конвей Моррис открыто признает, что галлюцигению «нельзя сравнивать ни с одним из ныне живущих или ископаемых животных».

Реконструкция галлюцигении, проведенная Саймоном Конвеем Моррисом
И это были не единственные диковины – в действительности местность сланцев Берджес была полна целым собранием всего причудливого. Опабиния, чьи пять глаз и длинный патрубок с клешней на передней части головы заставили рассмеяться группу ученых, собравшихся для первой демонстрации этого животного. Аномалокарис, различные части тела которого изначально описывались, как три разных вида, пока ученые не поняли, что все это части одного и того же животного.
Одонтогрифус – длинное, плоское, мягкотелое животное, напоминавшее плавающий пластырь с круглым ротовым отверстием в нижней части переднего конца туловища. И этот список можно продолжать до бесконечности.
Странные находки, обнаруженные в сланцах Берджес, стали широко известны благодаря книге Стивена Джея Гулда «Удивительная жизнь». Книга представляет собой детальное исследование найденных там ископаемых животных и размышление над тем, что они могут нам сказать об эволюции. Виваксия и компания были не единственными, кого прославил Гулд. Главным научным героем книги был не кто иной, как Саймон Конвей Моррис, который проделал гигантскую работу, чтобы зафиксировать, как происходил процесс заселения фауны сланцев Берджес столь многочисленными уникальными формами жизни, так непохожими ни на что ранее известное. (Гулд также отдавал должное научному руководителю Конвея Морриса, Харри Уиттингтону, и его сокурснику, теперь уже профессору Йеля, Дереку Бриггсу).
В книге «Удивительная жизнь» Гулд подробно останавливается на необычной анатомии обитателей сланцев Берджес, утверждая, что кембрийская фауна была самой разнородной в истории нашей планеты. Он указывал на то, что многие анатомические формы, которые появились и впоследствии исчезли, больше никогда не повторялись. Гулд размышлял над тем, почему некоторые из тех древних животных выжили, положив начало сегодняшнему видовому разнообразию, в то время как другие погибли. Превосходили ли их те выжившие животные в каком-то аспекте, обеспечившем им процветание? Или же это просто вопрос удачи? Гулд сделал вывод, вряд ли у выживших было больше индивидуальных особенностей для адаптации. Скорее это случайное совпадение, лотерея, которая помогла одним исчезнуть, а другим продолжить свое существование. Если бы история жизни пошла чуть по-другому, рассуждал он, то пленка бы прокрутилась слегка иначе, и мир, вероятней всего, был бы населен сегодня совсем другими обитателями.
Гулд завершает свою книгу «Удивительная жизнь» подробным описанием одного конкретного ископаемого животного. Пикайя – маленькое существо, напоминавшее зажатого в тисках червя, вертикально плоского и с неразличимой головой.
Столь невзрачное существо было самым ранним известным представителем хордовых, эволюционной группы, включающей позвоночных (а именно, тех, у которых есть позвоночник – таких, как лягушки, акулы, гориллы и мы с вами).
Пикайя во всех отношениях была не главным игроком в сланцах Берджес. Судя по количеству обнаруженных там ископаемых животных, данный вид не был многочисленным, а его размер и форма не особо впечатляли. Среди огромного разнообразия существовавших тогда существ живший в кембрийскую эпоху очевидец вряд ли бы выбрал данный вид в качестве символа грядущих великих перемен. А что если только удача помогла пикайе выжить, в то время как все другие погибли? Прокрути пленку повторно, и, возможно, во второй раз пикайе бы повезло меньше. И если бы род пикайи исчез, то кто бы сегодня правил миром? Не хордовые, потому что нас бы здесь не было[12][17].
Вопрос о контингентности был поднят Гулдом, но его доказательства, даже некоторые самые главные аргументы были позаимствованы ученым из статей Конвея Морриса. Данный факт Гулд признавал[18], отдавая должное своему коллеге[13]. Гулд даже высказывал мнение, что за свои достижения Конвей Моррис и два его соратника заслуживали Нобелевской премии в области палеонтологии (если бы таковая была).
Но произошло нечто забавное. Конвей Моррис, который так настаивал на уникальности большинства этих ископаемых животных, в итоге увидел мир в совсем ином свете.
Вместо того, чтобы остановиться на эволюционной уникальности такого большого количества фауны, Конвей Моррис завершил свою собственную книгу «Горнило творения», посвященную находкам в сланцах Берджес, которая вышла в 1998 году. В ней он рассуждает о важности и повсеместности эволюционной конвергенции.
Поначалу данное прочтение летописи окаменелостей выглядит нелогичным: как можно перейти от восхваления многообразия самобытных, никогда прежде не встречавшихся анатомических особенностей к нахождению повсюду доказательств эволюционного копирования? Конвей Моррис сам не может с уверенностью ответить на этот вопрос, во всяком случае, так он говорил мне несколько лет назад за ланчем в Сент-Джонс колледже в Кембридже.
«В какой-то степени, – сказал он, – объяснение кроется в новых находках, сделанных за последние почти три десятка лет с момента выхода книги «Удивительная жизнь». И если ранее большая часть образцов, найденных в сланцах Берджес, не ассоциировалась ни с одной известной таксономической группой, то тщательное изучение недавно обнаруженных окаменелостей показало, что многие из них теперь могут быть отнесены к существующим таксонам. Так, к примеру, галлюцигения, как оказалось, родственна современным первичнотрахейным, малоизвестной, преимущественно тропической группе мелких животных – это нечто среднее между многоножкой и гусеницей. Что касается виваксии, то в настоящее время многие ученые считают ее родственной моллюскам.
Так что многие из этих странных находок не так уж сильно отличаются от известных нам таксонов. Более того, благодаря проведенным анализам[19] ученым удалось сравнить анатомические особенности ископаемых животных с их современными двойниками и сделать вывод – хотя эта точка зрения многими активно не принимается – что фауна сланцев Берджес отличалась не большим разнообразием, чем сегодняшняя.
Данные открытия заставляют переосмыслить феномен сланцев Берджес. Гулд вслед за Конвеем Моррисом и его коллегами рисовал кембрийский период, как время неповторимого анатомического разнообразия, когда можно было встретить громадное количество разнообразнейших типов организмов, большая часть которых вскоре погибла. И с тех самых пор, утверждал Гулд, на планете существует сильно ограниченная линейка анатомического строения – все формы жизни произошли всего от нескольких типов, выживших после кембрийского периода.
Большинство ученых считают, что на данную точку зрения повлияла общая тенденция. Анатомическая несхожесть не была такой уж исключительной в кембрийский период, и большинство существовавших тогда форм представляют собой вовсе не неудавшиеся эволюционные эксперименты, в результате которых сегодня не осталось их потомков. Скорее это ранние родственники сегодняшних выживших групп. В действительности, таков был тезис книги Конвея Морриса, который во многих аспектах являлся точно сформулированным возражением на идеи «Удивительной жизни».
И все же непонятно, почему Конвей Моррис перешел от тщательного изучения кембрийских диковинных видов до фиксирования случаев конвергенции. Тот факт, что кембрийские образцы обрели свою таксономическую принадлежность, не умаляет их анатомической самобытности. Так, к примеру, даже если галлюцигения состоит в родстве с первичнотрахейными, то анатомически она все равно отличается от всего, что когда-то эволюционировало: прояснение филогенеза, на самом деле, не делает данный случай примером конвергентной эволюции.
Одним возможным объяснением резкой смены курса Конвеем Моррисом является то, что на него повлияла общая тенденция, возникшая внутри данной области науки. В середине 1980-х эволюционные биологи стали все чаще прибегать к «сравнительному методу», разделяя идею о том, что, сравнивая различные таксоны и выискивая повторяющиеся модели, можно найти доказательства действия принципа естественного отбора. И хотя данная работа была далека от области исследований Конвея Морриса, возможно, такой акцент на важности конвергенции повлиял на его мнение (хотя ничего из того, что он писал или говорил, не намекает на такой вариант).
Мы также можем попробовать прибегнуть к психоанализу. Многие исследователи удивляются тому, насколько критично относился Конвей Моррис к Гулду, особенно учитывая, как сильно восхвалял Гулд Конвея Морриса в «Удивительной жизни». Один из его коллег высказал предположение[20], что взгляды Гулда на случайную природу эволюции противоречили духовным взглядам Конвея Морриса. Другой же ученый предположил, что Конвей Моррис[21] был смущен тем, что Гулд публично – в своем бестселлере! – восторгался ранними взглядами Конвея Морриса по поводу таксонов, которые впоследствии оказались ошибочными.
Но какой бы ни была причина его антипатии, Конвей Моррис первым инициировал поиски способов возразить Гулду. В нашей с ним беседе[22] Конвей Моррис вспоминал, как читал сборник эссе Гулда «Молодец, бронтозавр!» и отметил ряд случаев конвергенции, которые Гулд не смог прокомментировать. Возможно, все это натолкнуло Морриса на мысль о важности конвергентной эволюции.
В любом случае, с энергией новообращенного Конвей Моррис стал главным сторонником той точки зрения, что конвергентная эволюция – доминирующий фактор многообразия форм жизни на земле. «Эволюционная конвергенция абсолютно повсеместна[23], – говорил он. – Ее видно повсюду». В конечном итоге он делает вывод, что «сколько бы раз вы ни прокручивали пленку жизни, конечный результат будет один и тот же».
ПОВСЕМЕСТНОСТЬ ЗАМЕТНА НАБЛЮДАЮЩЕМУ, но вряд ли можно оспорить тот факт, что конвергенция – нераспространенное явление. В отдельных случаях два вида эволюционируют независимо, становясь похожими по какому-то одному признаку – например, по длине хвоста, окрасу ушей, строению почек и даже брачному танцу. В более примечательных случаях виды могут быть конвергентны в различных аспектах своего фенотипа, причем настолько сильно, что этих двоих не отличишь друг от друга: например, два вида носатой энгидрины (термин «фенотип» относится ко всем свойствам организма, от внешней анатомии до физиологии и поведения).
Давайте начнем с изучения нескольких из многочисленных разнообразных типов фенотипических свойств, которые эволюционировали конвергентно. В последние годы ученые определяли конвергенцию почти в любом свойстве, которое только можно представить. Так, к примеру, у многих типов ящериц независимо друг от друга развилась складка кожи под шеей, которую она может быстро выбросить как маячок, чтобы подать сигнал своим родичам или соперникам. Точно так же у многих птиц развились яркие пятна на крыльях или груди, которые заметны во время общения.
Природный мир полон примеров подобного рода: схожие свойства, используемые в одинаковых ситуациях, которые многократно эволюционировали у похожих типов растений и животных.
Особенно впечатляюще выглядят те признаки, которые конвергентны на самом детальном уровне между видами, совсем не близко родственными и находящимися на разных ветвях древа жизни. Вот классический пример: взгляните на глазное яблоко, нарисованное ниже.

Глазное яблоко осьминога
Если вы помните что-то из анатомии со школьных времен, то это типичный глаз: он может принадлежать корове, человеку, кошке или даже ящерице – глазные яблоки большинства позвоночных очень похожи по своей базовой структуре.
Но этот глаз принадлежит не позвоночному, а осьминогу! Да, именно так – глазные яблоки осьминогов почти неотличимы от наших, даже несмотря на то, что наш самый близкий общий предок, в изобилии населявший землю еще более пятисот пятидесяти миллионов лет назад, вообще не имел глаз[14].

Богомол (сверху) и мантиспид (снизу).
А как насчет этого? Всем известен богомол: крупные рыбьи глаза, длинная шея, передние конечности, сложенные словно для молитвы. Но эти животные на самом деле не настолько религиозны – в действительности их молящая поза – это ловушка, предназначенная для того, чтобы совершить стремительный и быстрый, как молния, бросок и схватить свою жертву передними ногами, удерживая ее между шипастыми бедром и голенью. (Мы бы так же могли схватить свой ланч, быстро развернув руки вниз и зажав его между ладонями и предплечьями… если бы наши ладони были покрыты шипами и составляли половину длины предплечий.)
Но богомолы – не единственные шустряки. Есть еще один вид насекомых – мантиспиды, – у которых практически идентичное строение лап для хватания жертвы, и действуют они столь же стремительно. Схожие черты на этом не заканчиваются – длинная шея мантиспидов и выпуклые глаза так сильно напоминают шею и глаза богомолов, что передняя часть их туловища кажется выполненной под копирку, даже несмотря на то, что этих двух насекомых разделяют сотни миллионов лет эволюции. (А задняя их часть больше напоминает туловище ближайшего их родственника, представителя сетчатокрылых).
Конвергентная эволюция, конечно же, не ограничена одной только анатомией. Виды способны сближаться в любом аспекте своей биологии, от генов до поведения. Существует много подобных примеров, но одни из моих самых любимых – неприметные муравьи и термиты.
Большинство людей считает, что муравьи и термиты должны быть близкими родственниками, потому что они выглядят одинаково, а еще, когда возникают проблемы с теми или другими, вы вызываете специалиста по уничтожению насекомых. Но если вы возьмете лупу и рассмотрите этих насекомых повнимательнее, то обнаружите, что в отличие от традиционных насекомых, у которых можно различить голову, щиток, живот и шесть ног, они выглядят совершенно иначе. И, к тому же, они вообще не являются близкими родственниками. Ближайшая родня муравьев – осы и пчелы, а термиты относятся – как ни странно – к семейству таракановых.
Несмотря на их различный филогенез, социальная организация муравьев и термитов удивительно похожа. Для муравьиных сообществ характерно узконаправленное разделение труда: королева (а иногда королевы), которые откладывают бессчетное количество яиц; крошечные самцы, чья единственная функция заключается в спаривании с неплодными матками, и разнообразные виды муравьев-рабочих, причем все они самки. А тело каждой самки приспособлено специально для того вида работы, которую она выполняет: заботиться о потомстве, отгонять непрошеных гостей, собирать пищу и прочее.
Социальная структура термитов почти такая же. Термиты тоже живут колониями, исчисляющимися десятками миллионов особей. У них, как и у муравьев, одна или несколько самок откладывают яйца, а разнообразные виды рабочих выполняют основные задачи по обеспечению жизнедеятельности колонии. И муравьи, и термиты используют жидкую пищу, которая передается от одного обитателя колонии другому, чтобы регулировать тот тип рабочего, которым станет подрастающая самка. И те, и другие общаются с помощью химических сигналов, именуемых феромонами. Они оставляют феромоновые дорожки, чтобы показать дорогу к еде муравьям-фуражирам и собрать солдат для битвы.