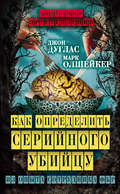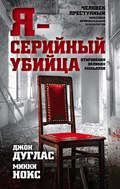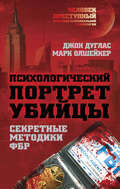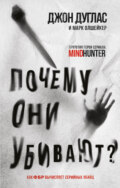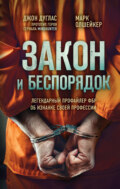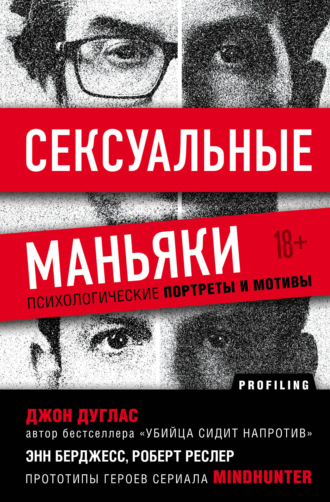
Джон Дуглас
Сексуальные маньяки. Психологические портреты и мотивы
2
На пути к убийству: социальное окружение и события, способствующие формированию личности убийцы
Участвующие в расследованиях психологи-криминалисты (профайлеры) ФБР изучают преступления в поисках информации, проливающей свет на характерные черты виновного лица. Определенное представление об особенностях личности преступника может дать экспертиза улик с места происшествия. В ходе исследования 36 преступников, совершивших убийства на сексуальной почве, нам удалось не только выявить некоторые из таких типичных особенностей, но и изучить факторы, способствующие их возникновению. Первичная информация, почерпнутая нами из бесед с преступниками и их досье, позволила прийти к определенным выводам об этих мужчинах.
В этой главе представлены собранные нами сведения о социальном окружении и событиях, способствовавших формированию личностей 36 исследованных нами убийц. Эти сведения были проанализированы с точки зрения того, что они говорят о собственно человеке. Понимание движущих сил девиантного сексуального поведения дает возможность более точно установить причины возникновения стремления убивать.
Читателям следует учитывать, что мы говорим об этих 36 преступниках в общем. Не все наши утверждения справедливы применительно к каждому из них, но они могут быть справедливы по отношению к большинству из них или к большинству из тех, относительно кого была получена информация. Не все испытуемые ответили на все поставленные им вопросы.
Особенности детства
На первый взгляд кажется, что обстоятельства начала жизни этих 36 убийц были однозначно благоприятными (см. табл. 2.1). Как правило, это старшие дети мужского пола, почти все они (33 человека) – представители белой расы. Четверо были единственными детьми в семье, а еще четверо были усыновлены в младенчестве или в самом раннем детстве. В большинстве своем они росли в 1940-х и в 1950-х годах, когда в США отношение к старшему ребенку мужского пола белой расы было предпочтительным.
Таблица 2.1
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСТВА

На момент наших интервью внешность большинства из исследованных преступников была непримечательной, что позволяет предположить отсутствие непривлекательности в детском возрасте. Их рост и вес были в пределах нормы, а выделяющиеся на общем фоне физические недостатки или ограничения были лишь у немногих. В том, что касается внешности, они мало чем отличались от любой другой группы лиц мужского пола.
Интеллект исследуемых был на хорошем уровне. Коэффициент IQ ниже 90 был только у семерых из них. Шестнадцать человек располагались в диапазоне между средним и высоким уровнем интеллекта (IQ от 90 до 119). Примечательно, что одиннадцать преступников отличались высоким или очень высоким уровнем интеллекта с показателями IQ выше 120.
Большинство мужчин появились на свет в полных семьях. У половины матери были домохозяйками, не занимавшимися другой работой, кроме домашней. У большинства (58 %) отцы занимались неквалифицированным трудом, хотя у тринадцати человек главы семейства были квалифицированными работниками. Намного важнее, что три четверти отцов имели стабильный заработок. Свыше 80 % исследованных отозвались о социально-экономическом положении своей семьи как о среднем или выше, и только пятеро сочли уровень жизни своей семьи низким (см. табл. 2.1).
Таким образом, матери не работали и занимались воспитанием детей, а у отцов был стабильный заработок; по своему социально-экономическому положению семьи не могли считаться бедными. Однако, несмотря на столь положительные личностные и социальные факторы, эти мальчики стали не успешными членами общества, а убийцами, отбывающими тюремное заключение.
Социальное окружение
Пролить свет на возможные причины произошедшего могло более тщательное изучение биографий преступников. Присутствовали ли в них свидетельства того, что могло способствовать развитию потребности убивать? Нами были исследованы факторы социальной среды, семейных отношений, воспитания и сексуального опыта в детском и подростковом возрасте.
Функциональность семьи
Хотя изначально полные семьи выглядят функциональными, сведения о родителях свидетельствуют о наличии у них других стрессов и проблем, помимо непосредственно связанных с воспитанием детей. Рассказы этих 36 убийц показывают, что в их семьях существовало множество проблем. Прежде всего, серьезной проблемой было злоупотребление алкоголем и наркотиками. Почти в 70 % семей их члены злоупотребляли алкоголем, а в одной трети – наркотиками. Один из преступников рассказывал, как алкоголизм отца способствовал его собственному регулярному злоупотреблению спиртными напитками:
Преступник: Каждый раз, когда меня отстраняли от занятий в школе, пусть даже и за дело, мне нужно было объясняться с отцом. В те времена он по уши погряз в своем пьянстве. И вот он приходит со мной в школу и дожидается, пока не придет учитель и не начнет меня ругать на чем свет стоит. Отцу это не нравится, он слетает с катушек и начинает материть учителя, угрожать ему и все такое… Заставляет учителя пойти на попятную, а меня – вернуться в школу.
Сотрудник: Как долго вы проучились в школе?
Преступник: До десятого [класса] проучился, а потом они распустили слухи, будто я у других учеников деньги вымогаю…
Сотрудник: Это было на самом деле?
Преступник: В то время я пил. Реальные проблемы были с алкоголем.
Примечательно, что преступник воспринимает проблему с вымогательством, но уходит от темы, пытаясь заменить ее другой.
В семейных историях присутствовали также и психиатрические проблемы. Случаи психических расстройств имели место в более чем половине семей: у десяти матерей, семи отцов, четырех братьев и одной сестры. В ряде случаев матери временно отсутствовали в семьях в связи с госпитализацией в психиатрической клинике. Часто подобные явления сочетались с проявлениями агрессии. В биографической справке одного из преступников приведен краткий обзор уголовного прошлого его отца, свидетельствующий о тесном переплетении психиатрических проблем и агрессивного поведения:
Когда объекту исследования было тринадцать, его отец застрелил одного из своих братьев. До этого отец находился под следствием по делам об умышленном поджоге и страховом мошенничестве. На суде по делу об убийстве его признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает паранойей. Отца также подозревали в двух других убийствах: человека, нарушившего границы его владения, и пропавшего без вести приемного ребенка. После суда отца поместили на принудительное лечение в психиатрическую клинику штата, откуда он сбежал через два года с помощью матери объекта исследования. Позднее он был задержан полицией соседнего штата, но отпущен в связи с отказом властей экстрадировать его.
В ряде случаев эта комбинация психических нарушений и агрессивных проявлений присутствовала у преступника уже в детском возрасте. По 25 из этих мужчин имелась информация о наличии проблем с психикой в детстве. Некоторые из них утверждали, что не помнят об этом, как, например, в следующем случае:
Преступник: Мама говорит, что водила меня к психиатру, когда я был маленьким, но я такого не помню. Она говорит, что это из-за того, что в школе я очень много дрался. Я и правда как-то раз ударил учительницу. Я бегал по коридору, тут меня берут сзади за шиворот и велят притихнуть и заканчивать беготню. Я же не знал, что это учительница. Ну и стукнул ее. Когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать, я еще нескольким успел навалять.
В семьях половины преступников были случаи уголовных преступлений. Иногда в семье было известно о противоправном поведении ее членов («Моя мать была косметологом и устраивала нелегальные лотереи, а отец был столяром и приторговывал наркотой»), а порой это бывало семейной тайной, как в следующем случае:
Преступник: Мой отец отсидел пять лет в тюрьме и после этого сменил имя. А одна из его сестер даже навсегда перестала с ним общаться из-за этого.
Сотрудник: Это был большой секрет?
Преступник: Да я даже не знаю, за что его [арестовали].
Изучение материалов этого дела подтвердило наше подозрение о том, что отца этого мужчины посадили за сексуальное преступление в отношении ребенка его сестры.
Кроме того, почти половина случаев преступных проявлений в семье была связана с сексуальной проблематикой. Одной из подобных проблем являлись беспорядочные половые связи матери, как в следующем случае:
Отношения правонарушителя с матерью можно охарактеризовать как отношения любви и ненависти. Он утверждает, что его мать была алкоголичкой и что он часто видел ее с мужчинами, поэтому «возненавидел всех, кто встречался с матерью». Он сообщает, что в возрасте шестнадцати лет пригласил домой мужчину, с которым его мать вступила в половую связь. После этого, по словам правонарушителя, он набросился на этого мужчину с намерением убить его.
В нижеследующем примере в центре внимания объекта исследования были скорее чувства матери, а не внебрачные связи отца:
Уже потом отец весело и беззаботно рассказывал мне истории о том, как ходил налево, когда мне было лет десять или меньше… Маму же я в подобном заподозрить никогда не мог… Наоборот, она ужасно боялась потерять отца, переживала, что они могут разойтись или развестись.
Отношения с родителями, братьями и сестрами
Многие специалисты по вопросам семьи и детства считают структуру и качество семейных отношений важным фактором развития ребенка, в особенности то, как он воспринимает взаимодействие членов семьи с ним и между собой. Степень привязанности ребенка к родителям и другим членам семьи имеет первостепенное значение для его способности находить общий язык с окружающими и ассоциировать себя с ними во взрослом возрасте. По сути дела, эти детские связи (иногда называемые узами) способствуют формированию у него некой схемы восприятия ситуаций вне семьи. По причине важности таких детских связей нас особенно интересовали отдельные факторы семейных отношений, максимально характеризующие степень привязанности объектов исследования к окружающим людям (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Обнаруженные нами многочисленные проблемы предполагают не только нестабильность контакта между членами семьи и убийцей в детском возрасте, но также и неадекватные модели общения. Следовательно, наличие опыта позитивного взаимодействия с членами семьи у большинства этих преступников представляется маловероятным. Вспоминая детство своего сына, один из отцов заметил: «Ему всегда больше нравилось быть самому по себе. Мне думалось, что это не вполне естественно». Еще один родитель сказал, что его сын был угрюм и мог по нескольку дней кряду не разговаривать с родителями.
Большинство убийц происходили из полных небедных семей, обладали интеллектом выше среднего и не имели каких-либо физических недостатков. Однако почти у всех в семье были проблемы с преступностью или агрессией.
При изучении картин семейной жизни, описанных убийцами, создается впечатление крайней нестабильности их жизненного уклада. Лишь не более трети преступников провели свое детство в одном месте. Семнадцать мужчин сообщили о периодическом ощущении неустойчивости жизни, а шестеро говорили о хроническом ощущении нестабильности и постоянных переездах с места на место. Кроме того, более 40 % этих преступников проживали вне семьи еще до достижения совершеннолетия. В числе их мест жительства были интернаты, детские приюты, колонии для несовершеннолетних и психиатрические больницы. Частые переезды свидетельствуют о минимальном уровне вовлеченности семьи в жизнь общества, что не дает ребенку достаточных возможностей для развития позитивных устойчивых связей вне дома, способных компенсировать неустойчивость внутри семьи.
Как указывалось выше, более чем в половине случаев (двадцати) в семье присутствовали оба родителя, в десяти случаях в семье не было отца, в трех – матери, а в двух – и отца, и матери. Однако важным представляется тот факт, что в семнадцати случаях биологический отец покидал семью до достижения мальчиком двенадцатилетнего возраста. Это обусловливалось различными причинами, в том числе смертью или тюремным заключением, но чаще всего разъездом или разводом супругов. В шести из тринадцати случаев развода родной отец покидал семью, когда мальчику не исполнилось шести лет, а в семи – когда мальчику было от семи до одиннадцати. В период от двух до пяти лет после этого мать обычно снова выходила замуж, и в доме появлялся приемный отец. Иногда мальчик больше никогда не встречался со своим родным отцом, как в следующем случае:
Мать преступника вышла замуж в пятнадцать лет и родила двоих сыновей, после чего разошлась с мужем и аннулировала брак. Об отце известно, что он отбывал срок в тюрьме для душевнобольных преступников. Сразу же после повторного брака матери ее второй муж начал процедуру усыновления. Доступ к этой информации был закрыт, чтобы родной отец объекта исследования не узнал о его усыновлении.
Совершенно очевидно, что мальчику требовалось время, чтобы сначала свыкнуться с утратой отца, а затем приспособиться к жизни с новым опекуном-мужчиной. Некоторые из преступников отмечали значение развода родителей и появления в их семье нового мужчины. Ниже приведена цитата преступника, совершившего свое первое убийство в четырнадцатилетнем возрасте, когда его мать проводила медовый месяц со своим третьим мужем.
Сотрудник: Было ли в вашей юности что-то, что вновь и вновь вызывало у вас тяжелые чувства?
Преступник: Думаю, что все это началось еще с растерянности и непонимания по поводу разрыва родителей. Я же их обоих любил.
Сотрудник: А сколько вам тогда было?
Преступник: Семь.
В другом случае убийца рассказывал:
Когда мои родители были вместе, я мог обращаться к любому из них. А потом между ними почему-то возникли проблемы. В итоге папа по большей части отсутствовал дома… Тут-то и начались мои проблемы, потому что, хоть они вместе уже не жили, я все равно очень любил папу, а маме это совсем не нравилось.
Принимая во внимание уход отца из семьи, нет ничего удивительного в том, что доминирующим родителем для преступника в детском и подростковом возрасте была мать (в 21 случае). Некоторые из опрошенных рассуждали о значении этого факта для их жизни, как в следующем примере.
Распад семьи стал для меня чем-то непостижимым. Я всегда считал, что семья – это навсегда. Думаю, это сыграло роль в моем падении… В моем воспитании не хватало мужской руки. Ни отец, ни отчим никогда не говорили мне, что хорошо, а что плохо. Оставляли это целиком на усмотрение матери. Мы плавали на лодках, катались на великах и все такое, но что касается серьезных вопросов отношений родителей с детьми, то с мужской стороны никто никогда не проявлял активности… Брату было восемнадцать, и он переехал к нашему родному отцу. Мне было десять, и я остался с матерью.
Лишь девять убийц назвали доминирующим родителем отца, и еще двое сказали, что их в равной степени воспитывали оба родителя. Тот факт, что двадцать две семьи (63 %) сохранились, тогда как лишь тринадцать (37 %) распались, свидетельствует о том, что ощущение неучастия отца в жизни сына объясняется не только физическим отсутствием первого. Скорее именно неумение отца создавать у сына позитивное впечатление о себе или выражать заботу по отношению к нему создает предпосылки к ощущению мальчиком, а впоследствии и мужчиной бессмысленности своего существования. Эти мальчики испытывали глубокую психологическую и социальную отчужденность. С учетом наложения на это уже сложившихся внутренних противоречий в отношениях с матерью признаки негативных отношений с другими людьми или неприятия потенциально позитивных были вполне ожидаемы еще в раннем возрасте.
Оценка убийцами эмоциональной составляющей семейных отношений указывает на низкий уровень взаимной привязанности членов семьи. Вероятно, наиболее интересным здесь является то, что большинство преступников говорили о недостаточной эмоциональной связи с отцом и о крайне противоречивой эмоциональной связи с матерью. Шестнадцать из опрошенных мужчин сообщили о равнодушии или неотзывчивости матерей, а двадцать шесть – об аналогичном отношении со стороны отцов. Примечательно следующее наблюдение из досье одного убийцы:
По словам матери подсудимого, после развода родной отец не пропал из виду и питал крайнюю ненависть к двум своим маленьким сыновьям. Однажды этот человек ударил подсудимого, которому на тот момент было меньше года, стеклянной бутылкой. В другой раз, когда ему было около четырех лет, отец чуть не задушил его. Был еще один случай, когда отец стрелял по своему сыну-дошкольнику, играющему на участке перед домом. Мать сказала, что из-за опасности, которую представлял собой ее бывший супруг, они с новым мужем были вынуждены часто менять место жительства.
Что касается братьев и сестер, то у двадцати преступников не было старших братьев, а у семнадцати – старших сестер. Таким образом, в годы становления личности у этих мужчин не было примера для подражания в лице брата или сестры, которые могли бы восполнить упущения родителей. Скорее в этой неблагоприятной социальной среде им даже приходилось соперничать с младшими детьми. Как сказал один из опрошенных: «В детстве я завидовал своей [младшей] сестре. После восьмого класса мне подарили спальный мешок, а она получила рояль». А в семьях с детьми от предыдущих браков мог также изменяться порядок старшинства братьев и сестер.
Этот дефицит привязанности переносился и на отношения со сверстниками. Убийцы часто характеризуют себя как людей замкнутых и одиноких. Они не пользуются популярностью в школе, как правило, люди их не запоминают. Адвокат одного из исследованных нами убийц с удивлением обнаружил, что учился со своим подзащитным в одном классе, но совершенно ничего не помнил о нем.
События, способствовавшие формированию личности
В последнее время все более пристальное внимание уделяется специфическим психологическим моделям реагирования детей на травмирующий опыт, как прямой, так и косвенный. Прямой травмирующий опыт подразумевает, что ребенок был подвергнут физическому или сексуальному насилию. Косвенный травмирующий опыт подразумевает присутствие при шокирующих сценах межличностного взаимодействия или их наблюдение. Пайнус и Эт (1985) выделяют такие характерные реакции детей на сцены изнасилования, самоубийства и убийства, как навязчивые гнетущие образы жестокости и насилия, проблемы с самоконтролем и потенциально разрушительные фантазии о мести.
Семейное воспитание
Трудности с выстраиванием позитивных родственных отношений у преступников усугублялись их восприятием родительских наказаний. Обычно они отзывались о них как о несправедливых, унизительных, непоследовательных и чрезмерных. Следующий пример наглядно иллюстрирует, каким образом один из преступников увязывает родительские наказания со своим влечением к совершению убийств:
Думаю, что эти изнасилования – следствие того, что я рос без отца. Он ушел. С отчимом мы никогда не ладили. Меня пороли за то, что позволялось моим сводным братьям и сестрам, потому что, по его словам, мать подает мне дурной пример. За это я его возненавидел. Если бы эти женщины не ходили по улицам одни, многих изнасилований и убийств не было бы.
Многие преступники считали, что в годы становления личности взрослые относились к ним несправедливо. Ниже приводится высказывание серийного убийцы, в котором он дает представление о том, как семейный опыт отразился на его агрессивном отношении к миру. Такие мысли стали благодатной почвой для поиска отмщения.
Знаете, будь моя воля, вы, парни, не дожили бы до работы в ФБР. Когда мне было лет девять-десять, я хотел, чтобы все вокруг сдохли. Я не хотел, чтобы мои родители расходились. Я любил их обоих. А они собачились по вечерам у меня на глазах, из-за чего я рыдал. А потом развелись. У меня было две сестры, так мать относилась ко мне как к третьей дочери: твердила, какой гад мой отец. Старшая сестра то и дело меня колотила – на пять лет старше была. А младшая – та про нас обоих заливала, чтобы нас наказали. Я прямо нутром чуял, что со мной обходятся несправедливо.
Жестокое или халатное обращение с детьми
Семейные истории этих убийц содержали случаи жестокого обращения и халатности. Безнадзорность часто была неявной. Так, в одном случае мальчик был единственным ребенком в только что переехавшей в Америку семье. Родители держали небольшой магазин, и им нужно было работать по двенадцать часов в сутки без выходных. Мальчика оставляли на попечение разных родственников или соседей. Имеются подозрения, что в этот период времени он стал объектом сексуальных домогательств со стороны присматривавшего за ним лица. Дальнейшее изучение этого компонента жестокого или халатного обращения с детьми выявило его определенное влияние на формирование личностей исследованных убийц.
Во многих случаях в детском возрасте имело место психологическое или физическое насилие. Психологическое насилие отмечалось в двадцати трех случаях и обычно заключалось в унижении ребенка. Ниже один из объектов исследования описывает, как в шестнадцатилетнем возрасте он перестал мочиться в постель:
У большинства убийц в детстве были сложные отношения с матерью или отцом или они не могли найти общего языка с отчимом. Также эти дети часто становились свидетелями или жертвами насилия.
Преступник: Когда мы куда-нибудь ездили и я мочился под себя, мне становилось очень стыдно… Когда они принялись насмехаться надо мной, я перестал писаться.
Сотрудник: Кто принялся?
Преступник: Вся семья. Они таким образом добивались, чтобы я прекратил.
Физическое насилие упоминалось в рассказах о детстве тринадцати преступников. Как сказал один из них: «Мои родители разрешали семейные разногласия криком и рукоприкладством».