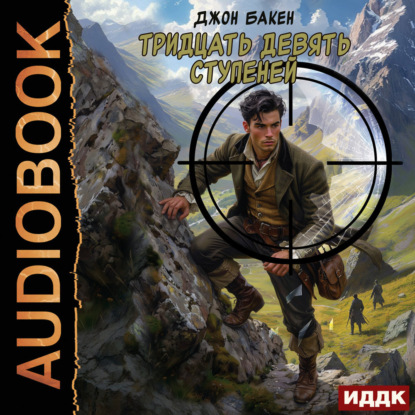Полная версия:
Джон Бакен Клуб «Непокорные»
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Едва деревня показалась в виду, я сразу заметил, что там что-то не так. Был слышен громкий гул голосов, все жители собрались вместе, держась как можно дальше от нашего лагеря. А в самом лагере, похоже, царила полная тишина. Я увидел наших стреноженных мулов, но не увидел ничего из нашего снаряжения. В такой обстановке я счел за лучшее прибыть в деревню незаметно, поэтому свернул налево, пересек лощину ниже, где она густо заросла кустарником, и вышел к нашему лагерю с южной стороны. В лагере было тихо, очень тихо. Костры для приготовления ужина погасли без присмотра, хотя парни сейчас должны были вовсю заниматься нашей вечерней трапезой, и в самом лагере я не заметил ни одного черного лица. Встревоженный не на шутку, я пошел в палатку, служившую общей спальной, и обнаружил там Эндрю, который курил, лежа на кровати.
– Что тут стряслось? – спросил я. – Где Кус, где Клембой и…
– Ушли, – коротко ответил он. – Все ушли.
Он был угрюм, устал и довольно бледен, и, похоже, дело было не в его дурном настроении, а в нем самом. Он отложил трубку и прижал руку ко лбу, как бывает, когда у человека сильная головная боль. На меня он даже не взглянул. Я заговорил с ним – быть может, несколько резко, потому что к тому времени жутко проголодался, – и несколько раз мне показалось, что он вот-вот заплачет. Худо-бедно мне все же удалось разговорить его, и вот что я услышал.
Чинить колесо повозки он закончил утром и после завтрака отправился на прогулку в лес, что рос над деревней у подножия скал. Он хотел проследить, откуда вытекает вода, и поговорить с тем, кто держал источник под своим контролем. Эндрю, как я уже говорил, был жестким молодым реалистом и, судя по реакции его семьи, ярым противником суеверий, и ему были не по душе упоминания о жреце и его тарабарщине. Долго ли, коротко ли, но, похоже, Эндрю дошел до места, где обитал священник, то был большой рондавель, что мы видели снизу; по обеим сторонам тянулось что-то вроде частокола, место было тщательно и густо огорожено, так что единственный вход вел только через рондавель. Эндрю застал жреца дома и, заверил Эндрю, вежливо переговорил с ним, попытавшись решить проблему с водой. Но старику нечего было сказать, и он решительно отказался пропустить Эндрю за ограду. Слово за слово, и Эндрю, выйдя из себя, решил прорваться силой. Жрец воспротивился, произошла потасовка, Эндрю, осмелюсь предположить, пустил в ход свой шамбок, потому что истинный голландец не станет марать руки о кафра.
Вся эта история мне не понравилась, но я не стал ни в чем упрекать Эндрю: не было смысла препираться с парнем, который и без того был похож на больного пса.
– А что было за оградой? Ты нашел воду? – спросил я.
– У меня не было времени. Там густой лес, полный всякого зверья. Говорю вам, я испугался до потери сознания и должен был бежать, чтобы спасти свою жизнь.
– Леопарды? – спросил я: я слышал, что местные вожди держат у себя прирученных леопардов.
– Да будь они прокляты, ваши леопарды! Добро, если бы то были леопарды! Я видел антилопу гну, здоровенную тварь величиной с жилой дом, рыло серое, а все остальное – зеленое-презеленое! Нет, правду говорю… Я выстрелил в антилопу и побежал… Когда я выскочил, весь проклятый крааль выл дурным голосом. Похоже, старый черт поднял всех на ноги! А я побежал домой. Нет, они не бросились за мной, но в течение получаса наша команда дала отсюда тягу. Ребята даже не стали тратить время на то, чтобы прихватить свои шмотки. О, господи, я больше не могу говорить. Пожалуйста, оставьте меня одного!..
Я невольно рассмеялся. Антилопа гну, мягко говоря, животное не слишком симпатичное, но если оно к тому же зеленое, оно действительно может вызвать ужас. Между тем причин для смеха не было никаких. Эндрю оскорбил деревню и ее жреца, расстроил хрупкие нервы наших чернокожих парней и в целом сделал место слишком жарким для того, чтобы мы смогли здесь удержаться. Эндрю столкнулся с какой-то древней магией, и, несмотря на весь его скептицизм, страх пронял его до мозга костей. Лучшее, что я мог сделать, это хоть как-то наладить мирные отношения с тем, кто торговал водой. Поэтому я разжег костер, поставил чайник на огонь, утолил голод горстью печенья и отправился к рондавелю. Но сперва я проверил, заряжен ли револьвер: я подумал, что у меня еще будут проблемы. Был тихий светлый вечер, но из лощины, где был построен крааль, доносилось жужжание, похожее на то, что издают разъяренные осы.
На пути от нашего лагеря я не встретил никого. Дойдя до дверей рондавеля, я обнаружил, что нахожусь в большом пустом помещении, примыкающем с обеих сторон к частоколу, и напротив была другая дверь, за которой виднелась тусклая зеленая тень. То был самый крепкий шерм[13] из всех, что встречались мне до сих пор. Также я увидел частокол из высоких заостренных шестов и между ними толстую стену из терновника, что переплелся с ползучим растением, украшенным алыми цветами.
Старик сидел на корточках на земляном полу, который был потерт и побит так, что стал похож на темный полированный камень. Судя по тому, насколько седа была его борода, ему было за семьдесят, но по его длинным мускулистым рукам, что покоились на его коленях, было видно, что он по-прежнему обладал немалой телесной силой. Лицо у него было не маленькое и толстое, как у обычного кафра, а правильное, как у некоторых породистых зулусов. Ныне, когда я пишу эти строки, мне приходит мысль о том, что в его жилах, по всей вероятности, текла арабская кровь. При звуке моих шагов он поднял голову, и по тому, как он взглянул на меня, я понял, что он слепой.
Он безмолвно сидел передо мной, и каждая черточка его тела выражала уныние и трагедию. У меня вдруг возникло чувство совершенного кощунства. То, что этот молодой дурак Эндрю поднял руку на старика и слепого и нарушил какое-то безобидное табу, показалось мне отвратительным. Я почувствовал, что было разрушено что-то святое, а что-то древнее и невинное жестоко оскорблено. И больше всего в ту минуту я хотел одного – возместить ущерб.
Я вступил в разговор со стариком, использовав шангаанское слово, которое одновременно означает и «жрец» и «вождь». Я сказал ему, что был на охоте и что, вернувшись, обнаружил, что мой спутник совершил великое зло. Я сказал, что Эндрю очень молод и что его ошибка – лишь следствие его глупости и молодой горячности. Я сказал – и всеми своими силами постарался, чтобы старик уверовал в мою искренность, – что сердце мое ранено тем, что случилось, что в раскаянии я склоняю свою голову во прах и умоляю лишь о том, чтобы мне было позволено совершить искупление… Конечно же, я не предлагал деньги: с равным успехом я мог бы предложить чаевые римскому папе.
За все время, что я говорил, он ни разу не поднял голову, поэтому я повторил все, что сказал. Но он сидел, по-прежнему не поднимая головы. Никогда прежде я так не говорил с кафром, но тогда, в те минуты, мне и в голову не приходило, что вот этот пожилой человек, сидевший передо мной, был кафром, потому что в те минуты он был для меня хранителем какой-то древней тайны, на которую посягнула грубая рука пришельца.
Наконец он заговорил.
– Об искуплении речи быть не может, – промолвил он. – Было совершено зло, и тот, кто его совершил, должен понести наказание.
Он произнес эти слова без малейшей угрозы. Он говорил скорее как человек, который помимо своей воли должен возвестить о предстоящей каре. Здесь он был тем, чьими устами говорил закон, и этот закон он был изменить не в силах, даже если бы захотел.
Я извинялся, я протестовал, я умолял, я просто унижался перед ним, заклинал сказать, как поправить то, что было порушено. Предложи я ему миллион фунтов, не думаю, чтобы он изменил свой тон. Он словно бы чувствовал и заставил почувствовать меня, что совершено преступление против закона природы и что не человек, а природа отомстит за это. В нем не было и малой доли недружелюбия. Более того, ему как будто пришлось по душе то, с какой серьезностью я отнесся к делу, до него дошло, как я был огорчен. Медленные фразы, что он извлекал из себя, выходили из него без малейшей горечи. Именно это произвело на меня самое ужасное впечатление: он был подобен старому каменному оракулу, повторявшему повеления бога, которому он служил.
Я ничего не мог с ним поделать, хотя не оставлял своих попыток до тех пор, пока снаружи не удлинились тени и в рондавеле не стало почти темно. Я хотел попросить его помочь мне хотя бы вернуть моих чернокожих парней и помирить меня и Эндрю с деревней, но я просто не мог произнести ни слова. Атмосфера была слишком мрачной, чтобы я мог задать хоть один практический вопрос.
Я уже было повернулся, чтобы выйти, но в дальнем конце я увидел дверь. Из-за причудливой формы утесов заходящее солнце только сейчас коснулось высоких верхушек деревьев, и свет, отразившись рикошетом, сделал ограду ярче, чем когда я только прибыл. Внезапно я почувствовал непреодолимое желание войти внутрь.
– Можно ли мне, отец, – спросил я, – пройти через эту дверь?
К моему удивлению, хозяин махнул рукой и сказал:
– Можно, потому что у тебя чистое сердце. – И при этом добавил: – Того, что здесь было, здесь больше нет. Оно ушло, чтобы исполнить закон.
С великим трепетом зашел я за эту крепостную ограду. Я вспомнил об ужасе, что охватил Эндрю, и положил руку на револьвер: мне показалось, что там, внутри, я наткнусь на некую странную фауну. Наверху было светло, а внизу царили какие-то оливковозеленые сумерки. Я боялся змей и тигровых кошек, и где-то здесь была зеленая антилопа гну, так напугавшая Эндрю!
Площадь участка составляла всего пару акров, и хотя я шел осторожно и медленно, мне понадобилось совсем немного времени, чтобы обойти его по кругу. Шерм, выстроенный в виде полумесяца на каждой стороне, тянулся далее и заканчивался там, где упирался в отвесную стену утесов. Подлесок был не очень густой, и из него тянулись высокие прямые деревья, так что лес казался какой-то старой языческой рощей. Между перистыми верхушками, если посмотреть вверх, виднелись пятна темно-красного заката, но там, где шел я, было очень темно.
Там не было ни единого признака жизни: ни птицы, ни зверя, ни треска ветки, ни шевеления в кустах; все было тихо и мертво, как в склепе. Сделав круг, я двинулся по диагонали и вскоре нашел то, что искал, – лужу воды. Источник был почти круглым, диаметром около шести ярдов, и, что меня поразило, он был окружен парапетом из тесаного камня. В центре рощи было чуть светлее, и я, вглядевшись в сооружение, понял, что каменная кладка не была возведена руками кафров. Вечер – это время, когда вода приходит в себя: днем она спит, а в темноте живет собственной странной жизнью. Я погрузил в нее руки. Вода была холодна, как лед. Она не бурлила, а как бы совершала медленное ритмичное движение, словно свежие потоки постоянно вырывались из глубин и всегда возвращались обратно. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, будь здесь хоть немного больше света, я мог бы убедиться в том, что вода кристально чиста, но то, что я увидел, представляло собой поверхность темнейшего нефрита – непрозрачная, непроницаемая, колыхавшаяся под действием какого-то таинственного импульса, исходившего из самого сердца земли.
Трудно объяснить, какое впечатление это произвело на меня. Прежде я был настроен на серьезный лад, но эта роща и этот источник вселили в меня жалкий детский страх. Я почувствовал, что каким-то образом вышел за пределы разумного мира. Место было противоестественно чистым. То было начало лета, и эти темные проходы должны были кишеть мотыльками и летучими муравьями, их должна была наполнить тысяча ночных шумов. Но все было погружено в полное и безжизненное безмолвие, мертвое, как камень, если не принимать во внимание тайного биения холодных вод.
Все! Увиденным я был сыт по горло. Смешно признаться, но я рванул вон оттуда и, шаркая ногами, прошелся через подлесок и снова вернулся в рондавель, где старик сидел на полу в позе Будды.
– Ну, видел? – спросил он.
– Видел, – сказал я, – но не знаю, что я там видел, Отец, сжальтесь над глупым юнцом!
Старик повторил то, от чего я похолодел еще в прошлый раз:
– То, что там было, ушло, чтобы исполнить закон.
Возвращаясь в наш лагерь, я бежал всю дорогу, и меня несколько раз передернуло, потому что я вбил себе в голову, что Эндрю грозит опасность. Не сказать, чтобы я всерьез поверил в его зеленую антилопу гну, но он был уверен, что в этом месте было полно всяких животных, меж тем как я точно знал, что оно было пустым. Неужели какой-то страшный зверь вырвался на свободу?
Я нашел Эндрю в нашей палатке; чайник, что я поставил кипятить, опустел, огонь погас. Парень крепко спал с раскрасневшимся лицом, и я понял, что произошло. Он был практически трезвенником, но решил проглотить добрую треть одной из наших четырех бутылок виски. Причина, принудившая его обратиться к спиртному, была, должно быть, довольно серьезной, и он выпил.
После этого дела нашей экспедиции пошли от плохого к худшему. Утром выяснилось, что у нас совсем нет воды, и я не мог себе представить, что взваливаю на плечи бутылочную тыкву и возвращаюсь в рощу. Кроме этого, не вернулись наши чернокожие парни, и все жители крааля стали обходить нас стороной. Всю ночь они ужасно шумели, завывая и стуча в маленькие барабаны. Оставаться тут не было смысла, и у меня появилось сильное желание сменить место. Пережитое прошлой ночью оставило в моей душе чувство тревоги, и мне хотелось бежать неизвестно от чего. Эндрю явно заболел. В те времена у нас не было медицинских термометров, но у него точно была лихорадка.
Итак, после завтрака мы отправились в пусть, и, должен вам сказать, тяжкое это дело, когда все приходится делать самим. Я потащил фургон, а Эндрю – южноафриканскую тележку, и, право, я не знал, надолго ли его хватит. Я полагал, что, отправившись на восток, мы могли бы нанять новых чернокожих парней и начать разведку в гористой местности над излучиной Лимпопо.
Но молва пошла против нас. Вы знаете, что кафры передают новости на сотни миль так же быстро, как по телеграфу. Как они это делают, барабанной дробью или телепатией, объясняйте, как хотите. В тот день мы наткнулись на большой крааль, но нам не удалось перекинуться с обитателями ни словечком. Вели они себя довольно угрожающе, и мне пришлось показать свой револьвер и обратиться к ним довольно сухо, прежде чем мы вышли из крааля. То же было на следующий день, и я уже начал беспокоиться насчет провизии, потому что мы ничего не могли купить – ни курицы, ни яиц, ни маиса. Очень досаждал Эндрю. Он снова превратился в первобытного хама и стал вести себя как пещерный человек. Он явно страдал, и, если бы не это, мне было бы трудно сдерживать себя.
В общем, зрелище он являл собой довольно печальное. В довершение ко всему на третье утро Эндрю свалился с ног, как бревно, с приступом малярии, жесточайшим из всех, какие я когда-либо видел. Я подумал, что у него начинается гемоглобинурийная лихорадка[14], и мой страх за здоровье парня пересилил мое раздражение. Делать было нечего. Пришлось отказаться от экспедиции и – как можно быстрее – добираться до берега. Я вышел на португальскую территорию и в тот же вечер добрался до Лимпопо. К счастью, мы встретили более вежливых туземцев, которые слыхом не слыхали о наших прежних делах, так что я смог заключить сделку со старостой деревни. Он, во-первых, взял на себя заботу о нашем снаряжении до тех пор, пока за ним не прислали, и, во-вторых, продал нам большую туземную лодку. Я нанял четырех крепких парней в качестве гребцов, и на следующее утро мы двинулись вниз по реке.
Мы провели пять хлопотных, сумасшедших дней, прежде чем я отправил Эндрю в госпиталь в Лоренсу-Маркише. Болезнь, поразившая Эндрю, слава богу, оказалась не гемоглобинурийной лихорадкой, но это было чем-то гораздо большим, чем обыкновенная малярия; на самом деле, полагаю, здесь не обошлось без менингита. Как ни странно, я испытал некоторое облегчение, когда болезнь пришла. Первые два дня меня пугало поведение парня: я думал, старый жрец и в самом деле наложил на него какое-то проклятие. Я вспомнил, сколь праздничное и торжественное чувство вызывали поляна и колодец даже во мне, и подумал, что кафры были и среди предков Эндрю, и потому он был восприимчив к тому, что оставляло меня равнодушным. Я слишком много знал б Африке, чтобы быть догматическим скептиком в отношении ее языческих тайн. Но болезнь Эндрю, казалось, объяснила многое. Его мутило от многого, что с ним происходило, и потому он так дурно поступил со стариком и вернулся, болтая о зеленой антилопе гну. Я знал, что часто в начале лихорадки человек испытывает легкое головокружение. При этом он теряет всякое самообладание, у него появляются странные фантазии… И все же я не был вполне убежден в своей правоте. Из моей головы все никак не выходил образ старика, я не мог забыть его зловещие слова и ту пустынную рощу на закате дня.
Я делал для парня все, что мог, и когда мы добрались до морского берега, худшее миновало. Постель для него устроили на корме нашей большой лодки, и мне пришлось присматривать за ним днем и ночью, чтобы он не свалился за борт прямо в пасти крокодилам. Иногда он буйствовал, потому что в безумии своем думал, что его преследуют, и время от времени мне приходилось напрягать все силы, чтобы удержать его в лодке. Он кричал, как сумасшедший, он умолял, он ругался, и я заметил, что, как ни странно, он никогда не бредил на голландском языке, а всегда на кафрском, в основном на сесуту, который он выучил в детстве. Я ожидал, что он помянет зеленую антилопу гну, но, к моей радости, этого не произошло. Он так и не понял, что его напугало, но ужас охватил его с головы до пят, потому что казалось, что в его теле дрожит каждый нерв, и я старался не смотреть ему в глаза.
Кончилось тем, что я оставил его в больничной постели. Он был слаб, как котенок, но болезнь миновала, и Эндрю снова пришел в себя. Он снова стал тем добрым малым, каким я его знал, очень деликатным, обходительным и благодарным за любое добро, что делалось для него. Поэтому со спокойной совестью я договорился о возвращении своего снаряжения и вернулся в Ранд.
* * *На шесть месяцев я потерял Эндрю из виду. Я должен был отправиться в Намакваленд, затем в Баротселенд, страну, богатую медными месторождениями, что было очень и очень непросто, не то что сегодня. Я получил от него одно письмо – парень писал из Йоханнесбурга, – не очень приятное, потому что дела у парня пошли наперекосяк. Он поссорился со своей семьей, и непохоже было, что его устраивает нынешняя работа на золотых приисках. Насколько я знал его, он был прилежным учеником, решившим преуспеть в мире и ничуть не боявшимся скучной работы и неподходящей компании. Но в письме он разворчался не на шутку. Ему очень хотелось поговорить со мной, и он думал бросить работу и отправиться на север, чтобы повидаться со мной. Письмо он закончил большой просьбой, чтобы я телеграфировал, когда отправлюсь в равнинную часть страны. Но случилось так, что я не имел тогда возможности послать телеграмму, а потом вовсе забыл об этом.
Вскоре я завершил свою поездку и прибыл в Фоллз, где купил местную родезийскую газету. Из нее я узнал новости об Эндрю – ужасные новости! Несколько заметок было посвящено убийству в бушвельде: двое отправились искать сокровища Крюгера[15], один выстрелил в другого, и, к моему ужасу, тем, кто сейчас пребывает в тюрьме в Претории в ожидании исполнения смертного приговора, оказался мой несчастный друг!
Вам, конечно, памятны дикие слухи после Англобурской войны[16] о золотом кладе, что Крюгер во время своего бегства к побережью якобы закопал где-то в стране Селати[17]. Все это, конечно, полная ерунда: хитрый экс-президент задолго до того наверняка спрятал основные средства в каком-нибудь надежном европейском банке. Осмелюсь предположить, однако, что некоторым чиновникам удалось, возможно, наложить лапы на государственную казну и спрятать кое-какие драгоценные слитки в бушвельде.
Я знал одно: Эндрю не мог пойти на такое преступление, это было просто невозможно, невероятно. Мужчины – скоты со странностями, и я бы не поручился даже за нескольких вполне порядочных парней, которых я знал, но Эндрю был явно не из их числа. Если бы он не сошел с ума, я бы никогда не поверил, что он способен посягнуть на человеческую жизнь. Я знал его довольно близко, я прожил с ним наедине, бок о бок, несколько месяцев, и я мог бы клятвенно поручиться за каждое свое слово. Тем не менее казалось очевидным, что это именно он застрелил Смита… Я отправил в Йоханнесбург самую длинную в своей жизни телеграмму адвокату-шотландцу по фамилии Далглиш, которому доверял, умоляя его перевернуть небо и землю, но добиться отсрочки приговора. Он должен был повидаться с Эндрю, а затем прислать мне подробную телеграмму о душевном состоянии бедного парня. Я подумал тогда, что версия о временном умопомрачении была, вероятно, наилучшей по линии нашей защиты, и в размышлениях наедине с самим собой уверовал в то, что лишь умопомрачением объяснялось то, что натворил Эндрю. Очень хотелось немедленно сесть в поезд и отправиться в Преторию[18], но я был привязан к месту до тех пор, пока не прибыло мое остальное снаряжение. Меня мучила мысль, что приговор приведен в исполнение и парня уже повесили, потому что та жалкая газетенка была недельной давности.
Через два дня я получил ответ от Далглиша. Он посетил приговоренного и сказал ему, что пришел от меня. Далглиш сообщал, что Эндрю был на удивление спокоен и безразличен ко всему и не испытывал большого желания вступать в разговор по делу, ограничившись лишь тем, что заявил о своей невиновности. Далглиш подумал, что Эндрю не совсем в своем уме, но того уже обследовали, и суд отклонил заявление о невменяемости. Мне он передавал привет и попросил ни о чем не беспокоиться.
Я снова телеграфировал Далглишу и получил от него еще один ответ. Эндрю признался, что стрелял из винтовки, но не в Смита. Он что-то убил, но что именно – сказать не мог. Казалось, он совсем не стремился спасти свою шею от веревки.
Когда я добрался до Булавайо, меня озарила счастливая мысль, но то, что пришло мне в голову, показалось настолько нелепым, что я едва ли всерьез воспринял собственную идею. Тем не менее я не должен был упускать ни единого шанса и снова телеграфировал Далглишу. Я попросил его добиться отсрочки казни до тех пор, пока он, Далглиш, не свяжется со жрецом, что жил на горе выше Пуфури. Я дал адвокату подробные указания, как найти жреца. Я указал на то, что старик наложил какое-то проклятие на Эндрю, и этим можно объяснить его душевное состояние. В конце концов, одержимость демонами должна быть по закону приравнена к безумию. Но к этому времени я совсем потерял надежду. Казалось бесполезным заниматься всей этой чепухой, когда виселица с каждым часом придвигалась ближе и ближе…
Я вышел на железнодорожной станции в Мафе-кинге: я подумал, что смогу сэкономить время на длинном обходе через Де-Аар, пройдя через местность напрямую. Лучше бы я остался в поезде, потому что дальше все пошло не так. Я хотел проплыть по реке Селус, но у меня случилась поломка, и пришлось прождать день в Растенбурге, а затем возникли проблемы в местечке Коммандо-Нек, так что в Преторию я прибыл лишь к вечеру третьего дня. Но к тому времени случилось то, чего я боялся больше всего. В гостинице мне сказали, что Эндрю повесили нынче утром.
Я вернулся в Йоханнесбург, чтобы повидаться с Далглишем. Сердце переполнял холодный ужас, в голове царило полное недоумение. Дьявол вмешался в это дело и стал причиной чудовищной судебной ошибки. Если бы в том, что произошло, можно было кого-то обвинить, я бы почувствовал себя лучше, но вина, казалось, заключалась только в том, что судьба двинулась по кривой колее… Далглиш мало что мог мне рассказать. Смит был обычным прохиндеем, не очень хорошим парнем, и не стал большой потерей для мира. Загадка заключалась в том, почему Эндрю захотел пойти с ним. В свои последние дни парень был совершенно апатичен, ни на кого не держал зла, казалось, он примирился со всем миром, но, похоже, совсем не хотел жить. Проповедник, посещавший его каждый день, ничего не мог с ним поделать. Со стороны он выглядел вполне вменяемым, но, кроме заявления о своей невиновности, не склонен был к тому, чтобы говорить о чем-то ином, и не оказывал помощи тем, кто пытался добиться для него отсрочки, почти не интересовался этим. Он много раз спрашивал обо мне, и последние дни потратил на длинное письмо, обращенное ко мне, которое должно было быть доставлено мне нераспечатанным. Далглиш передал мне письмо, семь страниц, заполненных четкой каллиграфией Эндрю, и вечером, устроившись на веранде перед домом, я прочел его.
Было такое чувство, словно я слышу его голос, обращенный ко мне из могилы, но я слышал совсем не тот голос, что был мне знаком. Ушел, удалился просвещенный коммерчески мыслящий молодой человек, отбросивший прочь все суеверия и способный – даже не без некоторого словесного щегольства – объяснить все, что происходит на небе и на земле. То был грубый, незрелый молодой человек, в душе которого пробудились старые кальвинистские страхи[19] и еще более древние страхи, что тянулись через века и страны от первобытных африканских теней.