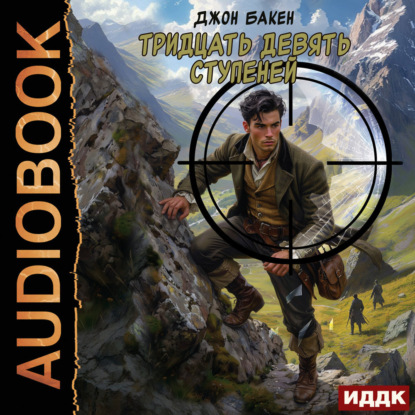Полная версия:
Джон Бакен Клуб «Непокорные»
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Джон Бакен
Клуб «Непокорные»
John Buchan
The Runagates Club
© Фельдман Е. Д., вступительная статья, перевод на русский язык, 2023
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2024
Слово переводчика, или Тринадцатый – на выход!
Дорогие читатели!
На мою долю выпало перевести книгу Джона Бакена «Клуб „Непокорные“».
Что за книга?
Что я перевел?
В книге собраны двенадцать историй. Каждый из двенадцати рассказчиков является членом клуба и главным героем одной из многочисленных книг Джона Бакена (1875–1940), которые вышли в свет до 1928 года, когда была опубликована «моя».
Также – тринадцатый член клуба, автором не предусмотренный, но присутствующий в каждой строке: переводчик.
Сейчас, набирая название – «Клуб „Непокорные“» – с удивлением обнаруживаю, что безбрежный интернет не выдает ни-че-го. Это чрезвычайно лестно: это подтверждает, что до меня книгу не переводил ни-кто.
Что у меня, переводчика, вызвало особый интерес?
Сказать по правде, не что, а кто, и не у переводчика, а просто у человека.
Сам автор, его личность, его труды и дни: как мало прожил – всего 64 года! – и так много успел.
По образованию и какое-то время по профессии – адвокат, окончил Университет Глазго. Писатель, журналист, работал в крупном издательстве. Во время Второй англо-бурской войны (1899–1902) – секретарь выдающегося колониального администратора лорда Милнера, во время Первой мировой войны (1914–1918) – корреспондент газеты «Таймс». После войны – помощник директора британского информационного агентства «Рейтер», в 1927–1935 гг. – член парламента от шотландских университетов.
Автор многочисленных статей, повестей и романов, среди которых наиболее известен «Тридцать девять ступеней» (1915), экранизированный в 1935, 1959 и 2008 гг. С 1935 г. Джон Бакен, 1-й барон Твидсмур – 15-й генерал-губернатор Канады. На этой должности и ушел из жизни в 1940 г. Человек невероятно образованный и начитанный, знаток Библии, знаток поэзии Древней Греции и Древнего Рима, знаток английской классической поэзии.
Что более всего поразило в биографии Джона Бакена? В частности то, что он оказался еще и замечательным поэтом, писавшим стихи на английском и шотландском языках. Был мастером так называемой шотландской строфы, которой наш Пушкин написал два известных стихотворения – «Эхо» и «Обвал». Сборник его стихов выдержал четыре издания и посвящен памяти брата Джона Бакена, Аластора, погибшего на фронте в пасхальный понедельник 1917 г., 9 апреля, в ходе неудачно организованного наступления.
Переводить Бакена было чрезвычайно интересно, но очень сложно. Если бы не интернет, работать пришлось бы приблизительно, поверхностно, что в отношении такого автора абсолютно недопустимо. Ни о каких «въедливых» комментариях и сносках речи быть не могло (а я так люблю комментировать!).
Попутно замечу, что у нас в Омске, в моем родном городе, где я родился, живу и тружусь, есть роскошнейшая библиотека, именуемая Омской государственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина (в просторечии – Пушкинка); так вот, в моей родной Пушкинке, насколько помню, знаменитая Британская энциклопедия появилась лишь в 1995 году. Я просиживал над ней целыми днями, не замечая времени… Сегодня волшебная благодать, именуемая интернетом, дает возможность тщательно и серьезно работать даже на Северном полюсе, было бы желание.
А что же книга?
Большой интерес вызвала История V «„Divus“ Джонстон», рассказанная лордом Ламанча, где он, лорд, а стало быть, сам автор с огромной симпатией отзывается о Ленине. Привожу отрывок в своем переводе:
«Понимал ли я тогда, сколь он велик? Нет, конечно. Для меня он был заурядным марксистом, который хотел воскресить Россию при помощи гидравлики и электрификации. Мне казалось, что он забавно сочетал в себе мечтателя и вполне земного ученого-практика. И все же я понимал, что он может увлечь за собой своих соотечественников. Я бывал с ним на встречах с русскими – я, знаете ли, говорю по-русски, – и меня поразило то, что он мог настроить свою аудиторию так, что она смотрела на него, словно голодная овца. Мне он казался человеком, преисполненным твердого мужества и полной откровенности, а также, я бы сказал, какой-то демонической простоты.»
«Демоническая простота» – как хорошо!
Больших трудов стоило перевести заглавие Истории VI. Дело в том, что ей предшествует эпиграф, цитата из шекспировского «Короля Лира» (акт II, сцена 1). В этой цитате в оригинале есть выражение «the loathly opposite», которое стало названием рассказа и которое автор использует в конце повествования в отношении одного из бывших германских военнослужащих, противостоявших британцам на полях Первой мировой войны. Я просмотрел данное место у четырех переводчиков: Александра Васильевича Дружинина (1824–1864), Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936), Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник (1874–1952) и Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960). Заявляю с полной ответственностью: никто из них это выражение не перевел! Двое суток ушло на то, чтобы найти два драгоценных слова. И нашел: «Неумолимо противостоящий».
При переводе Истории X «Tendebant Manus» вновь возникла проблема с эпиграфом: четверостишие из Альфреда Эдварда Хаусмена (1859–1936) невозможно было перевести без контекста. Но выяснилось, что стихотворение «Запад», откуда взяты строки, я перевел давным-давно, 31 октября 2005 г., и нынче могу порадовать читателя и самого себя тем, что есть повод показать перевод полностью (см. Приложение к Истории Х), что и было сделано по согласованию с редакцией издательства.
Книга «Клуб „Непокорные“» написана в жанре хоррор. На моем счету это уже второй хоррор. Первый, «Ужас Амитивилля» Джея Энсона, с 2018 г. выдержал в моем переводе семь изданий (шесть бумажных, одно электронное).
Хочу пожелать своему новому детищу того же «ужаса». Я – выдержу!
Тринадцатый – на выход!
Ваш
Евгений Фельдман
Предисловие
Посвящается леди Солсбери
Лондонский обеденный клуб – любопытный организм: он сочетает в себе великую жизненную стойкость с хамелеонской склонностью к перемене цвета. Один клуб, который начинает как прибежище гуляк, может закончить как беспорочное академичное содружество. Другой, взяв начало как место встреч разумной, интеллигентной публики, с течением времени превращается в избранный круг спортсменов. Так было с обществом, хроникером которого я являюсь. Общество изменило название, теперь это «Клуб „Четверг“», и число членов, допущенных в его ряды, выросло. Его обеды превосходны, разговор за столом возвышен и серьезен лишь самую чуточку; клуб расширяет сферу интересов и ныне не отказался бы пополнить свой список самим лордом-канцлером или епископом.
Но вначале все было по-другому. Основанный сразу после окончания мировой войны несколькими персонами, что вели странный образ жизни и захотели держаться вместе, он стал сборищем молодых людей, которые встречались только для воспоминаний и отдыха. Согласно уставу в нем не должно было быть более пятнадцати членов – именно пятнадцати, потому что дюжина, двенадцать, звучало скучно, тринадцать – число несчастливое, а четырнадцать имело неприятный привкус в связи с президентом Вильсоном и его пунктами[1]. Сперва, пока Бурминстер не взял дело в свои руки, пища и вино были отвратительны. Отсюда возникло название «Клуб „Непокорные“», данное ему Ламанчем, который заимствовал его из 68-го псалма: «…а непокорные остаются в знойной пустыне»[2].
Но все недостатки, связанные с пищей, возмещала беседа, которую вели в стиле викария из стихотворения Прейда:
Был как ручей викарий сей,Где сто речей журчали в сутки:За Магометом – Моисей,А за молитвой – прибаутки![3]Заранее невозможно сказать, какая тема может увлечь целую компанию, так что ни одна тема не осталась без выдумок и прикрас, и потому не могу себе представить, чтобы в те времена существовала какая-то иная компания, опыт и знания которой были бы столь же разнообразны. Всякий участник был экспертом на свой лад, но их знания носили столь специальный характер, что было видно: жизнь каждого из них была разнообразной до нелепости. Война сгладила привычные колеи и заставила каждого бросить вызов судьбе. Адвокат и финансист пошли в солдаты; филолог, специалист в области греческого языка, стал предводителем племени бедуинов; путешественник, пусть по-любительски, стал агентом спецслужб; журналист – командиром батальона; историк, уйдя в бродяги, увидел жизнь с новой стороны; орнитолог увидел нечто куда более опасное, чем птицы; политик проявил человеческую природу грубее, чем английский электорат. Некоторые члены клуба, такие как лорд Ламанча, сэр Эдвард Литен и сэр Артур Уорклифф, были известны публике, других же знали только в узких кругах. Но в «Клубе „Непокорные“» они были одной семьей и молились одному тотему, как давние школьные товарищи.
Добрую беседу не воспроизведешь холодной печатью. Но о тех обедах, что пришлись на время, когда клуб только зарождался, остались воспоминания, которые вполне можно уберечь от забвения, потому что все члены клуба при случае были рассказчиками. В самом деле, так сложилось, что раз в месяц кто-то из членов клуба развлекал компанию более или менее законченным повествованием. Из этих повествований я составил выборку, что ныне предлагаю вниманию моих читателей.
Клуб «Непокорные»
I
Зеленая антилопа гну
История сэра Ричарда Ханнея
Мы несем с собой чудеса, которые ищем без нас; вся Африка и ее чудеса – в нас.
Сэр Томас Браун. «Вероисповедание врачевателей»[4]Мы беседовали о постоянстве качеств, присущих всякому народу, о том, что за счет свежих прививок можно скрыть и схоронить изначальную, коренную породу на целые поколения, но наступает день, и наша исконная кровь все равно дает о себе знать. Очевидным примером тому был еврей, и Пью также мог кое-что рассказать о сюрпризах, что приносит примесь крови того, кто родился на холмах, когда он оказывается в Бехари. Пекветер, историк, был склонен к сомнению. Старые запасы, коими он обладал, могли исчезнуть совершенно, словно в результате химических изменений, и конец был бы столь же далек от начала, сколь, по его собственному выражению, вызревшая горгонзола от ведра свежего молока.
– Не верится мне, чтобы вы когда-либо были осмотрительны, – сказал Сэнди Арбетнот.
– Вы имеете в виду, что выдающийся банкир может проснуться однажды утром с огромным желанием полоснуть себя бритвой во имя Ваала?
– Может быть. Но традиция такова, что развивается скорее в худшую сторону. Есть вещи, которые без особой на то причины человеку не нравятся, есть вещи, которые особенно тревожат его. Возьмем хотя бы мой случай. Я совершенно не суеверен, но терпеть не могу переправляться через реку ночью. Предполагаю, что множество моих предков мерзавцев устраивали ночные нападения где-нибудь у речных потоков. Думаю, все мы переполнены атавистическими страхами, и невозможно сказать заранее, когда и как сломается человек, пока не узнаешь, где его такого воспитали.
– Полагаю, это похоже на правду, – сказал Ханней и после разговора побродил некоторое время, а потом рассказал нам свою историю.
* * *– Сразу после бурской войны, – начал он, – я занялся геологоразведочной работой на северо-западе Трансвааля. Я был горным инженером и специализировался на добыче меди. Я всегда знал, что медь в больших количествах можно добыть у подножия горы Зутпансберг. Конечно, западная часть представляла собой настоящую Мессину, но все мои мысли были устремлены скорее на северо-восток, где гора расщепляется у изгиба Лимпопо. В ту пору я был молодым человеком, который только что прошел двухлетнюю службу в рядах имперской легкой кавалерии, и желал найти работу получше, чем пытаться справиться с неуловимыми бурами, укрываясь за колючей проволокой на блокпостах. И когда я отправился со своими мулами из Питерсбурга по пыльной дороге, что вела к холмам, думаю, я был счастлив, как никогда в жизни.
У меня был только один белый товарищ, парень двадцати двух лет по имени Эндрю Дю Преез. Именно Эндрю, а не Андрис, потому что так звали преподобного Эндрю Мюррея, который для набожных африкандеров был великим папой. Он был из богатого фермерского рода, проживавшего в Свободном государстве[5], но члены его семьи уже два поколения селились в районе Ваккерстроом вдоль верхнего течения реки Понголы. Отец был великолепным стариком с головой, как у Моисея. Отец и все его братья прошли службу в диверсионно-десантных частях, и большинство из них побывали на Бермудах или на Цейлоне. Мальчик очень отличался от своей родни. Он был не по годам развит и окончил приличную школу в Кейптауне, а затем технический колледж в Йоханнесбурге. Он был настолько же современен, насколько остальные отсталыми, чуждым семейной религии и семейных политических пристрастий, зато глубоко погруженным в науку, настроенным на то, чтобы пробить себе дорогу в Ранд[6], который был Меккой всех предприимчивых африкандеров, и не слишком огорченным из-за того, что война должна была застать его в месте, откуда было явно невозможно встать под семейное знамя. В октябре 1899 года он получил свою первую работу в горнодобывающем бассейне в Родезии, и поскольку здоровье у него было не богатырское, у парня хватило ума задержаться здесь вплоть до наступления мира.
Мы были знакомы с ним до этого, и когда я случайно встретил его в Ранде и предложил отправиться со мной, он с радостью ухватился за предложение. Он только что вернулся с фермы в Ваккерстрооме, куда переселили остальных членов его клана, и ему совсем не улыбалась перспектива жить в лачуге с жестяной крышей с отцом, который большую часть дня проводил за чтением Библии, пытаясь понять, почему именно на его голову выпали такие несчастья. Эндрю был жестким молодым скептиком, в котором семейное благочестие вызывало острое раздражение… Он был миловиден, всегда довольно прилично одет, и на первый взгляд его можно было принять за молодого американца из-за его тяжелого бритого подбородка, пасмурного вида и по тому, как он уснащал свою обычную речь техническими и деловыми словечками. В лице его было что-то монгольское: оно было широким, с высокими скулами, глаза чуть раскосые, нос короткий и толстый, губы довольно полные. Я вспомнил, что замечал то же у молодых буров и прежде, и понял причину. Род Дю Преез из поколения в поколение жил близко от границы с кафрами, и со временем его кровь обрела долю негритянской примеси.
В нашем распоряжении были легкий фургон и запряжка в восемь мулов, а также южноафриканская тележка, которую тащили еще четыре мула. С нами были пятеро мальчишек, двое из племени шангаан и трое басуто из поселения Малитси, что находится к северу от Питерсбурга. Наша дорога лежала через Вуд-Буш, а затем уходила на северо-восток вдоль того места, где сливаются две Летабы – Грут Летаба и Клейн Летаба, и далее дорога шла к реке Пуфури. Округа была на редкость пустынной. Боевики Бейера устраивали стычки на холмах, но война никогда не переходила на равнину. В то же время это положило конец всякой охоте и геологоразведочным работам и рассеяло большинство местных племен. В результате место стало святилищем, и, увидев, что дичь здесь намного разнообразнее, чем в районах южнее Замбези, я пожалел, что отправился в деловую, а не охотничью поездку. Львы здесь водились во множестве, и каждую ночь мы вынуждены были возводить шерм для наших мулов и жечь большие костры, потому что вокруг нас не смолкали их жуткие серенады.
В начале декабря погода в Вуд-Буш соответствовала английской погоде в июне. Даже у подножий гор среди горькой полыни и диких бананов было довольно приятно, но когда мы вышли на равнину, жарко стало, как в Тофете[7]. Вокруг, насколько хватало глаз, кустарник бушвельда[8] покрывал землю так, что картина напоминала грубый лиственный орнамент, нацарапанный ребенком на грифельной доске, меж тем как там и сям баобаб неуверенно проплывал в ярчайшем свете дня. Долгое время мы продвигались вдалеке от воды и перестали видеть большую игру – вокруг нас кружили только мухи да клещи, и время от времени мимо пробегал дикий страус. Затем, на шестой день пути, после того как мы покинули Питерсбург, на горизонте показалась синяя линия гор, тянувшихся с северной стороны, которые, я это знал, были восточным продолжением Зоутпансберга[9]. Прежде я никогда не бывал в этой части страны и не встречал того, кто бывал, поэтому мы шли, сверяясь с компасом и старыми неточными картами правительства Трансвааля. В ту ночь мы пересекли Пуфури, и на следующий день пейзаж начал меняться. Мы вышли на возвышенность, и далеко на востоке нам открылись холмы Лебомбо и начали появляться кусты мопани[10], что ясно указывало на то, что эта часть страны носила более здоровый характер.
В тот день мы были всего лишь в одной-двух милях от холмов. Они были того обычного типа, что можно встретить везде от Наталя до Замбези: отвесные обрывы с нарастанием во многих местах, но сильно расщепленные лощинами и трещинами, Что меня озадачило, так это отсутствие рек и ручьев. Земля была затвердевшая, как на равнине, вся покрытая алоэ, кактусом и колючками, но нигде никаких признаков воды. Однако для того, что я задумал, место выглядело многообещающе. Повсюду, куда ни глянь, была неприятная металлическая зелень, которая обнаруживается в местности, богатой медью, так что все было словно бы пропитано минеральной краской, даже пара голубей, что я подстрелил на обед.
Мы свернули на восток и пошли по подножиям скал, и вскоре я увидел нечто любопытное. От горы отходил выступ, соединенный узким перешейком с основным массивом. Полагаю, площадь поверхности вершины составляла одну квадратную милю или около того; маленький полуостров был глубоко изрезан оврагами, а в оврагах рос высокий лес. Затем мы вышли на заросшие травой склоны, усеянные кустами мимозы и сирени. Это означало, что мы наконец-то вышли туда, где должна была быть вода, потому что мне никогда не встречались сурепица и растения с резким запахом, растущие далеко от ручья. Здесь мы решили остаться на ночлег, и когда вскоре мы свернули за угол и заглянули в место, похожее на зеленую чашу, я подумал, что редко видел более обитаемое место. Вид свежей зелени всегда опьянял меня после пыли, жары, после уродливых серых и бурых кустарников бушвельда. Внизу, на самом дне чаши, был большой крааль, а на склонах паслось множество коз и длинноногих кафрских овец. Дети гнали коров на дойку, дымились кухонные костры, и в воздухе стоял веселый вечерний гул. Вглядываясь в то, что открылось моему взору, я пытался найти ручей, но не обнаружил ни единого его признака: чаша казалась такой же сухой, как впадина Сассекс-Даунс. Кроме того, хотя там были грядки с маисом и кафрской кукурузой, я не заметил ни единого клочка орошаемой земли. Но вода там точно должна была быть, и после того, как мы определились с местом для нашего ночлега рядом с оливковой рощей, я взял Эндрю и одного из наших мальчиков и пошел узнать у тамошних людей, куда же мы попали.
Судя по всему, многие жители этого крааля прежде никогда не видели белого человека, потому что наше прибытие вызвало некоторую сенсацию. Я заметил, что здесь было очень мало молодых мужчин и необычно много старых женщин. Едва увидев нас, они тут же разлетелись, как ржанки, и целых полчаса нам пришлось ждать, терпеливо куря при вечернем солнце, прежде чем мы смогли заговорить с ними. Однако лед недоверия был взломан, и далее дела пошли вполне нормально. Это были честные миролюбивые люди, очень застенчивые, напуганные и колеблющиеся, но совершенно лишенные лукавства. Мы подарили им мотки латунной и медной проволоки, а также несколько банок мясных консервов, и это произвело на них огромное впечатление. Мы купили у них овцу по смехотворно низкой цене, и они добавили корзину с зеленым маисом. Но когда мы спросили их о воде, мы тут же попали в затруднительное положение.
Вода есть, сказали они, хорошая вода, но не в овраге и не в ручье. Они получают ее утром и вечером вон оттуда – и они указали на лесную опушку под скалами, где, как мне показалось, я увидел крышу большого рондавеля[11]. Они берут ее у Отца. Они были из племени шангаанов, и это слово использовали не в качестве обычного, каким обозначают вождя, а в отношении главного жреца или доктора.
Однако я проголодался, хотелось есть, и от дальнейших расспросов я воздержался. Я достал что-то еще из своего кафрского хлама и попросил их преподнести все это вместе с моими приветами и поздравлениями их Отцу и попросить воды для двух белых незнакомцев и пяти человек их расы, а также для двенадцати мулов. Предложение явно пришлось им по душе, потому что они сразу двинулись в гору вереницей, взяв с собой большие бутылочные тыквы.
На обратном пути я сказал Эндрю какую-то глупость насчет того, что ударил кафра Мозеса, который додумался черпать воду из углубления в скале.
Парень тут же пришел в дурное настроение.
– Нам бы лучше вздуть негодяя и вымогателя, что соорудил водоотвод, и теперь мучает этих бедняг. Он один из тех мошенников, с которым мне бы очень хотелось поговорить, вооружившись шамбоком[12]!
Через час у нас было столько воды, сколько нужно. Ею был заполнен целый ряд бутылочных тыкв, и рядом лежали подарки, что мы решили передать нашему, так сказать, поставщику. Жители деревни сдали все это добро на хранение, а затем удалились, а наши парни, которые помогли им нести его, вели себя на удивление тихо и торжественно. Мне сообщили, что Отец прислал воду в дар чужеземцам безвозмездно. Я попытался подвергнуть перекрестному допросу одного из наших шангаанцев, но он не сказал мне ничего, кроме того, что вода пришла из священного места, куда не мог проникнуть ни один человек. Также он что-то пробормотал об антилопе гну, но до меня так и не дошло, что он имел в виду. Ныне кафр – самое суеверное из Божьих созданий. На всем пути следования от Питерсбурга нам досаждали яркие фантазии, что вызывала у кафров наша одежда. То они не хотели спать в таком-то месте из-за того, что именно в это место часто наведывалась женщина без головы, то они не осмеливались пройти и ярда по той или иной дороге после наступления темноты из-за призрака, который путешествовал по той же дороге в виде катящегося огненного шара. Обычно их память была так же коротка, сколь мимолетны их фантазии, и через пять минут после препирательств они хохотали, как бабуины. Но в ту ночь, похоже, что-то в самом деле поразило их не на шутку. За ужином они не болтали и не пели, а вполголоса сплетничали и легли спать, придвинувшись как можно ближе к Эндрю и ко мне.
На следующее утро такой же ряд тыкв, наполненных водой, стоял перед нашим лагерем, и у меня было достаточно воды, чтобы вымыться в складной ванне. При этом вода была ужасно холодная – ни с чем более холодным в жизни не соприкасался я своей бренной плотью!
Я решил устроить себе день отдыха и пойти пострелять. Эндрю остался в лагере, чтобы починить колесо фургона: мулы изрядно потаскали фургон по дорогам, поросшим кустарником, и колесо сильно пострадало. Также Эндрю объявил, что после этого он намерен прогуляться и переговорить с купчиной, который торгует водой.
– Только, ради Бога, веди себя осторожнее! – попросил я. – Он, скорее всего, своего рода священник, и если ты будешь с ним невежлив, нам придется покинуть это страну. Будем считать, что это мой «пунктик» – уважение к языческим богам.
– Все вы англичане такие! – язвительно заметил Эндрю. – Вот почему вы чертовски запутались в ваших отношениях с кафрами… Но этот парень – человек деловой, и он прекрасно знает всякие штучки-дрючки, что можно проделать с коммунальными сооружениями. Одним словом, я хочу с ним познакомиться.
День, что я провел в этой местности, дикой и ароматной, был прекрасен. Вначале я побродил по низине, но не обнаружил там ничего, кроме старого следа куду и паува, которого я подстрелил. Затем я побродил по краям горы к востоку от деревни, и обнаружил, что овраги, по которым, как казалось снизу, можно было лазать, имеют странные выступы, и это меня озадачило. Я не видел способа добраться до вершины плато, поэтому после полудня занялся изучением обрушившегося ската. Следов меди там не было, потому что скала представляла собой красноватый гранит, но это было место, весело поросшее цветами, с зелеными лощинами между утесов и птицами, разнообразие которых было удивительно. Я порадовался тому, что прихватил с собой флягу с водой, потому что воды там не обнаружил. Там все было нормально, но вода явно проходила где-то под землей. Я попытался подкрасться к самцу бушбока, пестрой лесной антилопы, но спугнул и упустил его, однако подстрелил маленького оленя, похожего на серну, которого голландцы называют клиппшпрингером. С ним и с паува, повешенным на шею, я неторопливо двинул назад; самое время было поужинать.