
Полная версия:
Джезебел Морган Когда не горят костры
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Джезебел Морган
Когда не горят костры
© Морган Дж., 2024
© Оформление ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *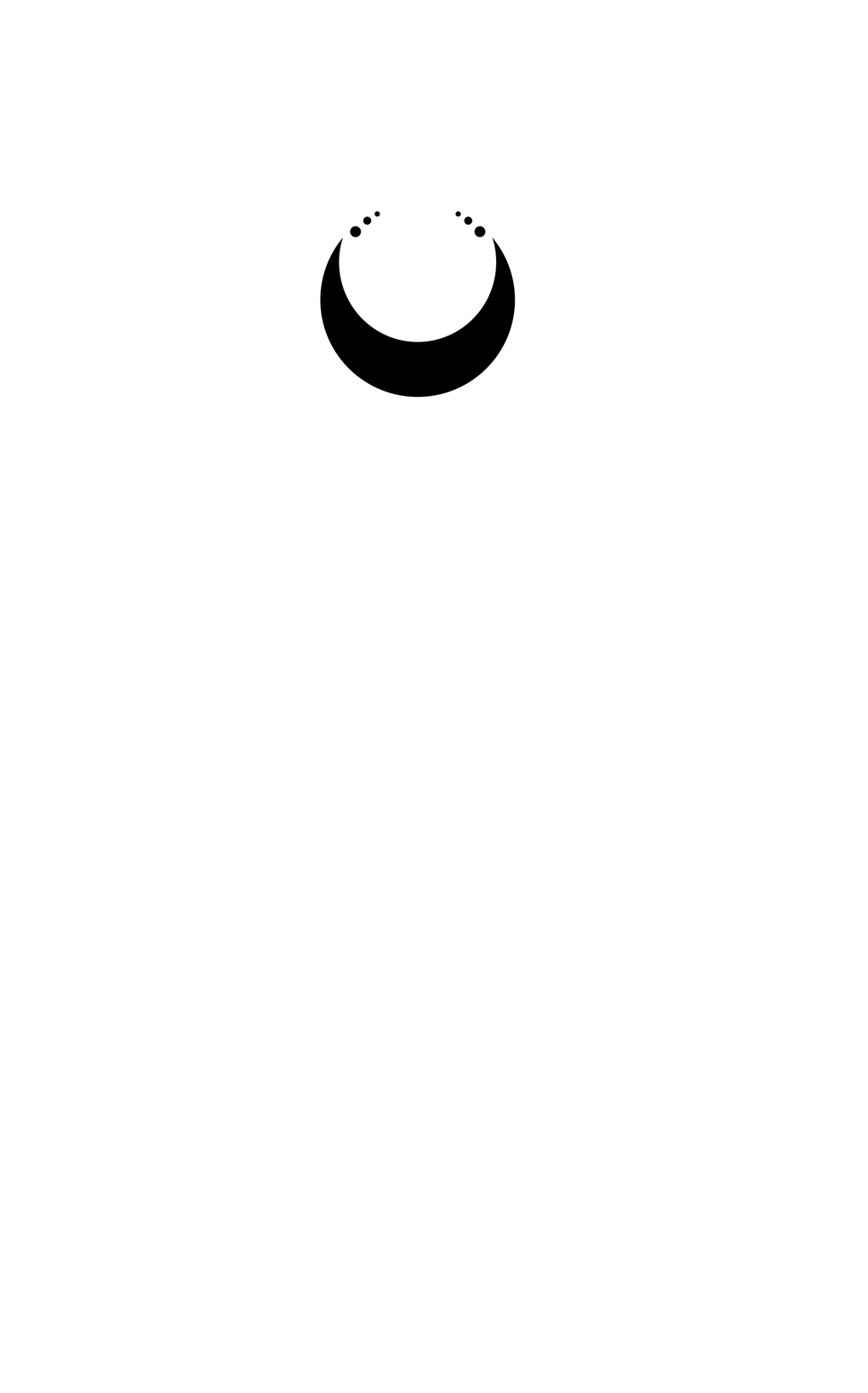
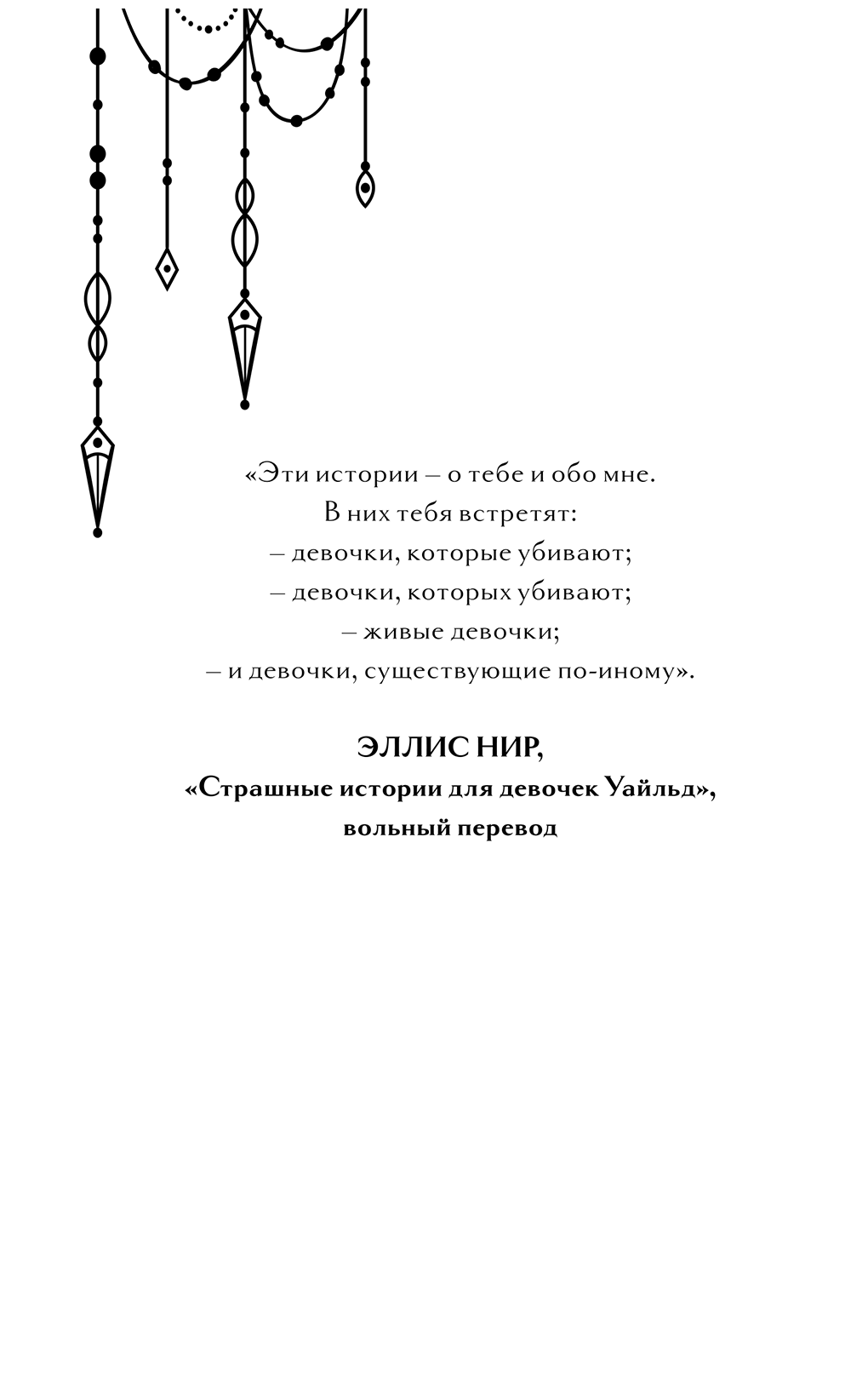

Жена моего отца
В канун Хеллоуина жена моего отца печёт пироги души – круглые, мягкие, с орехами, сушёными ягодами, с яблочным джемом. Она раскатывает тесто, и мука поднимается в воздух, и сквозь белёсую завесу проникают лучи света, ореолом окружая её лицо. Печь уже жарко натоплена, на кухне пахнет корицей и бадьяном, ванилью и кардамоном. Для праведной христианки слишком хорошо разбирается в специях – она, жена моего отца.
Я рядом. Отщипываю кусочки от теста, разминаю аккуратно, щедро добавляю ягод – горькой рябины и сушёного шиповника. Пока жена моего отца не видит – стягиваю со стола нож, которым она крест-накрест надрезает пироги. Я же режу не мягкое безответное тесто – свою плоть, бестрепетно провожу сталью по подушечке большого пальца. Слёзы брызгают одновременно с кровью, но я молчу, молчу. Жена моего отца не должна ничего заметить.
Красные капли среди красных ягод – это даже красиво. Пирог души отправляется в печь – кругленький, ладненький, желанное лакомство, да не для людей.
Она всё равно замечает. Вздыхает кротко, промывает и перевязывает ранку, мягкой рукой проводит по моим волосам, и на чёрных косах белой вуалью оседает мука.
– Осторожнее, Бригитта, – чуть нараспев говорит она, – будь осторожнее.
Она слишком добра, жена моего отца.
Но мне не нужна её доброта.
Меньше года отец горевал по матери, сколько бы она ни плакала, ни выла под окнами. Несчастная моя мать скулила у дверей, царапала косяки, оставляя на дереве глубокие борозды, заглядывала в окна, и тогда глаза её мягко светились, как две луны, скрытые рваными лохмотьями облаков. Я хотела впустить её, но отец запрещал мне, говорил, что лишь буря бушует за стенами, ветер воет, да в лживом свете луны тени деревьев скребутся по стёклам.
Мои слёзы так и не растопили его сердца, так и не убедили сжалиться и впустить матушку в дом, в тепло, к тлеющему огню в очаге. Он твердил и твердил, что мать умерла, что лежит, она, тленная, под толщей земли и серый камень давит ей на грудь.
Он врал. Я точно знаю, он врал.
Мать приходила с туманами и сумерками, ночь напролет стояла за моим окном, хранила мой сон, как берегла его раньше, сидя у кровати, слушая моё дыхание, нашёптывая сны. Она приходила в солнечные дни – стылой тенью, влажным вздохом ветра в лицо. Она была рядом, она тянула ко мне тонкие руки, но не могла ни обнять меня, ни коснуться.
Отец выкинул её из жизни, выкинул из памяти, а я оказалась слишком мала и слаба, чтобы впустить её, чтобы согреть её. И матушка стала отражением луны в толще вод.
А затем отец привел в дом её, такую тёплую, мягкую, живую, совершенно не похожую на бедную матушку, плачущую ночами у моего окна. Она зажгла свечи, вымела сор, стряхнула пыль с нашей горестной жизни.
Она стала женой моего отца.
И в её мягком сиянии тень матушки растворилась.
Стоит большого труда дождаться, когда пирог души запечётся, поспеет, подрумянится, станет хрустким, с потрескавшейся корочкой, в которой драгоценными камушками краснеют ягоды, под которыми драгоценной жертвой краснеет кровь. Но я научилась быть терпеливой. Я не мешаю жене моего отца, я слушаю её тихие песни, приношу ей пряности и ягоды, муку и орехи.
Дождаться этой ночи было сложнее.
Пока мои сверстники украшают дома, вырезают на тыквах страшные гримасы, выбирают маски, мастерят костюмы, пока смеются и шутят, пока радуются и живут – я изображаю радость и жизнь. Вместе с женой моего отца украшаем дом: она – свечами, тыквами и гирляндами костяных бусин, я – кружевом паутины, светящейся белизной куколок-призраков и веточками рябины. Отец же сидит у камина, улыбается довольно, он не чувствует ядовитой горечи в приторном счастье нашей жизни.
– Кем ты нарядишься, Бригитта? – спрашивает жена моего отца, когда последняя порция пирогов отправляется в печь и она довольно выпрямляется, отряхивая муку с мягких округлых ладоней. – Ведьмой или призраком? А может, тёмным жнецом?
Матушка никогда не рядилась на Хеллоуин, никогда не ходила в канун Дня Всех Святых по соседям, улыбаясь по-змеиному, требуя сладостей и грозя гадостями. Самую таинственную ночь в году она встречала, не пряча лицо под маской, не прячась от чужих взглядов, даже если глядят они с той стороны.
Она и меня этому научила.
Но я не говорю об этом жене моего отца – это слишком кощунственно, обсуждать мою матушку с нею. Остается улыбаться и отвечать, как отвечала бы гостям из пустых холмов – мешая правду с ложью, не говоря ни того, ни другого.
– Мой костюм страшнее, но никто из соседей не сможет узнать, кем же я нарядилась.
– Вот как? А покажешься ли нам с отцом в этом костюме, Бригитта?
Она так пытается отогреть меня добротой и участием, нежностью и тактичностью, что обжигает до волдырей. Остается только пятиться в тень и молчать, молчать на все вопросы.
Не дождавшись ответа, она отступает.
Когда часы на городской ратуше бьют шесть, из оврагов начинает подниматься туман, густой, белый в синеву. Ветер проносится по улицам, словно проверяя, насколько хорошо горожане украсили дома и сады, закручивает в вихрь жёлтые и красные листья, стучит костями развешанных скелетов, путает гирлянды, рвёт туманную кисею. Солнце медленно опускается в матовую дымку облаков, наливается ржавой краснотой, что твоя рябина у крыльца.
Мягкий бархат неба ещё не успевают усыпать колючие осенние звёзды, когда зажигаются звёздочки на земле – мягкие, тёплые, трепещущие. Это теплятся огоньки свечей на подоконниках и в тыквах-джеках, на перилах веранд и в руках ряженых детей.
Свечи в своей комнате я задуваю. Отражение в зеркале перечёркнуто длинной тонкой трещиной, и кажется, что если долго-долго смотреть на неё, она станет чернее и шире, пока не поглотит всё отражение и меня вместе с ним. Но я не смотрю в зеркало. Мать учила, что на эту ночь отражение обретает волю, и если неосторожно взглянуть ему в глаза, то можно лишиться власти над собой.
Расплетаю косы, долго вычёсываю их, пока волосы мягким плащом не укрывают спину. Холодный серебряный крестик ложится на столик у кровати, рядом с Библией, покрытой толстым слоем пыли. Колючий венок из сухих веточек, виноградной лозы и кистей рябины венчает меня короной. Не нужно мне ни маски, ни костюма, чтоб скрыться от гостей из полых холмов или с другой стороны реки. Сегодня я одна из них.
Сегодня я иду повидать мать.
Пусть сверстники смеются и шутят, объедаются липкими конфетами, мягкими пирогами, нежными зефирками, пусть чествуют Хеллоуин, усыпанный кривыми ухмылками тыквы-джека. Я же иду навстречу Самайну, и пути наши не пересекутся.
Тихо и незаметно выскальзываю из дома, в одной руке у меня фонарь, другой же я прижимаю к груди гостинец для матери, пирог, что пекла сегодня, украшая ягодами, приправляя кровью. Чем же ещё мне её порадовать, замёрзшую и забытую?
Я спускаюсь по тихим мощёным улочкам, прочь от центральной площади, от ярмарки и праздника. Ветер утих, и туман поднимается выше и выше, обнимая и дома и деревья, пряча огоньки свечей, яркие гирлянды, разноцветные листья под ногами. Я бреду по колено в белёсой дымке, плыву над ней, и огонёк фонаря в моей руке крошечной звёздочкой светит в молочном мареве. Стылый холод течёт по воздуху, а высоко над головой, под самыми облаками ветер гудит и воет, как рога Дикой Охоты.
Брусчатка скользит под туфельками, подбитые каблучки едва слышно цокают по камням. Мне холодно, как же мне холодно, матушка никогда не предупреждала, что в ночь Самайна воздух настолько стылый, что дыхание густым облаком вырывается изо рта и только множит туман. Моя единственная искра тепла – пирог души, прижатый к груди, ещё хранящий в себе память о жаре печи. Я крепче и крепче сжимаю его, фонарь в руке дрожит, и неровный круг света пляшет вокруг меня.
Смутные тени маячат впереди, двигаются медленно и величественно, то ли деревья степенно качают ветвями, то ли гигантская тварь, рогатый хозяин лесов вышел к городской околице, привлечённый шумом празднества и пряными ароматами тыквенных пирогов. Тени носятся вокруг меня, смутные, размытые, пытаются схватить, удержать, не пустить. Вздохи и стоны за моей спиной, чужие руки тянутся ко мне, но не могут и плеча коснуться. Слышу протяжное «стой», слышу отчаянное «не иди», но морокам меня не напугать. Рябина в колючем венце надёжно защищает меня, красные горькие ягоды никому не позволят причинить вред – так матушка учила меня, так и будет.
Этой ночью я иду к ней, я несу ей тёплое лакомство, чтоб дало оно ей сил вернуться в наш дом и прогнать жену моего отца.
Фонарь гаснет в руке, и ветер взвывает вокруг, вздохом-хохотом разрывает завесу тумана, ненадолго обнажая холодную синеву густых сумерек. И впереди, там, где дорога сбегает к оврагам, а брусчатка сменяется песчаной насыпью, стоит моя матушка.
И я иду к ней.
* * *Лампы мигают, и Мария хмурится недовольно – ветер сегодня такой, что того и гляди непогода разразится. В бурю при свечах-то сидеть удовольствие небольшое. Но сейчас, пока канун Дня Всех Святых в разгаре, свечи только в радость, а пламя в камине так уютно, так вкусно потрескивает берёзовыми поленьями.
На тяжёлом кухонном столе в мисках лежат сласти – и кругленькие пироги души, щедро усыпанные ягодами и цукатами, и леденцы, разноцветные, блестящие, как стёклышки, окатанные морем, и кексы с шоколадной начинкой. Мария смотрит довольно – ей в удовольствие возиться с выпечкой, перетирать специи, соединять простое, чтоб получить сложное, сладкое, необычное. Малая часть божественного творения, доступная женщинам, – лишь подобие великого, но Мария большего и не просит. Мысли её просты: вернётся Бригитта, будет хвалиться добычей, не чувствуя в детском восторге оков холода на руках и ногах, и потому нужно согреть молока с корицей и имбирём, чтоб пила она, грела ладони и оттаивала, розовея щеками, блестя глазами.
Как бы хотела Мария, чтоб так же легко могло оттаять и сердце маленькой падчерицы! Но она безукоризненно вежлива, равнодушна и холодна. Только и остаётся, что ждать да читать ей псалмы – раз недостает верных слов Марии, может, найдутся такие у царя Давида.
Когда она заканчивает перетирать специи для молока, ветер уже бушует со страшной силой, и начинают тонко дребезжать стёкла в рамах. Неспокойно делается, дрожат огоньки свечей. В каминной трубе гулко и страшно воет эхо, словно кто-то подшутить решил, да и вставил в щели бутылочные горлышки. Замирает Мария, смотрит на руки, на специи в ступке – чудится ей голос в ветре, женский голос, что повторяет и повторяет одну и ту же фразу, а какую – не разобрать.
Муж дремлет в гостиной с книгой в руках, ему спокойно, сытно и тепло, он не замечает хеллоуинской бури, как не замечал и тоску дочери, а до того – болезнь жены. С подступающей ночью Мария один на один.
Лампы мигают и гаснут, свечи истаивают одна за другой, оставляя только тонкие росчерки дыма. Ветер стучится в окна и двери, ломится в дом, но запоры крепки, и крест на стене не позволит никакому злу просочиться внутрь. За окном скулит, воет так отчаянно, нечеловечьи, так разумно, как не может выть и скулить всего лишь разгулявшийся ветер. Холод обнимает шею Марии, проскальзывает за шиворот, и она зажмуривается и молится, повторяя и повторяя «Pater noster», намертво въевшееся в разум ещё в детстве.
Когда старые часы в холле бьют девять раз, по стеклу стучат. Тук-тук. Тук-тук-тук. Так не могут стучать ветви, да и не растут деревья так близко к дому. Тук-тук. Подойди, Мария. Посмотри, кто пришёл к твоему дому, посмотри, кого сдерживают не двери и запоры – крест на твоей стене. Тук-тук. Тук-тук-тук. Или ты боишься, Мария? Что ж не боялась, когда хозяйкой вошла в этот дом, дом ведьмы?
Тук-тук.
Тук-тук-тук.
Мария сбивается, слова раскатываются с языка, непослушными бусинками разбегаются из-под пальцев – из памяти, стоит только потянуться за ними. Она немеет – всего на минуту или меньше, но этого достаточно, чтоб разобрать скрипучий человечий шёпот среди завывания ветра.
Тук.
«Мария…»
Тук-тук-тук.
«Послушай меня, Мария…»
Тук-тук.
«Впусти меня…»
Сжав прохладной ладонью деревянный крест на груди, Мария подходит к окну, отдёргивает шторы, не позволив себе усомниться и испугаться. Сегодня канун Дня Всех Святых, сегодня может быть что угодно.
Мария никогда не видела мать Бригитты, не было ни чёрно-белых фото с нею, ни портретов, да и муж отвечал на вопросы уклончиво, а сама Бригитта враждебно молчала, и Мария смирила своё любопытство. Но сейчас Мария узнаёт её с первого взгляда – мёртвую Бадб.
Она стоит – у самых окон, высокая, неестественно прямая, чёрные волосы плещутся на ветру рваным стягом, и вороньи перья мелькают в них. Руки – тонкие, исхудалые, нечеловечьи длинные, с загнутыми когтями хищной птицы. А лицо – худое, белое, острый подбородок, узкие губы, и над ними чёрный, лаково-блестящий вороний клюв, и глубоко сидящие ягодки-глаза, и перья от них вразлёт.
Смотрит Мария и думает – маска не по размеру, а сердцем знает уже – никакая не маска. Мёртвая Бадб, женщина-ворона стоит под стеною дома, стучит когтями в окна, не каркает – скрипит, и ветер бушует вокруг неё. Она поднимает к Марии маленькие блестящие глаза, говорит, губы и клюв двигаются вместе, жутко и страшно, и к женскому низкому голосу примешивается воронье карканье:
– Открой дверь, Мария.
И:
– Впусти меня в мой дом, Мария.
И:
– Спаси мою дочь, Мария.
Крест падает со стены.
Она входит – чёрная, ледяная, нездешняя, руки её пусты. Стоит в дверях и твердит:
– Помоги мне, Мария.
И:
– Спаси мою дочь, Мария.
Мария уже не слышит, взбегает по лестнице, подхватывает лампу со стеллажа, зажигает трясущимися руками. В комнате Бригитты тихо и пыльно, словно не час назад она ушла, а исчезла, растаяла со смертью матери. Пахнет ягодами, травами и бедой, серебряный крест почернел. Мария поднимает его, и тёмные вязкие капли стекают по металлу, лужицей собираются на столе.
Кровь.
Мария оборачивается, и женщина-птица уже стоит за её спиной, всё так же в дверях, не переступив порога комнаты.
– Спаси мою дочь, Мария.
Мария сжимает крестик падчерицы, липкая холодная кровь пятнает пальцы.
Сегодня канун Дня Всех Святых, сегодня мёртвые выходят говорить с живыми, обнимать живых, убивать живых. У Марии ладони холодеют от страха, сердце заходится в тоскливой аритмии – где юная Бригитта, что с нею стало, раз даже мёртвая мать явилась за помощью к живой мачехе?
Грех – якшаться с тёмными духами и мёртвыми ведьмами, но оставить ребёнка в беде – грех куда больший.
– Веди меня, – шепчет Мария, и Бадб исчезает.
Крест Бригитты Мария надевает поверх своего, и плотная белая блуза на груди тут же пропитывается кровью, пятно растекается по ткани, словно от выстрела, от безжалостного удара. На плечи – плащ, прикрыть домашнюю одёжку, в карманы – пироги и леденцы: откупиться от духов, швырнуть им в лицо подачку, чтоб успеть проскользнуть мимо. Пока она собирается, Бадб постоянно рядом, то в коридоре, то снаружи, за окном, то за спиною, в гостиной, где ещё тлеют угли в камине. Исчезает и появляется, неподвижная, и всегда, всегда за порогом комнаты.
Мария сбегает по крыльцу, мимо тыкв с погасшими свечами, мимо оборванных гирлянд и разбитых цветочных горшков. Ветер бросает в лицо сухие листья, гонит по небу лохмотья туч, взрезанные костяным серпом месяца. Бадб рядом – не идёт, не скользит, а маячит, видимая краем глаза, обернёшься – и исчезает. Длинное платье её отсвечивает то в синь, то в зелень, а сквозь прорехи видна кожа, белая, как луна среди облаков. Мария сжимает губы, удерживая на кончике языка молитву – взывать к Отцу рядом с мёртвой ведьмой и страшно и неправильно.
А Бадб шепчет:
– Поторопись, Мария.
И:
– У нас мало времени, Мария.
И:
– До полуночи до́́лжно найти Бригитту, до рассвета – вернуться.
Голос её, густой, жуткий, сплетается с ветром, звучит сразу со всех сторон. Мария дрожит, то ли от холода, то ли от страха, руки её, сжимающие плащ на груди, мелко трясутся. Тьма впереди становится матовой, густой и текучей, туман поднимается от земли, захлёстывает с головой.
– Откуда вернуться?
Мария думает, что уже знает ответ, и на душе темно от этого знания. В тумане голос её звучит тяжело и глухо, как мог бы звучать под высоким каменным сводом, повторяясь и повторяясь вместе с эхом.
Бадб молчит. Мария озирается, ищет спутницу, шарит в тумане ладонью. Неужели она предала меня? Неужели завела мёртвым тварям на поживу и бросила? Неужели всё это ловушка? И Бригитта – тоже?!
Она оборачивается, и Бадб стоит прямо перед ней, смотрит в лицо глазами-бусинками, тусклыми, не отражающими света. Марии едва хватает сил, чтоб не отпрянуть с именем Господа на устах.
– На изломе года бойся не мёртвых, – каркает ведьма, меж тонких белых губ мелькает чёрный язык, – бойся тех, кто никогда не жил.
– Куда мы идём? – пересилив страх, Мария хватает женщину-птицу за плечи, и вместо грубой ткани под пальцами скользят жёсткие перья. – Откуда мы должны будем вернуться?
Бадб медленно, словно через силу, качает головой. Вся она – печаль, отчаяние и любовь.
Она говорит:
– Доверься мне, Мария.
И:
– Иди за мной, Мария.
И:
– Спаси мою дочь, Мария.
И Мария верит. Идёт в густой туман, в холодную самайновую темноту за мёртвой ведьмой. Ей только и остаётся, что украдкой крошить пироги души на землю, отмечать тропу сквозь безвременье и надеяться отыскать по ней путь обратно.
* * *Иголочки тиса шелестят под моей ладонью, а ягоды, стоит их задеть, каплями крови скатываются под ноги. Матушка маячит впереди, ведёт меня и ведёт, дальше от города, в лес, к озёрам, к старым камням и старым могилам.
Мне бы крикнуть «Постой!», мне б окликнуть её, дотянуться до неё, да не осмеливаюсь, не решаюсь связать её звучанием живого имени. Иду и иду в темноту, земля проседает под каблучками, мох мягчайшим ковром пружинит под ногами. Дальше и дальше, к холмам и вересковым пустошам, за тенью, чьи глаза мерцают, как луны в прорехах туч.
Фонарь я бросила ещё в пригороде, и теперь двумя руками прижимаю пирог души к груди. Почему матушка не остановится, не заберёт подношение, не преломит со мной хлеб, не вернётся по моим следам? Почему ведёт дальше и дальше?
Туман оседает к корням кряжистых деревьев, нежно обнимает ноги, но поднимается не выше щиколоток. Стыло, стыло и жутко. Едва заметно блестит паутина – тонкие нити, унизанные каплями, даже в темноте – слишком тёмными, чтобы быть всего лишь росой. Распущенные пряди то и дело цепляются за низкие разлапистые ветки, натягиваются до боли, до слёз из глаза, словно незримые духи, выглядывая из коры, из глубины вековых колец, острыми пальчиками, крошечными коготочками вырывают мне волосы, чтобы свить из них что-то – гнездо ли, паутину ли.
Стыло. Стыло, жутко и холодно, даже слёзы не текут, в уголках глаз замерзают. Кажется, от матушки веет зыбкой стужей, от которой листья белеют, и трава покрывается иголочками инея. Кожа её бела, белее ледяного месяца в небесах, и мягко сияет среди темноты, нежно и ясно, так, что и фонаря не нужно. Матушка оглядывается, манит меня, молчит и улыбается, и я стараюсь улыбнуться в ответ, да замёрзшие губы не слушаются.
Как же прекрасна она, моя матушка! Как же тонка, как же бледна, как же черны её волосы, плащом скользящие по спине, и ни одна ветка, ни один куст не смеют коснуться её колючими лозами! Перед ней расступаются вековые деревья, травы покорно стелются под ноги, ложатся спиралями, подобными древним знакам на камнях.
Она выводит меня на вересковые пустоши, розовато мерцающие в темноте, словно звёзды с неба осыпались и блестками замерли среди отцветших веточек. Я узнаю места, я узнаю дорогу к старым развалинам и могилам. Как же мы так быстро сюда попали, какими тайными тропами срезали путь, где и у кого взяли взаймы часы и минуты, что выстелили нам дорогу к аббатству?
Под пустым сводом, на пороге без дверей матушка останавливается и ждёт меня. Тянет ко мне тонкие ладони, и холод становится нестерпимым, скользит по плечам со змеиным шелестом, обвивает горло. Веточки венка обрастают инеем, и обледеневшие ягоды рябины беззвучно падают под ноги, одна за другой.
Матушка улыбается. Тени сгущаются за её спиной, у них узкие глаза, ледяные, как далёкие искорки звёзд, длинные когтистые руки, покрытые зеленоватой корой тела. В мягком сиянии матушки они – тёмные, ожившие древа, засохшие, истощённые, жаждущие. Они толпятся в темноте среди руин, они ждут, когда я подойду ближе.
Матушка улыбается, и губы её растягиваются в жуткую зубастую гримасу, подобную той, что больше года назад мы вырезали на самой большой тыкве из урожая.
Матушка? Что с тобой, матушка? Но слова не идут из горла, язык бесполезной тряпочкой застыл во рту, губы спеклись в колючую корку.
Только в ладонях ещё тлеет уголёчек тепла, драгоценная искорка домашнего уюта, которой не страшен могильный холод безымянных гостей из-под холмов.
* * *Туман мягок, как взбитая перина, но Мария не верит в хеллоуинские обманки, крошит и крошит пироги под ноги. «Если не тропу отмечу, то хоть духов умилостивлю», – думает она и шагает ровно и уверенно, ни камни под ногами не скользят, ни трава не проседает. Чёрная Бадб впереди разрезает собой матовую белизну марева, только и видно, что мелькание перьев то в ворохе волос, то в подоле платья.
Где идут они? Не различить примет, всё сокрыл туман, только и можно ловить носом запахи, да пытаться разгадать, где мёртвая ведьма ищет свою дочь. Вот влажный, тяжёлый, пряный запах старых деревьев, вот кисловатый – подгнившего мха да лишайника, вот свежий и чистый – с бездонных озёр. Древнее, равнодушное, не знающее слова Божьего обступает со всех сторон, не то давит, не то наблюдает.
– Что с Бригиттой? – спрашивает и спрашивает Мария, но женщина-птица молчит.
– Что с Бригиттой? – твердит Мария, и имя падчерицы ей заменяет молитву. Ты грешишь, Мария, говорит она себе, покайся, Мария, и спеши домой, пока не поздно, не следуй за ведьмой, не следуй за мёртвой ведьмой, не следуй за первой женой своего мужа. Разве осмелилась бы Ева ступать след в след за Лилит?
«Что с Бригиттой?» – спрашивает у себя Мария и продолжает идти за Бадб. «Что с Бригиттой?» – твердит себе Мария и шагает быстрее. «Что будет с Бригиттой, если я отступлюсь?»
Мария запрещает себе даже думать об этом.
Может, в её сердце недостаточно любви, чтоб отогреть заледеневшее сердце девочки, но её хватит, чтоб не оставить Бригитту среди стужи хеллоуинской ночи.
В небесах гудит ветер, несёт тучи, несёт жутких воздушных змеев, сорванных с привязи у ферм. Непролитый дождь застывает в воздухе, обращается в колючие кристаллы, что белой манной лягут на землю, скроют следы ночи излома года.
Мария не может вспомнить такой же холодной осени.
Надеется и эту – не вспоминать.
Бадб впереди замирает, туман тут же обступает со всех сторон, пряча и тропу под ногами, и небеса в колючей россыпи соляных крупинок-звёзд. Даже запахов не остается. Только косматые тени клубятся, снуют вокруг, словно падальщики, поджидающие свою трапезу.
Мария не сразу замечает, как мелко и часто вздрагивают плечи Бадб. Мёртвая ведьма стоит прямо, гордо вздёрнув голову, только когти сжимаются и разжимаются, словно пытаются схватить кого-то, да не могут. Подходить к ней страшно, прикоснуться к ней немыслимо, но стоять в густой молочной тишине, пока вокруг разворачивается ночь кануна Дня Всех Святых, ещё страшнее.
Ладонь ложится на чёрные жёсткие перья, влажные и прохладные, словно их хозяйка летела сквозь бурю – а может, так и было, и что для живой христианки туман сомнений, для мёртвой ведьмы – шторм древних, непознаваемых, безымянных сил. Бадб оборачивается через силу, на матовом жутком клюве – белые отблески марева.
– Я больше не слышу зова дочери, – почти беззвучно говорит она. Человечьи губы кривятся жалко, как у плачущей, но воронье лицо спокойно и безучастно, глаза-бусинки глядят не моргая. – Я больше её не слышу.
Сердце Марии сжимается, у самых ног распахивает пасть бездонная пропасть горя, но с губ сами собой скатываются тихие слова псалма, даруя не утешение, но надежду. Бадб слушает, склонив голову.





