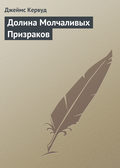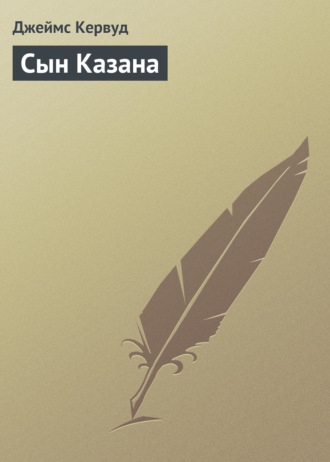
Джеймс Оливер Кервуд
Сын Казана
Глава XVI
Нипиза проявляет характер
Было начало августа, когда Пьеро возвратился из Лакбэна, и до дня рождения Нипизы оставалось всего только три дня. Ей должно было исполниться семнадцать лет. Он принес ей с собою много подарков, а именно: ленточки для волос, настоящие городские башмаки и, самое главное, чудесную красную материю на платье. За те три зимы, которые Нипиза провела в школе у двух почтенных англичанок при английской миссии в Нельсон-Хаузе, эти дамы научили ее многому. Они выучили ее читать и писать, преподали ей кое-какие сведения по домашней медицине, а главное – научили ее шить; часто Нипиза испытывала искушение одеваться так же, как и они. Поэтому она сама проработала над платьем целых трое суток и в самый день своего рождения предстала перед своим отцом в таком виде, что он даже ахнул. Она сделала себе прическу точь-в-точь такую же, какой ее научила Ивонна, младшая англичанка, причем воткнула себе в волосы еще и ярко-красный живой цветок. Под этой прической ярко светились глаза, пламенели щеки и губы, а затем шло это знаменитое красное платье, плотно облегавшее ее красивую фигуру и сшитое по той моде, какая была два года тому назад в Нельсон-Хаузе. Ниже платья, далеко не доходившего до пола, виднелись настоящие чулки, а еще ниже – изумительные ботинки на высоких французских каблуках! Она представляла собою башню, перед которой должны были бы с замиранием сердца склонить свои головы все лесные духи. Не произнося ни слова, а только улыбаясь, Пьеро вертел ее во все стороны; но когда она вышла от него в сопровождении Бари, неловко ступая в немного тесных башмаках, улыбка сошла с его лица, и оно по-прежнему стало холодным.
– Mon Dieu! – прошептал он по-французски, и пришедшая ему в голову мысль заставила больно сжаться его сердце. – Она не в мать! Нет, нет, в ней совершенно нет ни капельки материнской крови. Она – чистокровная француженка!
Пьеро был очень озабочен. За эти три дня, пока Нипиза шила себе платье, она была слишком возбуждена, чтобы заметить в нем эту перемену, и Пьеро несколько раз пытался оторвать ее от шитья. Он отсутствовал целых десять дней и принес Нипизе из Лакбэна радостную новость о том, что Мак-Таггарт заболел очень серьезно, что у него действительно заражение крови, и Нипиза от радости весело захлопала в ладоши. Но он знал, что фактор все-таки поправится и все-таки опять явится к ним сюда на Серый Омут. А это будет очень скоро…
Всякий раз, как это приходило ему на ум, лицо его принимало серьезное выражение и глаза вспыхивали. Он вспоминал об этом и в день ее рождения, когда в его ушах звучал ее радостный смех. Dieu! Несмотря на свои семнадцать лет, она все еще была малым ребенком! Она даже и не подозревала того ужаса, который ее ожидал. И боязнь разбудить ее от этого прекрасного детства мешала ему рассказать ей все, по правде, так, чтобы она поняла все и целиком. Нет, этого не могло бы быть никогда! Его душа была преисполнена к ней великой, нежной любви. Он – Пьеро Дюкэн – не позволит себе этого никогда. Пусть она смеется, поет и играет и пусть даже и не подозревает о тех мрачных предзнаменованиях, которые испортили бы ей жизнь.
В этот день с юга прибыл губернский таксатор Мак-Дональд. Он был сед и сгорблен, громко и весело смеялся и представлял собою доброго, чистосердечного старика. Он прогостил у Пьеро два дня. Он рассказал Нипизе о своих дочерях и о доме, об их матери, которую он очень любил, и перед тем, как отправляться далее на землемерные работы по дремучим лесам и болотам, он снял с Нипизы фотографический портрет; он снял ее такою, какою она была в день своего рождения: с высокой прической, в новом красном платье и ботинках на высоких французских каблуках. Негативы он взял с собой, пообещав Нипизе, что как-нибудь при случае пришлет ей с них отпечатки.
Так судьба в своих странных и, по-видимому, совершенно невинных путях ткет события, из которых впоследствии образуются целые трагедии.
Несколько недель после этого протекли в хижине у Серого Омута вполне тихо и мирно. Это было счастливое время для Бари. Сначала он подозрительно относился к Пьеро, затем стал его только терпеть и наконец стал считать его необходимым придатком к хижине и к Нипизе. За Нипизой же он следовал как тень. Пьеро с большим удовлетворением заметил в нем эту к ней привязанность и оценил ее.
«Что, если бы, – подумал он, – месяца через два эта собака смогла бы броситься на фактора и перегрызть ему горло!»
В сентябре, когда Бари исполнилось полгода, он был уже такого роста, как и Серая волчица; могучий, длиннозубый, широкогрудый, с такими челюстями, что мог бы перегрызть не только кость, но и целое полено. Нипиза не могла сделать ни одного движения, чтобы он тотчас же не принял в нем участия. Они вместе плавали в пруду. В первое время Бари очень беспокоился, когда она стремглав бросалась в воду с того самого места, откуда она спихнула и Мак-Таггарта, но к концу месяца вместе с нею спрыгивал уже и он, пролетая в воздухе чуть не целых двадцать футов. В конце августа он впервые познакомился с представителями своей породы, если не считать Казана и Серой волчицы. На все лето Пьеро отвозил своих собак на небольшой остров посреди лесного озера, чтобы они могли там бегать на свободе, и два раза в неделю, за целые три мили от хижины, возил им туда рыбу, которую ловил сетью. В одной из таких прогулок Нипиза сопровождала своего отца, захватив с собою и Бари. Пьеро нарочно взял с собою ременную плеть, предполагая, что будет драка. Но ничего подобного не произошло. Бари тотчас же присоединился к стае и стал вместе с нею есть рыбу. Это очень понравилось Пьеро.
– Из него выйдет отличная ездовая собака, – сказал он с одобрением. – Хорошо бы его, Нипиза, оставить здесь с собаками хоть и на недельку.
Нипиза с сожалением согласилась. Пока еще собаки были заняты едой, они незаметно отправились домой. Их лодка так тихо отплыла от берега, что Бари даже и не заметил, как они его провели. Тотчас же он бросился в воду и поплыл за ними, и Нипиза помогла ему потом взобраться в лодку.
В начале сентября проходивший мимо индеец сообщил Пьеро кое-что о Буше Мак-Таггарте. Фактор был очень болен. Он чуть не умер от заражения крови, но теперь уже чувствует себя хорошо. Эта новость очень огорчила Пьеро, но о том, что было у него на уме, он ни одним словом не обмолвился перед Нипизой. А она уже совершенно позабыла о факторе из Лакбэна и наслаждалась дикой красотой северного бабьего лета. Она отправлялась на далекие прогулки с Пьеро, помогая ему расставлять на зиму силки для зверей, и в этих прогулках ее неизменно сопровождал и Бари. В свободные часы она приучала его к запряжке. Понадобились целые дни, пока Бари научился безропотно таскать за собой на ремне деревяшку и в то же время не кусать ее и не ворчать. Тогда она прикрепила к нему ремень еще и с другой стороны и заставляла его таскать за собою уже две деревяшки. Так мало-помалу она приучила его к санной упряжи, пока наконец недели через две он не стал выбиваться из сил, чтобы стащить с места все, что только ей было угодно. Тогда Пьеро привел с собой с острова двух собак, и Бари стали запрягать вместе с ними, и он помогал им возить по лугу пустую тележку. Нипиза была в восхищении. А когда выпал первый снег, то она захлопала в ладоши и крикнула Пьеро:
– Ну, и покатаюсь же я на нем в эту зиму!
Наступило время, когда Пьеро должен был наконец сообщить ей о том, что было у него на уме. Он виновато заулыбался и попробовал придать своему голосу как можно больше спокойствия и равнодушия.
– Хочу и на эту зиму, – обратился он к дочери, – отправить тебя в школу в Нельсон-Хауз. Бари отлично свезет тебя, как только установится санный путь!
Нипиза в это время развязывала узел на ремне у Бари и тотчас же вскочила на ноги и посмотрела на Пьеро. Глаза ее расширились и выражали удивление и гнев.
– Ни за что на свете, отец! – ответила она.
За всю свою жизнь она в первый раз ответила ему так резко и определенно. Это озадачило его, и он почувствовал себя неловко. Он не способен был на ссоры. Она увидела это по его лицу, и ему показалось, что она прочитала по нему все, что было у него на уме. Она быстро задышала, и он заметил, как высоко стала подниматься у нее грудь. Нипиза не дала ему собраться с силами, чтобы продолжать.
– Я ни за что не уеду! – повторила она с еще большей решительностью и опять наклонилась над Бари.
Пьеро пожал плечами и продолжал на нее смотреть. В самом деле, почему бы ему и не радоваться этому? Разве его сердце не облилось бы кровью, если бы она с радостью оставила его одного? Он подошел к ней и как можно ласковее погладил ее по голове. Нипиза посмотрела на него из-под руки и улыбнулась. Между ними встал Бари и положил морду ей на колени! В первый раз за все эти недели весь мир вдруг показался Пьеро ярко залитым солнечным светом. И с высоко поднятой головой он отправился к своей избушке.
Значит, Нипиза не покинет его!
И он тихо и радостно засмеялся и стал потирать себе руки от удовольствия. Его страх перед фактором из Лакбэна сняло, как рукой. Он остановился на пороге и посмотрел назад на Нипизу и Бари.
– Слава богу!.. – проговорил он. – Теперь, именно только теперь я сам знаю, что мне надо делать.
Глава XVII
Голос расы
В конце сентября в форте Лакбэн появился таксатор Мак-Дональд. Там уже целых десять дней гостил у Буша-Мак Таггарта и контролер Грэгсон. Два раза за это время Мари приходило в голову подкрасться к нему, когда он спал, и убить его. Сам фактор теперь уже не обращал на нее никакого внимания, отчего она пришла бы в восторг, не будь тут Грэгсона. Он пленился дикими чарами этой индианки, и сам Мак-Таггарт уже без малейшей ревности побуждал его к этому. Ему уже надоела Мари. Он объявил об этом Грэгсону. Ему хотелось отделаться от нее, и если бы Грэгсон увез ее с собою, то он был бы ему очень благодарен. И он объяснил ему, почему именно. Несколько позже, когда уже установится санный путь, он собирался съездить за дочерью Пьеро и привезти ее к себе сюда на пост. С циничной откровенностью он рассказал ему о своем визите к ней, о том, какой ему был оказан прием, и как она потом столкнула его с кручи в поток. Но, несмотря на все это, он старался уверить Грэгсона, что дочь Пьеро все-таки скоро будет у него в форте Лакбэн.
Как раз в эту пору и пришел Мак-Дональд. Он переночевал у него всего одну только ночь и, сам того не зная, только подлил масла в огонь, который и без того уже разгорелся до опасных пределов. Он имел неосторожность передать фактору карточку Нипизы. Это оказалась довольно удачная фотография.
– Если вам удастся передать ее при случае этой милой девушке, – обратился он к Мак-Таггарту, – то очень меня обяжете. Я обещал ей. Ее отца зовут Дюкэн, Пьеро Дюкэн. Вероятно, вы знаете его. А уж что это за девушка…
Он с увлечением стал описывать Мак-Таггарту, какая это была красавица в ее красном платье, которое, к сожалению, вышло на портрете черным. Он даже и не подозревал того, как мало требовалось для того, чтобы Мак-Таггарт полез на стену. На следующий же день Мак-Дональд отправился далее.
Мак-Таггарт не показал Грэгсону карточку. Он оставил ее при себе и всю ночь проглядел на нее при свете лампы, и мысли о Нипизе довели его до лихорадочного беспокойства и затем до окончательного решения.
Выход был только один. Он уже целые недели собирался ехать к Пьеро, а эта фотография только ускоряла его отъезд. Он не сообщил о своей тайне даже Грэгсону. Он должен ехать. Эта поездка даст ему Нипизу. Вот только бы поскорее наступила настоящая зима и установился санный путь! Снег поможет ему спрятать концы в воду, и никто даже и не узнает о той трагедии, которая, вероятно, произойдет.
И он очень обрадовался, когда вслед за таксатором уехал и Грэгсон. Из вежливости он проводил его до вечера следующего дня, и когда вернулся к себе обратно на пост, то оказалось, что Мари скрылась. Он был этому рад. Он послал нарочного с большим грузом подарков для ее родичей и велел ему сказать: «Не бейте ее! Примите ее! Она теперь свободна!»
С наступлением охотничьего сезона Мак-Таггарт начал приготовлять свой дом к принятию Нипизы. Он знал, что она была неравнодушна к чистоте, и потому выкрасил бревенчатые стены в белую масляную краску, которая была прислана ему для окраски лодок. Некоторые перегородки были сломаны и заменены новыми. Индианка – жена его главного курьера – сделала для его окон занавески, и он забрал себе граммофон, единственный в Лакбэне. Он не сомневался ни в чем и только считал каждый приходивший и уходивший день.
А там, далеко, у Серого Омута, Пьеро и Нипиза были заняты по горло, так заняты, что Пьеро иногда позабывал все свои страхи перед фактором из Лакбэна, а Нипиза даже позабыла о них и совсем. Был «месяц красной луны», и оба они были захвачены предвкушением и возбуждением от предстоящей зимней охоты. Нипиза целиком погрузилась в приготовление приманок для ловушек из оленьего мяса и бобрового жира, тогда как Пьеро заготовлял свежие шарики для разбрасывания их по звериным следам. Когда он уходил из дому более чем на один день, то она всегда была при нем. Но и дома тоже оставалось много дела, так как Пьеро, как и все его северные собратья, принимался за все эти приготовления только перед самой осенью, когда все уже должно было бы быть давным-давно готово. Нужно было заплести в лыжи новые ремешки, заготовить на всю зиму дров, замазать окна, сделать новую сбрую для собак, наточить ножи и сшить зимние мокасины – сотни маленьких, незаметных дел, не говоря уже о тех серьезных заготовках, которые обыкновенно делаются впрок на всю зиму, от начала до конца, и выражаются в окороках ветчины, оленины и лосины как для собственного употребления, так и для собак на случай, если не хватит для них рыбы. В заботах обо всем этом Нипиза стала меньше уделять внимания Бари, чем в последние недели. Они уже не играли так подолгу, как раньше, уже не плавали вместе, так как по утрам уже стал показываться иней и вода стала холодной, как лед; они больше уже не ходили в лес за ягодами и цветами. По целым часам Бари пролеживал у ног Нипизы, следя за ее пальцами, когда она работала над лыжами, и только иногда она клала ему на голову руку и заговаривала с ним то на своем родном индейском языке, то на английском, то на французском. Бари прислушивался именно к ее голосу и старался понимать ее по ее жестам, позе, движению губ и смене душевных настроений, которые, как свет и тени, отражались на ее лице. Он знал, что должно было означать, когда она улыбалась, и вскакивал с места и начинал радостно носиться вокруг нее, пока она смеялась. Ее счастье было счастьем и для него, а от одного только строгого ее слова он ежился хуже, чем от удара. Два раза Пьеро ударил его, и оба раза Бари отскакивал от него прочь, оскаливал клыки и яростно рычал, ощетинив вдоль спины шерсть, как щетку. Сделай это какая-нибудь другая собака, и Пьеро исколотил бы ее до полусмерти. Иначе человек не был бы ее господином. Но Бари он всегда щадил. Одно только прикосновение руки Нипизы и одно только ее слово – и щетина на спине у Бари немедленно разглаживалась, и рычание тотчас же прекращалось.
Пьеро это нравилось.
«Не стану выколачивать из него этой его повадки… – говорил он себе. – В нем сидит дикий зверь, но он – ее раб. За нее он сможет загрызть до смерти кого угодно!»
Так случилось, что по воле самого Пьеро Бари так и не сделался ездовой собакой. Он по-прежнему оставался на воле. Он даже не находился на привязи, как другие собаки. Нипиза была рада, но совершенно не догадывалась, что было у ее отца на уме. А Пьеро сам себе подмигивал. Она никак не могла понять, зачем именно Пьеро нужно было вечно поддерживать в Бари нерасположение к себе, доходившее иногда до прямой ненависти. А он сам с собою рассуждал так:
«Если я заставлю его ненавидеть себя, то в моем лице он научится ненавидеть всех мужчин вообще. Что и требовалось доказать. Отлично!»
Он имел в виду будущее и Нипизу. И вот пасмурные и холодные дни и морозные ночи вдруг стали производить в Бари какую-то странную перемену. Впрочем, это было неизбежно. Пьеро знал, что так должно было быть, и в первую же ночь, когда Бари сел на задние лапы и завыл на полную луну, он подготовил к этому Нипизу.
– Это дикая собака, Нипиза, – сказал он. – Это почти волк, и рано или поздно он почует непреодолимый для него зов. Он убежит в лес. Он на время будет скрываться. И мы не должны удерживать его. Все равно он возвратится назад. Он возвратится назад!
И, поглядывая на луну, он так потирал себе руки, что у него трещали пальцы.
Зов подкрался к Бари медленно и исподтишка, как вор, забравшийся в запретное место. Сначала Бари не понял его. Он сделался вдруг беспокойным, нервным, заволновался так, что Нипиза не раз слышала, как он тоскливо стонал во сне. Он стал чего-то ожидать. Но чего же? Пьеро знал и таинственно улыбался. А затем это «что-то» и пришло. Была ночь, ясная, светлая, со звездами и луной, и под ними вся земля казалась окутанной белой пеленой. И вдруг издалека донесся вой целой стаи волков! Случалось и раньше в эту зиму слышать вой отдельного волка, но это был зов целой стаи, и когда он разнесся по безграничному молчанию таинственной ночи, эта дикая песнь, которая слышится уже целые тысячи веков при каждом полнолунии, то Пьеро знал, что наконец-то явилось то, чего так беспокойно поджидал Бари. И в одну секунду Бари почуял его. Его мускулы напряглись, как натянутые канаты, когда он остановился вдруг на лунном свете, смотря в ту сторону, откуда доносился до него этот таинственный, возбуждавший клич. Нипиза и Пьеро услышали, как он вдруг заскулил, и увидели, как дрожь охватила все его тело.
– Почуял… – шепотом сказал Пьеро Нипизе. – Позвали предки…
Это был он – зов крови, которая струилась в жилах Бари; зов не только его вида, но и Казана, и Серой Волчицы, и всех предшествовавших поколений. Это был голос всей его расы. Пьеро прошептал свои слова и был прав.
Всю золотую ночь Нипиза прождала, потому что именно она теперь играла и могла выиграть и проиграть. Она не произнесла ни звука, даже шепотом не отвечала Пьеро, но, затаив дыхание, наблюдала за Бари, как шаг за шагом он медленно отходил к теням. Еще минута – и он убежал совсем. Тогда она выпрямилась, откинула назад голову, и глаза ее засверкали ярче звезд.
– Бари! – закричала она ему. – Бари! Бари! Бари!
Он убежал еще недалеко, потому что почти тотчас же и возвратился к ней обратно и стал около нее.
– Ты прав, отец, – сказала она. – Он убежит к волкам и все-таки вернется обратно.
Вместе с Пьеро она вошла в избушку; дверь захлопнулась за ними, и Бари остался один.
Последовало продолжительное молчание.
Бари слышал невнятные ночные звуки. Для него эта ночь, даже в ее тишине, казалась полной жизни. Опять он вошел в нее и, дойдя до леса, опять остановился и стал вслушиваться. Ветер переменился, и вместе с ним до него донесся жалобный, волнующий кровь вой стаи волков.
Что-то подкатило Бари к самому горлу. Он вдруг завыл и послал свой ответ прямо к звездам.
В своей хижине Пьеро и Нипиза услышали его. Пьеро пожал плечами.
– Убежал!.. – сказал Пьеро.
– Убежал!.. – ответила Нипиза и выглянула в окошко.
Глава XVIII
Бродяги
Теперь уже темнота в лесах не внушала Бари страха, как это было в далекие дни. В эту ночь его воинственный крик долетел до луны и звезд, и в первый раз в жизни в этом своем крике он послал вызов и ночи и пространству, свою угрозу всему дикому миру и свой братский привет волкам. В этом крике и в долетевшем на него ответе он почуял новую силу – окончательный триумф природы, которая наконец дала ему понять, что ему больше нечего бояться ни лесов, ни зверей, а что все земные существа должны бояться его. Здесь, вдали от человеческого жилища и от влияния Нипизы, перед ним развертывалось все, к чему была так неравнодушна закипевшая в нем волчья кровь: братство, жажда приключений, красная, теплая кровь добычи и взаимная помощь. Эта последняя как-то таинственно захватывала его целиком, оказывала на него давление, и все-таки он менее всего понимал ее.
Он побежал в темноте по прямой линии на северо-запад, проскальзывая под кустами, волоча за собой хвост и заложив назад уши, – настоящий волк, бегущий на добычу ночью. Стая стремилась куда-то на север и бежала скорее, чем он, так что уже через полчаса он потерял ее из виду. Но отдельный волк выл недалеко от него в западной стороне, и три раза Бари послал ему свой ответ. Еще через полчаса Бари снова услышал стаю. Она бежала уже на юг. В этот момент его отделяло от одинокого волка лесное пространство не более как в четверть мили, но этот одинокий волк оказался уже старым и потому знал все волчьи хитрости и увертки. С непогрешимостью, приобретенной долгим опытом, он помчался к стае прямиком наперерез, так что оказался на целые три четверти мили даже впереди ее. Эта уловка была еще незнакома Бари, он еще не научился ей, но в результате своего неведения и отсутствия познаний он два раза был очень близок к стае и все-таки никак не мог к ней присоединиться. Затем наступило продолжительное молчание. Стая уже догнала свою добычу, принялась за ее растерзание и потому умолкла.
Остаток ночи Бари пробродил один, по крайней мере, до того часа, когда зашла луна. Теперь уже он был очень далеко от хижины и шел, куда глядели глаза, заплетаясь, но его уже не удручало то, что он был один и заблудился. Последние два или три месяца сильно развили в нем чувство ориентации, то «шестое чувство», которое безошибочно руководит голубем в пути и побуждает медведя бежать к своей прошлогодней берлоге для зимовки по птичьему полету напрямик. Он не забыл Нипизу. Несколько раз он оборачивался назад и скулил, но всегда шел в противоположном направлении от избушки. Его поиски этого таинственного «нечто», которого он никак не мог найти, все еще продолжались. Даже с заходом луны и с наступлением серенького утра начавшийся в нем голод не мог побудить его бросить поиски и заняться отыскиванием пищи. Было холодно, и стало еще холоднее, когда погас свет от луны и звезд. Под его бежавшими иноходью ногами, в особенности на открытых пространствах, лежал глубокий белый снег, на котором он оставлял отчетливые следы своих пяток и когтей. Он настойчиво продолжал свой путь в течение целых часов, прошел уже несколько десятков миль и к восходу солнца наконец устал. А затем настало время, когда, щелкнув зубами, Бари вдруг неожиданно остановился как вкопанный.
Произошла наконец встреча, которую он так долго искал. Это случилось в открытом, освещенном холодным рассветом амфитеатре, спускавшемся с отлогого горного кряжа на восток. Повернув к нему голову и уже давно почуяв Бари по запаху, стояла молодая волчица, по-индейски Махигана, и ожидала, когда он выйдет наконец из чащи леса на свет. Бари не почуял ее, но увидел ее прямо перед собою, когда вышел на открытое пространство из можжевельника. Тогда он остановился, и целую минуту ни один из них не двигался и даже, казалось, не дышал. Они были почти совсем ровесники, волчица была моложе его, пожалуй, всего только на две недели, но была значительно меньше его ростом. Она была такой же длины, но только пониже и послабее. Ноги у нее были так же тонки, как и у лисицы, но спина была изогнута настолько своеобразно, что она могла развивать на бегу быстроту, почти равную ветру. Она стояла в такой позе, точно собиралась немедленно убежать, даже тогда, когда Бари подошел к ней почти вплотную, но затем ее тело потеряло напряжение, уши свесились и откинулись назад. Бари заскулил. Он поднял голову, насторожил уши и вытянул и распушил свой хвост. Если не стратегия, то ум уже дал ему уверенность в его физическом превосходстве, и он не особенно спешил со знакомством. Он находился от Махиганы в пяти шагах, когда вдруг совершенно случайно отвернулся от нее и поглядел на восток, где блики красного и желтого цветов уже обозначили солнечный восход. Несколько секунд он внюхивался в воздух и оглядывался по сторонам с таким видом, точно предварительно желал произвести на волчицу впечатление. И Махигана была вполне им очарована. Она навострила ушки и тоже стала нюхать воздух. Бари так быстро и остро поворачивал голову то туда, то сюда, что и она если не из беспокойства, то, во всяком случае, из чисто женского любопытства тоже вопросительно стала поворачивать голову по сторонам, и когда он вдруг заскулил, точно ему удалось поймать в воздухе ту тайну, которую она, по-видимому, еще не понимала, то и она завизжала ему в ответ, но с такой женской осторожностью, точно не совсем была уверена, как он к этому отнесется. Бари услышал этот ее визг, быстро и легко подскочил к ней, и в следующий за тем момент они уже обнюхивались носами.
Когда через час взошло солнце, то оно застало их все на том же самом месте. Они находились на открытом возвышенном пространстве, под ними далеко в глубину уходили леса, а позади простиралась широкая долина, точно белым саваном покрытая снегом, из которого то тут, то там вылезали группы вековых сосен.
Взошло наконец солнце и осветило красными лучами прежде всего это высокое открытое пространство, которое все более и более стало согреваться, по мере того как солнце поднималось все выше и выше и посылало ему свои ласковые, теплые лучи.
Ни Бари, ни Махигана не выказывали намерения двинуться в путь и целых два часа пролежали рядом, смотря вопросительными, широко открытыми глазами на расстилавшиеся под ними, точно море, лесные пространства. Махигана так же, как и он, искала волчью стаю и не сумела ее найти. Они оба устали, были разочарованы и хотели есть, но оба испытывали какое-то новое, беспокойное и таинственное сознание, что теперь они – друзья. Несколько раз Бари придвигался к Махигане, когда она лежала, греясь на солнышке, тихо скулил ей и касался ее мягкой шерсти мордой, но она не обращала на это внимания. Затем она последовала за ним. Весь день они бродили и отдыхали вместе. Потом настала ночь.
Ночь на этот раз была без луны и без звезд. Серые массы облаков плыли на северо-запад, и, по мере того как сгущалась темнота, ветер все тише и тише шумел в вершинах сосен. Снег стал беззвучно падать тяжелыми, плотными хлопьями. Холодно не было. Было только очень тихо. Так тихо, что Бари и Махигана то и дело останавливались и прислушивались. Это был первый настоящий снегопад. Для хищных лесных животных, четвероногих и крылатых, такой снегопад означал начало зимних карнавалов, охот и кровавых наслаждений, диких приключений в долгие ночи и беспощадных кровопролитий при побегах. Дни воспитания, материнства – тихая и мирная жизнь в течение весны и лета, – все это забыто. С неба светит громадное северное сияние, которое зовет всех хищных на долгие охоты, и в такие-то ночи все маленькие безобидные существа стараются не убегать далеко от своих убежищ, а если и убегают, то все время чутко и подозрительно озираются по сторонам.
Молодость все это делала новым для Бари и Махиганы; кровь их бушевала; ноги ступали осторожно; уши были напряжены, чтобы уловить малейший шорох в эту первую ночь великого снегопада они чувствовали в себе биение пульса новой жизни. Он руководил ими. Он приглашал их к приключениям в этой таинственной, белой, молчаливой пелене; и, вдохновляемые своей беззаботной юностью и желаниями, они побежали вперед. Снег под их ногами становился все глубже и глубже. В открытых местах они уже угрузали по колено, а он все продолжал и продолжал падать, точно белые облака, настойчиво спускавшиеся с неба.
Было около полуночи, когда они остановились. Чья-то невидимая рука сдернула со звезд и луны скрывавшее их покрывало, и Бари и Махигана долго-долго простояли без движения, глядя со своего высокого места на гребне горного кряжа на расстилавшийся под ними великолепный мир.
Никогда еще ночью они не видели так далеко. Под ними расстилалась долина. Они могли видеть на ней леса, отдельные группы деревьев, которые, точно привидения, вырастали из-под снега, и ручей, еще не замерзший и сверкавший при луне, точно зеркало. К этому-то ручью и направился Бари. Теперь уж он больше не думал о Нипизе и только то и дело повизгивал, спускаясь вниз и останавливаясь на полдороге, чтобы толкнуть мордой Махигану. Ему хотелось кататься по снегу и прыгать вокруг своей спутницы; его так и подмывало залаять или поднять голову кверху и завыть на луну так, как он выл накануне около избушки. Но что-то удерживало его от этого. Быть может, это поведение Махиганы, слишком строптиво отнесшейся к его намерениям. Раза два это даже ее испугало, и оба раза Бари слышал, как она щелкнула зубами. За последнюю ночь их дружба сделалась теснее, но что-то неуловимое, таинственное то и дело вставало между ним и Махиганой, чего Бари не мог себе объяснить. При белизне снега над ним и под ним Бари обрисовывался еще ярче, чем летом. Шерсть блестела на нем, точно лакированная. Каждый волосок на его теле отливал чернотой. Он был черен. В этом-то и заключалась вся разгадка. Природа уже успела внушить Махигане, что все те звери, которых боялась ее порода и которых она ненавидела, были черны. Это был в ней не опыт, а инстинкт, напоминавший ей о вековечной вражде между серым волком и черным медведем, а при лунном свете и при белизне снега Бари казался еще чернее, чем медведь, отъевшийся на рыбе в майские дни. Пока они пересекали открытые пространства долины, молодая волчица следовала за Бари без возражений, но здесь она стала вдруг проявлять какие-то странные признаки нерешительности и два раза останавливалась, чтобы предоставить Бари уйти далее уже без нее.
Через час после того, как они спустились в долину, вдруг с запада донеслись до них вопли бежавшей волчьей стаи. Она была где-то недалеко, по всей вероятности, в одной миле расстояния от подошвы горного кряжа; последовавший затем острый, короткий вой делал очевидным то, что зубастые охотники вдруг неожиданно подняли дичь: оленя или молодого лося и уже гнались за ним по пятам. Услышав голоса своих сородичей, Махигана заложила уши назад и бросилась к ним, как стрела. Неожиданность этого поступка и быстрота, с которой она убежала, поставили Бари в тупик, и он стал от нее отставать. Она бежала очертя голову, не обращая внимания ни на что. Не прошло и пяти минут, как стая волков так уже близко была от своей добычи, что совершенно прекратила крики и гнала свою жертву прямо на Махигану и Бари. Десять секунд спустя из зарослей выскочил затравленный волками олень и, как ветер, промчался мимо них через долину и скрылся из виду. Они слышали, как он тяжело дышал. Затем выбежала и стая волков.