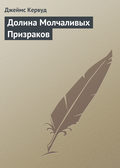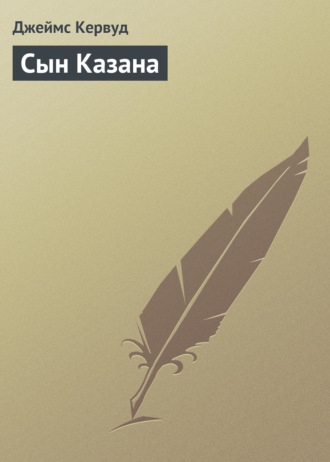
Джеймс Оливер Кервуд
Сын Казана
Глава IX
Все-таки сдружились
В дикой тревоге от отчаянных криков Нипизы и от вида Пьеро, когда тот сломя голову бросился в его сторону от трупа Вакайю, Бари долго бежал без оглядки, насколько хватало у него духа. Когда же он наконец остановился и перевел дыхание, то был уже далеко от ущелья и находился как раз около заводи бобров. Целую неделю Бари не бывал около этой заводи. Он не забыл ни Сломанного Зуба, ни Умиска, ни других маленьких бобрят; но Вакайю и его ежедневная ловля свежей рыбы были для него большим искушением. Теперь Вакайю уже вовсе не существовал на свете. Бари чувствовал, что большой черный медведь уже никогда больше не будет ловить рыбу в спокойных омутах и в шумливых перекатах и что там, где до этого так мирно и в таком довольстве протекала жизнь, теперь грозили одни только опасности; и как до этого он все свое благополучие строил на возвращении в свою родную берлогу под валежником, так и теперь, в минуту крайнего отчаяния, прибежал именно к бобрам. Трудно было бы определить, кого он, собственно, боялся, но во всяком случае не Нипизу. Правда, она за ним гналась. Он даже чувствовал, как она схватила было его руками и как коснулись его ее мягкие волосы, но все-таки ее он вовсе не боялся! И если он останавливался иногда на своем бегу и оглядывался назад, то разве только для того, чтобы лишний раз поглядеть, не следует ли за ним именно она. От нее одной он не убежал бы никогда. В ее глазах, голосе и руках было для него что-то притягательное. Теперь его угнетали еще большая тоска и большее одиночество, и всю ночь он видел тревожные сны. Он нашел себе укромное местечко под большим корнем сосны невдалеке от колонии бобров, улегся в ней и всю ночь видел во сне мать, Казана, свою родную кучу валежника, Умиска и Нипизу. Однажды, пробудившись, он принял корень сосны за Серую волчицу, и когда понял, что это была не она, то и Пьеро и Нипиза, услышав, как он после этого заплакал, сразу определили бы, что, собственно, он увидел во сне. То и дело перед ним проходили тревожные события того дня. То ему снились Вакайю и его ужасная смерть, то глаза Нипизы приближались почти вплотную к его глазам, то он слышал ее голос, который почему-то казался ему сладкой музыкой, то до него долетали ее страшные стоны.
Он был рад, когда наступил рассвет. Он не подумал даже о пище, а прямо побежал к бобрам. Теперь во всей его осанке уже не было ни надежды, ни предвкушения. Он вспомнил, что постольку, поскольку животные могут разговаривать между собой, Умиск и его товарищи так прямо и сказали ему, чтобы он больше к ним не приставал. Но уже одно то, что он был теперь около них, не давало ему чувствовать себя таким одиноким. А он был более чем одинок. Волк угомонился в нем на время. Теперь им властвовала уже собака.
Далеко на севере, в дремучих лесах, бобры работают и играют не только по ночам; они используют для этого день даже больше, чем ночь. Поэтому многие из колонии Сломанного Зуба были уже за работой, когда Бари стал безутешно бродить по берегу их заводи. Маленькие бобрята находились еще при матерях, в своих высоких жилищах, походивших на целые соборы, выстроенные из хвороста и ила и вылезавшие прямо из-под воды как раз на самой середине затона. Таких домов было три, а один из них имел у основания в диаметре, по крайней мере, двадцать футов. Бари с трудом пробирался вдоль своего берега; когда он пролезал сквозь кусты ольхи, ивняка и березы, то десятки каналов скрещивались и перекрещивались между собою на его пути. Некоторые из этих каналов были шириною в фут, другие – фута в три или в четыре, и все они были наполнены водой. Ни одна страна в свете не могла бы иметь лучшей системы транспорта, чем в этих владениях бобров, которые протаскивали по своим каналам все строительные материалы и продовольствие в главный резервуар – именно в заводь. На одном из более значительных каналов Бари пришел в изумление при виде того, как большой бобр тащил вплавь четырехфутовый обрубок березы в человеческую ногу толщиной. Теперь уж Бари не скрывался от бобров, да и некоторые из них уже не посмотрели на него недружелюбно, когда он добрел наконец до того места, где заводь сужалась до ширины обыкновенного ручья почти в целой полумиле от плотины. Отсюда он повернул назад. Все это утро он пропутешествовал вокруг заводи, показывая себя бобрам совершенно открыто.
В это время бобры держали в своих бетонных твердынях военный совет. Они были заметно озадачены. До этого у них было четыре врага, которых они боялись больше всего на свете: выдра, которая в зимнее время пробуравливала их плотину, спускала через сделанную ею дыру воду и обрекала их этим на голодную и холодную смерть; рысь, которая охотилась на них всех, и старых и молодых; и лисица, и волк, которые целыми часами просиживали где-нибудь поблизости в засаде и утаскивали их малышей вроде Умиска и его приятелей. Если бы Бари был одним из этих четырех, то хитрый старый Сломанный Зуб и все его товарищи отлично знали бы, как им поступить. Но Бари, конечно, не был выдрой, а если он волк, лисица или рысь, то все его поступки по меньшей мере странны. Вот уж сколько раз он имел полную возможность расправиться со своей добычей, если только он действительно искал добычи. Но он ни разу не выказал желания причинить им вред.
Возможно, что все это досконально бобры обсудили между собой. Возможно также, что Умиск и его приятели рассказали своим приятелям о своих приключениях и о том, что Бари даже вовсе и не собирался их обидеть, хотя и легко мог бы это сделать. Также более чем вероятно, что взрослые бобры, которые в это утро имели случай столкнуться с Бари, дали полный отчет об этой встрече, снова подтвердив тот факт, что, хотя он и перепугал их, он все-таки не выказал ни малейшего намерения их обидеть. Все это очень возможно, потому что если признать, что бобры могут делать историю целой страны и выполнять такие инженерные работы, которые не поддаются даже взрывам динамита, то придется вполне резонно допустить, что они обладают способами и понимать друг друга.
Но как бы то ни было, а мужественный Сломанный Зуб окончательное решение по этому делу взял на себя.
Было уже около полудня, когда Бари в третий или в четвертый раз прошелся по плотине. Эта плотина была полных двести футов в длину, но ни в одном месте не перекатывалась через нее вода, для чего в ней были сделаны особые узкие шлюзы. Недели две тому назад Бари мог свободно перейти по ней на другую сторону заводи, но теперь в дальнем конце ее Сломанный Зуб и его инженеры вздумали продолжить ее и для того, чтобы выполнить эту работу с наименьшей потерей труда, затопили ярдов на пятьдесят то место, где они работали. Главная плотина приводила Бари в восторг. Во-первых, от нее сильно пахло бобрами. Во-вторых, она была высока и суха и в ней было проделано много уютных норок, сидя в которых, бобры принимали свои солнечные ванны. В одну из таких норок забрался Бари, расположился в ней и стал глядеть на воду. Ни малейшая рябь не бороздила ее бархатную поверхность. Ни единый звук не нарушал в этот полдень дремотную тишину. Точно все бобры повымерли, так было кругом пустынно. И все-таки всем им было известно, что Бари находился именно на плотине. На то место, где он лежал, солнце особенно обильно бросало свои лучи, и ему было так удобно и приятно там лежать, что под конец он едва мог справляться со своими опускавшимися от дремоты веками и крепко заснул. Как мог узнать об этом Сломанный Зуб, это составляет тайну природы. Минут пять спустя без малейшего всплеска воды или звука он появился в пятидесяти ярдах от Бари. Несколько минут затем он, плашмя и не двигаясь, пролежал на воде. Потом он очень медленно проплыл вдоль всей плотины через всю заводь. На противоположной стороне он выполз на берег и в следующую за тем минуту уже сидел, как статуя, на камне, все время не сводя глаз с того места, где лежал на плотине Бари. И из всех других бобров не проявлял признаков жизни ни один, и скоро стало очевидно, что только один Сломанный Зуб взял на себя обязанность поближе ознакомиться с намерениями Бари. Когда он вошел в воду опять, то поплыл уже прямо к плотине. В десяти футах от Бари он стал вскарабкиваться на нее и делал это с большими предосторожностями и не спеша. Наконец он выбрался на нее совсем.
В нескольких аршинах от него в своей лунке лежал Бари, которого почти совсем не было видно, за исключением одной только блестящей черной спины, которая привлекла к себе все внимание Сломанного Зуба. Чтобы иметь лучшее наблюдение, старый бобр расправил позади себя свой плоский хвост и встал на задние лапы, прижав себе к груди передние, как это делает белка. В такой позе он оказался ростом в целых три фута. Вероятно, в нем было весу около пуда, и в некоторых отношениях он напоминал собою одного из тех больших, добродушных, толстых, глупого вида псов, которые целиком уходят в живот. Но его ум работал с необычайною быстротой. Затем он вдруг неожиданно громко стукнул по плотине своим хвостом, и Бари встрепенулся от этого и вскочил. Он тотчас же увидел перед собою Сломанного Зуба и уставился в него глазами. Сломанный Зуб в свою очередь уставился в него. В течение целой минуты ни один из них не сдвинулся с места даже на одну тысячную часть дюйма. Затем Бари подошел к нему и завилял хвостом.
Этого было достаточно. Опустившись на свои передние лапы, Сломанный Зуб равнодушно заковылял к краю плотины и нырнул в воду. Теперь уж ему было все равно: не нужно было ни принимать предосторожности, ни торопиться. В воде он произвел большое движение и стал уже смело плавать взад и вперед перед Бари. Сделав это несколько раз, он в один прием доплыл до самого большого дома из всех трех и скрылся в нем уже совсем. Целые пять минут после этого геройского подвига Сломанного Зуба во всей колонии, по-видимому, шел разговор о том, что Бари – не рысь и не лисица, и не волк. Даже более того: что он еще очень юн и вполне безопасен. Значит, теперь можно приняться за работу вновь. Значит, теперь можно играть сколько угодно!
Ничего опасного нет.
Таково было решение Сломанного Зуба.
Если бы кто-нибудь сумел огласить это решение на языке бобров через мегафон, то и тогда не последовало бы на него более скорого ответа. Все еще стоявшему на плотине Бари показалось, что весь пруд сразу наполнился бобрами. Он ни разу еще не видел такого их количества. Они высыпали повсюду, и некоторые из них проплывали всего только в десяти футах от него и смотрели на него с любопытством, в то же время нисколько не стесняясь. В течение пяти минут бобры, казалось, не имели в виду никакой определенной цели. Затем снова появился на сцену Сломанный Зуб: он поплыл прямо к берегу и выполз на него. Другие бобры последовали его примеру. Некоторые из рабочих рассеялись по каналам, многие принялись за ольховые кусты и ивняк. Бари нетерпеливо поджидал Умиска и его приятелей. Наконец он увидал, как они выплыли все четверо из одного из меньших домов. Они выползли на свою обычную площадку, на которой играли всегда, и Бари так сильно завилял им хвостом, что задрожало все тело, и бросился вдоль плотины им навстречу.
Когда он добежал до них, то Умиск был уже один и с аппетитом обгладывал длинный свежий ивовый прут. Остальные товарищи копошились в густых зарослях молодой ольхи.
Теперь Умиск уже больше не убегал. Он преспокойно обгладывал свою ветку. Бари лег на живот и с самым дружелюбным и заискивающим видом завилял перед ним хвостом. Умиск не спеша оторвался от своего ужина и поглядел на него. Теперь уже нечего было бояться. Кем бы ни было для него это странное живое существо, оно было еще юно и безвредно и, по-видимому, искало для себя компании. И он внимательно оглядел Бари всего.
Затем очень хладнокровно снова принялся за ужин.
…И Бари понял, что у него скоро будут друзья.
Глава Х
Неожиданное происшествие
Как в жизни каждого человека бывают непреодолимые моменты, которые направляют его ко злу или к добру, так и в судьбе Бари колония бобров сыграла решающую роль. Куда бы он отправился далее, если бы не наткнулся на нее, и что бы за тем с ним случилось, это уже относится к области предположений. Но он все-таки наткнулся на нее, и она заменила его прежний дом под кучей бурелома. В самих бобрах он нашел друзей, которые помогли ему забыть о Серой волчице и о Казане. Эта дружба, если только ее можно так назвать, дошла до своей предельной точки. С каждым днем взрослые бобры все больше и больше привыкали к Бари, и к концу второй недели, если бы Бари ушел от них, то они все-таки не заметили бы его отсутствия, тогда как Бари чувствовал бы себя совсем иначе, если бы лишился бобров. С их стороны эта дружба представляла собою простую терпимость их добродушной природы. Для Бари же оно составляло нечто совсем иное. Он был еще младенец; он нуждался еще в материнстве; им еще овладевала чисто детская тоска по домашнему уюту, и он никак не мог ее от себя отбросить, и всякий раз, как наступала ночь, его безумно тянуло к бобрам в их дом, где он мог бы спать в одной кучке вместе с Умиском и его друзьями.
В течение двух недель, которые протекли со дня подвига Сломанного Зуба, Бари отыскивал для себя еду за милю выше, по ручью, где водилось достаточно раков. Но заводь всегда была его настоящим домом. Ночь всегда заставала его здесь, да и большую часть дня он проводил около бобров. Он спал в конце плотины, а в особо светлые ночи – и на самом хребте ее, и бобры считали его своим постоянным гостем. Они работали в его присутствии, точно его вовсе и не существовало. Бари очень интересовался их работами и не переставал на них смотреть. Они удивляли его и в то же время сбивали его с толку. День за днем он видел, как они заготовляли бревна и сплавляли их по воде к новой постройке. Он видел, как благодаря их усилиям выросла постепенно целая новая плотина. Однажды он лежал футах в десяти от старого бобра, который подгрызал дерево в шесть дюймов толщиною. Когда это дерево свалилось и старый бобр отскочил от него в сторону, то вместе с ним отскочил и Бари. А затем он вернулся назад, обнюхал пень и очень удивился тому, что на подмогу этому бобру вдруг выскочили с тревогой дядя, дедушка и тетка Умиска.
Ему все еще не удалось втянуть в игру Умиска и других молоденьких бобров, и после первой же недели он должен был отказаться от этого совсем. Их же игры его самого интересовали не менее, чем постройка плотины, которую сооружали старики. Так, например, Умиск очень любил играть в грязи на берегу заводи. В этом он очень походил на маленького мальчугана. В то время как старшие сплавляли к большой плотине бревна толщиною чуть не в целый фут в диаметре, Умиск стаскивал к месту своей игры палочки и веточки, не толще карандаша, и строил свою собственную игрушечную плотину. Над этой плотиной он ковырялся целыми часами с такой же настойчивостью, с какою его отец и мать работали над настоящей, и все это время Бари лежал на животе в стороне, наблюдал и удивлялся. В этой же самой полувысохшей грязи Умиск проводил миниатюрные каналы, точь-в-точь как мальчик, который весною, когда начинает таять снег, проводит речки и устраивает даже целые океаны, по которым плавают у него воображаемые пираты. Своими острыми зубами он тоже, как и большие, подтачивал бревна, т. е. веточки не толще одного дюйма. Бари не мог понимать, что именно в этом-то и состояла вся игра бобрят, но все-таки замечал некоторую разумность в грызении палочек. Поэтому он и сам любил поточить о них свои зубы. Но что приводило его в крайнее удивление, так это то, что Умиск с таким ожесточением сдирал с палок кору и тут же съедал ее.
Другой способ игры у бобрят еще больше разочаровал Бари. Невдалеке от того места, где он впервые встретился с Умиском, поднималась из воды высокая, футов около десяти, балка, которая представляла собою наклонную плоскость, спускавшуюся обратно в воду. Она была гладко утоптана и тверда. Умиск взбирался на нее в том месте, где она была не особенно крута, влезал на самую ее вершину, садился на свой плоский хвост, давал себе толчок и, точно на санках с ледяной горы, спускался на нем вниз и с шумным всплеском въезжал в самую воду. Обыкновенно таким спортом были заняты сразу около десятка бобрят, но иногда к этой молодежи присоединялся вдруг и какой-нибудь старик, который точно так же вскарабкивался на гору и съезжал с нее на своем хвосте. Однажды под вечер, когда наклонная плоскость была особенно отполирована от недавнего употребления, Бари по примеру бобров тоже взобрался на ее вершину и принялся за ее осмотр. Оказалось, что нигде так сильно не пахло бобрами, как здесь. Он стал обнюхивать гору и неосторожно зашел дальше, чем следовало. В один момент его ноги потеряли устойчивость, земля выскользнула из-под них, и, громко взвизгнув от испуга, Бари покатился вниз. В следующую за тем минуту он барахтался в воде, а еще минуту или две спустя уже с трудом выкарабкивался из мутной заводи на твердый берег. Теперь уж он был определенного мнения об этой игре бобрят.
Возможно, что Умиск видел, как он съезжал с горы. Возможно, что история этого приключения с Бари очень скоро стала известна всем обитателям бобрового городка, потому что, когда Бари пришел в этот вечер к Умиску и застал его за ужином, то Умиск уже смело приблизился к нему, и они в первый раз за все время обнюхались носами. По крайней мере, слышно было, как обнюхивал Бари, а Умиск в это время сидел, как сфинкс. Это окончательно закрепило их дружбу, во всяком случае со стороны Бари. Он несколько минут самым развязным образом прыгал вокруг Умиска, стараясь этим показать ему, как он любил его и какими закадычными друзьями они могли бы сделаться. Но Умиск не отвечал. Он не тронулся с места, пока не окончил своего ужина. Но как бы то ни было, а он выглядел все-таки добрым товарищем, а Бари чувствовал себя счастливее, чем когда-либо с тех пор, как покинул свою кучу валежника.
Эта дружба, если бы она и показалась с внешней стороны только односторонней, все-таки оказалась как нельзя более счастливой для Умиска. Всякий раз, как Бари являлся к заводи, он всегда старался держаться как можно ближе к Умиску, если сразу его находил. В один прекрасный день он лежал на траве и щурился в полудремоте, в то время как немного в стороне Умиск копошился за какой-то работой в кустах ивняка. Вдруг послышался тревожный стук бобровки хвостом по воде, и Бари окончательно проснулся. Затем другой, третий – точно пистолетные выстрелы. Он вскочил на ноги. Все бобры кинулись к воде. В эту минуту и Умиск выполз из своего ивняка и также поспешил со всех своих жирных коротких ног прямиком к заводи.
Он почти уже добежал до самой воды, как что-то красно-бурое, точно стрела, метнулось на вечернем солнце у самых глаз Бари, и в следующий за тем момент большая лисица бросилась вдруг на Умиска и вонзила ему в горло клыки. Бари услышал отчаянный крик своего друга, кровь бросилась ему в голову, и он озверел. Так же быстро, как и сама лисица, он решился на отважный подвиг. Он был такой же величины и такого же веса, как и она, и когда он набросился на нее, то его ожесточенное ворчание Пьеро мог бы услышать на далеком расстоянии. Он, точно ножи, вонзил свои зубы бандиту в плечо. Эта лисица оказалась из породы лесных разбойников, которые всегда нападают сзади. Она не была создана для борьбы с глазу на глаз, и нападение Бари было для нее так сильно и так неожиданно, что она тотчас же выпустила Умиска из пасти и бросилась бежать без оглядки. Бари даже не преследовал ее. Он подбежал к Умиску, который все еще лежал в грязи и забавно хрюкал и стонал. Самоотверженный Бари обнюхал его, толкнул его носом, и минуты две спустя Умиск уже встал на свои заплетавшиеся ноги, тогда как около тридцати бобров со страшным шумом суетились у самого берега в воде.
После этого события Бари еще более почувствовал себя с бобрами дома.
Глава XI
Попался!
В то время как Бари все более и более привязывался к бобрам, а Пьеро и Нипиза, со своей стороны, обдумывали, как бы поймать его, потому что его белая звезда и белые кончики на ушах напоминали им о другом Бари, которого они любили, – Буш Мак-Таггарт с поста Лакбэн, за сорок миль к северо-западу отсюда, тоже кое-что придумывал. Мак-Таггард уже семь лет был фактором в Лакбэне. В книгах Компании Гудзонова залива он был записан, как самый полезный служащий. Расходы по содержанию его поста всегда были ниже средних, а каждая полугодовая доставка им мехов всегда превышала всякие ожидания. В главном списке сотрудников около его имени имелась приписка: «Доставляет доходов более, чем кто-либо на севере Божьего озера».
Но всем индейцам была отлично известна причина такого успеха. Они прозвали его «Нжпао-Ветику», что значит «человек-дьявол». Они иначе его и не называли: это имя они с омерзением произносили у себя в юртах только шепотом или говорили его так, чтобы оно никоим образом не долетало до ушей самого Буша Мак-Таггарта. Они боялись его. Они ненавидели его всей душой. Они умирали под его управлением от голода и истощения, и чем крепче он сжимал свои железные пальцы, управляя ими, тем покорнее, казалось, они подпадали под его власть. У него была ничтожнейшая душа, находившаяся в теле зверя и наслаждавшаяся властью. И здесь, в этой дикой пустыне, простиравшейся до бесконечности во все четыре стороны, его власть была самодержавна. Компания поддерживала его. Она сама сделала его королем всего этого края, в котором не было никакого другого закона, кроме его собственного. И в благодарность за это он отправлял ей такие караваны и такие тюки мехов, на которые она даже и не рассчитывала. Владельцы компании сидели от него за целые тысячи миль и только подсчитывали доллары.
Все это мог бы вывести на чистую воду Грэгсон. Он был контролером в том краю и раз в год посещал для ревизии Мак-Таггарта. Он мог бы легко донести, что индейцы прозвали этого Мак-Таггарта «человеком-дьяволом» за то, что он уплачивал им за доставляемые ими меха половинную цену; он мог бы доложить своей компании вполне обстоятельно, что в течение всей зимы он доводил звероловов до полной нищеты, что они на коленях вымаливали у него свою заработанную плату и что он всегда портил местных индейских девушек, принуждал их отдаваться ему на посту. Но и сам Грэгсон извлекал выгоду из своих ревизий поста Лакбэн. При каждом своем наезде туда он всегда мог рассчитывать на две недели самой развратной жизни у Мак-Таггарта и вдобавок еще привозил оттуда своим дочери и жене самые драгоценные меха, которые получал от Мак-Таггарта подпольными путями.
Однажды вечером Мак-Таггарт сидел у себя в конторе при свете керосиновой лампы. Отославши своего краснощекого счетовода-англичанина спать, он оставался один. Вот уже шестую неделю он испытывал какое-то странное беспокойство. Шесть недель тому назад Пьеро имел неосторожность за все семь лет службы Мак-Таггарта в Лакбэне в первый раз привезти туда и Нипизу. И она-то и смутила его сердце. С тех пор он только и думал, что о ней. Два раза за эти шесть недель он сам наезжал в гости к Пьеро, в его далекую хижину. Завтра он собирался ехать к нему опять. Он позабыл уже о своей наложнице, маленькой индианке Мари, как до Мари забыл о дюжинах таких же несчастных девушек, как и она. Теперь его занимала Нипиза. Он никогда не видал такой красавицы, какою была дочь Пьеро.
Он вслух проклинал Пьеро, глядя на лист бумаги, на которой уже целый час выписывал из главной книги своей конторы какие-то сведения. Этот Пьеро стоял у него поперек дороги. Судя по этим сведениям, отец Пьеро был настоящим, чистокровным французом. Поэтому Пьеро был полуфранцузом, а его Нипиза – квартеронкой, хотя она была так красива, что можно было поклясться, что в ее жилах текло не более двух капель индейской крови. Если бы оба они были индейцами вполне, тогда другое дело: с ними не стоило бы вовсе и церемониться. Он скрутил бы их в бараний рог, и Нипиза явилась бы к нему сама, как полгода тому назад к нему явилась Мари. Но в них текла эта проклятая французская кровь; с Пьеро и Нипизой шутки были плохи.
А все-таки… Не попытаться ли?
Он угрюмо улыбнулся и сжал кулаки. В самом деле, разве у него не хватит на это сил? Разве Пьеро посмеет ему возражать? Если только Пьеро дерзнет на это, то он немедленно же выгонит его в шею с его участка, с того самого участка, который он получил в наследство от своих отца и деда, а может быть, и от еще более отдаленных предков. Он сделает из Пьеро простого бродягу и изгоя, как пустил он по миру уже и многих других, которые лишились его расположения. Никакой другой пост не примет от Пьеро его добычи и ничего не продаст ему, если он, Мак-Таггарт, зашельмует его имя. В этом-то и заключается его главная сила, факторский закон, который существует уже целые столетия. Это могущественная сила зла. Она отдала ему Мари, эту скромную черноглазую индианочку, которая ненавидела его всей душой и все-таки, несмотря на эту ненависть, была его «домашней хозяйкой». Это название было своего рода вежливым объяснением ее присутствия в его доме.
«Домашняя хозяйка»!
Буш Мак-Таггарт опять поглядел в свои выборки из главной книги. Участок Пьеро, составлявший по местным обычаям его полную собственность, оказывался очень ценным. За последние семь лет он получал за доставляемые им меха по тысяче долларов в год дохода, потому что Мак-Таггарт не осмеливался обсчитывать его так, как обсчитывал индейцев. По тысяче долларов в год!
Мак-Таггарт ухмыльнулся, свернул бумагу, на которой писал, и приготовился тушить лампу. Под коротко остриженными жесткими волосами его лицо раскраснелось от сжигавшего его внутреннего огня. Это было неприятное лицо – железное, безжалостное, вполне отвечавшее данному ему прозвищу «человек-дьявол». Глаза его засверкали, и, глубоко и коротко вздохнув, он загасил огонь. Направляясь в темноте к выходной двери, он усмехнулся опять. Нипиза во что бы то ни стало должна принадлежать ему. Она и будет ему принадлежать. Она будет его даже ценою жизни Пьеро. Да почему бы и нет? Ведь это так просто и так легко. Неожиданный выстрел исподтишка или удар ножом в грудь – и кто будет об этом знать? Кто сможет догадаться, куда девался Пьеро? И всякий скажет, что этому причиной был сам Пьеро, потому что он, Мак-Таггарт, в последнее свое посещение сделал честное и открытое предложение. Он хотел именно жениться на Нипизе. Да, он даже пошел на это. Он так и заявил об этом Пьеро. Он даже объявил Пьеро, что как только станет его зятем, то будет платить ему за доставляемые им меха двойную цену. И Пьеро заартачился. Он посмотрел на него такими странными, удивленными глазами, точно его ударили палкой по затылку. И вот если он не отдаст теперь за него свою Нипизу добровольно, то это уж не его, Мак-Таггарта, вина. Завтра он отправится к нему лично опять, а послезавтра Пьеро должен будет дать ему окончательный ответ.
Буш Мак-Таггарт опять ухмыльнулся и отправился спать. Мари встретила его со страхом.
Мак-Таггарт твердо решил, что ответ Пьеро должен повлечь за собою жизнь или смерть, и во всяком случае – для Пьеро.
* * *
До самого последнего дня Пьеро ни одним словом не обмолвился перед Нипизой о предложении фактора из Лакбэна. А теперь ему пришлось рассказать ей обо всем.
– Это зверь, а не человек, это сам дьявол, – закончил он свой рассказ. – Я скорее предпочел бы видеть тебя рядом с ней, покойницей. – И он указал на могилу своей жены под вековой сосной.
Нипиза не проронила ни звука. Но ее глаза расширились и потемнели, и на щеках у нее появился румянец, какого раньше Пьеро не замечал никогда. Когда он кончил, то она поднялась, выпрямилась, и ему показалось, что она как-то сразу вдруг выросла. Никогда еще она не выглядела такою женщиной, как в эту минуту, и Пьеро даже встревожился, когда увидел, с каким выражением она посмотрела на северо-восток, в сторону форта Лакбэн. Он обожал ее. Ее красота пугала его. Он уже давно подметил, какое впечатление она произвела на Мак-Таггарта. Он еще тогда заметил, как дрогнул у него голос. Он сразу же оценил то любострастное выражение и те чисто животные желания, которые вдруг появились на лице у Мак-Таггарта, когда он увидел Нипизу в первый раз. Сперва все это испугало его. Но теперь уж он не боялся. Он просто волновался и сжимал кулаки; в его душе еще не совсем погасло отвращение к этому человеку.
Наконец Нипиза подошла к нему и села рядом с ним у его ног. Пьеро положил свою мозолистую руку ей на голову. Он любил это делать. Он любил ее ласкать по волосам.
– Завтра он приедет сюда, моя дорогая, – сказал он и перевел глаза на красный солнечный закат. – Что я должен буду ему ответить?
Нипиза покраснела. Глаза ее заблистали. Но она не подняла их на отца.
– Ничего, отец, – ответила она, – за исключением разве только того, что ты должен был бы ему сказать: если он сватается ко мне, то пусть обратится именно ко мне, а не к тебе.
Пьеро нагнулся и не заметил ее улыбки.
Солнце садилось. Вместе с ним, точно холодный свинец, упало и сердце Пьеро.
* * *
От форта Лакбэн до хижины Пьеро дорога проходила в полумиле от заводи бобров, которая отстояла от того места, где жил Пьеро, в двенадцати милях. Именно в том самом месте, на повороте ручья, где Вакайю ловил для Бари рыбу, Буш Мак-Таггарт и расположился на ночлег. Только двадцать миль из всего пути он сделал на лодке, а так как последний перегон он совершал пешком, то весь багаж его состоял почти из ничего: несколько веток можжевельника для постели, легкое одеяло и костер – вот все, что требовалось ему для ночлега. Прежде чем сесть за ужин, фактор достал из своей небольшой сумки несколько силков из тонкой медной проволоки и целый час расставлял их в разных местах для кроликов. Этот метод добывания мясной пищи был гораздо удобнее и легче, чем таскать на себе в жаркую погоду ружье. В полдюжину таких силков всегда можно поймать не менее трех кроликов, причем из этих трех всегда окажется один молодой и нежный, годный для того, чтобы его изжарить. Расставив силки, Мак-Таггарт поставил на уголья сковородку с ветчиной и принялся за кофе.
Из всех запахов на воздухе запах от ветчины распространяется по лесу на наиболее широкое пространство. Для этого вовсе не нужно ветра. Он расползается сам собою. В тихую ночь лисица может его почуять за целую милю, а когда ветер дует по прямому направлению, то – и за две. Этот-то запах от ветчины и дотянулся до Бари, когда он лежал на гребне бобровой плотины. Его дотянул к нему легкий, настойчивый ветерок, так приятно задувший после непривычно жаркого дня, и не прошло и пяти минут, как Бари уже сидел на задних лапах и внюхивался в эту приманку. После его приключений в ущелье, повлекших за собою смерть Вакайю, он еще ни разу не ел как следует. Осторожность удерживала его около бобров, и он питался все это время почти исключительно одними раками.